В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке
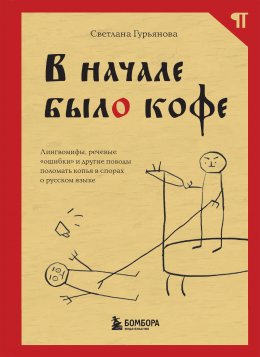
Серия «Абзац» – это книги, в которых лингвисты, филологи, литературоведы и литературные критики выражают современный взгляд на язык и литературу. Великий и могучий не стоит на месте, так что мы создали серию для всех, кому интересно следить за его развитием.
© Гурьянова С., текст, 2023
© Фото. razorenova_photo, 2023
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Предисловие
Стихотворение, которые вы только что прочитали, гипотетически могло быть написано 11 тысяч лет назад.
Но на самом деле написал его выдающийся русский лингвист В. М. Иллич-Свитыч и сделал это на праностратическом языке, над реконструкцией которого он работал. Праностратический язык – это предполагаемый предок индоевропейских (и русского в их числе), уральских, алтайских и, возможно, ряда других языков.
Эта книга – попытка пройти через реку времени и взглянуть на сегодняшние острые языковые вопросы с того берега, показав, насколько язык красив и изменчив.
Первая часть книги посвящена спорам о современном русском языке. Мы обсудим основные триггеры, которые «режут слух» современным пуристам, т. е. борцам за воображаемую «чистоту» языка (по-французски pur – «чистый»), и посмотрим на языковые явления объективно:
– «Зво́нит», «вкусное кофе», «присаживайтесь», «извиняюсь»… Правда ли, что это вопиющая безграмотность?
– Феминитивы – языковое уродство или необходимость?
– «Лол», «кек», «норм»: издевается ли молодежь над великим и могучим?
– Зачем нам «кейсы», «дедлайны» и «мастхэвы»? Неужели своих слов не хватает?
– Щитают ли лингвисты, что язык в интернете кагбэ деградирует?
Не стоит ждать от первой части книги поучений вроде «Надо говорить “догово́р”, а не “до́говор”; “кушают” только дети – и никак иначе; дома только “убирают”, а “убираются” – вон!». Моя цель – не научить, «как правильно», а показать, насколько сложно втиснуть язык в рамки непреложных законов и единственно верных вариантов. Но не ждите и восторга по поводу грубых ошибок и нарушений языковой логики, ведь они далеко не всегда продиктованы естественным изменением языка. Иногда ошибки – это действительно просто ошибки, и лучше их не допускать, чтобы быть правильно понятым.
Крайности и радикализм – то, чего мне хотелось бы избежать, и первая часть книги – поиск той самой золотой середины между языковым снобизмом и оправданием неграмотности.
А чтобы объяснить, как складывались современные языковые нормы, мне нужно будет часто обращаться к истории языка: например, рассказать, что губами раньше называли грибы, что сарафан, изба и хлеб – заимствованные слова и что у школьников XIX века был не менее изощренный жаргон, чем у современных.
Вторая же часть книги посвящена спорам о прошлом русского языка. В ней я буду отвечать уже не пуристам, а так называемым лингвофрикам – людям, которые придумывают и распространяют весьма занимательные, но совершенно ненаучные мифы о языке. Правда ли, что «бистро» – от русского слова «быстро»? Относили ли наши предки первый блин «комам» – медведям? Зашифровали ли Кирилл и Мефодий послание славянам в алфавите? Ответ-спойлер: «Нет!»
Многие спросят: «А судьи кто? Кем возомнил себя автор, чтобы критиковать известных альтернативных деятелей и объяснять, как нужно изучать язык?»
Отвечу: никем не возомнил. Я (в отличие от лингвофриков) не буду заявлять о собственных новых открытиях. Я лишь изложу мнение научного сообщества о «трудах» лингвофриков, опираясь на уже сформулированные до меня постулаты и подтверждая свои слова ссылками на научные работы.
Но показывать ошибочность лженаучных теорий, не предлагая ничего взамен, – сомнительная затея. Поэтому мы снова вместе пройдем через реку времени и даже получим представление об основах сравнительно-исторического языкознания, чтобы узнать истинное прошлое языка: как он возник, какова история славянской письменности, какое происхождение у слов и фразеологизмов на самом деле.
Итак, для кого эта книга?
– Для тех, кому интересен настоящий язык, а не стереотипы и мифы о нем.
– Для тех, кто хочет научиться аргументированно отвечать на придирки пуристов и поучения лингвофриков.
– Для самих пуристов, лингвофриков и им сочувствующих. Может быть, книга поможет если не отказаться от своих убеждений, то хотя бы о них задуматься.
Надеюсь, вы, читатели, не боитесь глубокой воды.
Часть 1
Между молотом пуризма и наковальней анархии: споры о современном русском языке
Глава 1
Язык – свод правил или живая система?
Если спросить школьника, что такое русский язык, он, скорее всего, ответит примерно так: «Это такой урок, где нужно зубрить правила».
Ответ закономерный: школьный предмет под названием «Русский язык» – это действительно изучение главным образом орфографии и пунктуации, то есть правил, необходимых для того, чтобы оформлять письменную речь грамотно. Историю же языка – его становление, происхождение слов, изменение грамматики, даже формирование тех самых правил – почти не рассматривают ни в школе, ни в вузе (за исключением профильных факультетов).
А еще на уроках русского языка мы привыкаем к простым ответам. Сами вопросы, которые рассматриваются в школьном курсе, предполагают именно их. Ну правда, нельзя же вставить разные буквы на место пропуска в слове «обл…ко». И крайне редко встречаются предложения, где знаки препинания допустимо поставить и так и эдак: обычно правильный ответ только один.
За одиннадцать школьных лет у нас формируется установка: все, что связано с языком, должно умещаться в рамки точных и строгих алгоритмов, несоблюдение которых карается двойкой и порицанием. И бывает очень трудно отойти от этого стереотипа, когда мы сталкиваемся с куда более сложными и менее однозначными вопросами ударения, словоупотребления, стилистики. Нам кажется, что и здесь должны быть четкие «правильно/неправильно»: не «зво́нит», а только «звони́т»; не «убираться», а «убирать»; «кофе» – только «он»…
Так и возникает представление о том, что есть какой-то «идеальный» язык, который ни в коем случае нельзя «портить», и состоит он из раз и навсегда установленных – и однозначных – правил. И что узнать этот язык, постичь все его глубины – значит выучить наизусть справочник Розенталя. Ведь именно он, справочник Розенталя, – эталон языка в палате мер и весов, и поэтому его нужно беречь как зеницу ока и охранять от любых изменений. Так в соцсетях и набирают тысячи лайков и комментариев посты с заголовками вроде «Какие слова вас бесят?» или «10 смертных грехов устной речи».
Но к лингвистике такой взгляд отношения не имеет.
Любой лингвист знает, что орфография и пунктуация – это искусственно созданные способы оформления устной речи на письме. Первичная же и по-прежнему главная форма существования языка – устная. Все мы сначала учимся говорить и только потом – писать; языки тысячелетиями существовали без письменности, а многие обходятся без нее до сих пор. И если письменную речь довольно легко ограничить рамками строгих норм и правил, то с речью устной это сделать куда сложнее. И устная форма бытования языка диктует одно из основных его свойств – изменчивость.
Да, изменчивость – совершенно нормальная черта любого живого языка. Как любят повторять лингвисты, не меняются только мертвые языки – то есть те, на которых уже давным-давно никто не говорит. Но русский язык к ним явно не относится, а потому в первой главе я предлагаю посмотреть на него как на живую систему – и убедиться, что он не муха в янтаре.
Дескриптивизм и прескриптивизм
Существует два основных подхода к языку – прескриптивный (от лат. prescriptio – «предписываю») и дескриптивный (от лат. descriptio – «описываю»).
Прескриптивизм – подход к языку, который ставит во главу угла фиксацию языковых норм и требование их исполнения. Он часто идет рука об руку с пуризмом – стремлением сохранить «чистоту языка», защитить его от всего нового: заимствований, сленга, неологизмов[3] и любых других изменений.
Но в современной лингвистике ведущим стал другой подход – дескриптивный, которого стараюсь придерживаться и я.
Дескриптивизм – это описание реальной языковой практики без пренебрежения к естественным изменениям языка, даже выходящим за рамки действующей литературной нормы. Дескриптивная лингвистика – это ответ не на вопрос «как надо?», а на вопросы «что это?» и «почему так?».
При этом языковые нормы, конечно, не бесполезны.
В определенных дозах и без перегибов прескриптивизм делает важное и нужное дело: он не дает языку развиваться слишком быстро. Зачем это нужно? Все просто: благодаря замедлению языкового развития мы можем читать тексты даже двухсотлетней давности без особых проблем. Да, значения отдельных слов мы можем не понимать, но общий смысл текста обычно оказывается ясен. Если бы не правила и необходимость им следовать, мы не смогли бы так легко прочесть Пушкина, ученым было бы сложнее разобраться в старых научных статьях, а историкам – расшифровать документы.
Еще одна важная роль прескриптивного подхода состоит в том, что он экономит нам силы и время. Представьте себе, если бы ведущие новостей говорили с диалектными особенностями, с множеством ненормативных ударений, своеобразных синтаксических конструкций – причем у всех они были бы разными. Мы бы тратили много усилий, чтобы «подстроить уши» под каждого ведущего, и это отвлекало бы нас от информации, которую они транслируют. Все же нельзя отрицать, что языковой стандарт в некоторых сферах жизни действительно необходим.
Кроме того, не стоит умалять труд лексикографов[4] и думать, что они игнорируют живую речь и составляют словари в соответствии с личными представлениями о прекрасном. Лексикографы (во всяком случае, добросовестные) не сочиняют нормы, а лишь фиксируют их, анализируя речь и записи грамотных людей. Но работа над словарем – долгий, кропотливый труд, который иногда растягивается на десятилетия. И именно поэтому словарные фиксации порой отстают от реальной жизни.
Потому что язык меняется и развивается, а вместе с ним и языковые нормы.
То, что раньше считали ошибкой, со временем вполне может стать нормой – настолько, что мы даже не догадываемся, что когда-то слово или выражение звучало иначе.
Например, «сентябрь» и «февраль» когда-то звучали как «септябрь»[5] и «феврарь»[6], ведь это заимствования, восходящие к латинским september (от лат. septem – «семь», т. к. год в Риме начинался с марта и сентябрь был седьмым по счету месяцем) и februarius (лат. «очистительный»: в феврале римляне приносили очистительные жертвы). А современные формы наши предки воспринимали, вероятно, примерно так же, как сейчас мы относимся к «транваю» вместо «трамвая» или «салафановому» вместо «целлофанового». Собственно, для известного поэта XVIII века А. П. Сумарокова слова «февраль» и «пролубь» были одинаково неправильными: «“Февраль” и “пролубь” говорим мы вместо “феврарь” и “прорубь” от порчи картавыми и подражающими всему тому, что новое, хотя оно и неправильно»[7].
Сложно представить, но когда-то «тарелка» была «талеркой» (от средневерхненемецкого talier с тем же значением)[8], «ладонь» – «долонью» (сравните с «дланью»)[9], а «сыворотка» – «сыроваткой» (от слова «сыр»[10])[11]. В этих словах произошла перестановка согласных, связанная, видимо, с удобством произношения, – или, по-научному, метатеза. Ровно тот же процесс произошел позже в диалектных «тверёзый» («трезвый») или «ведмедь» («медведь»), но они в норму уже не вписались. А ведь, если подумать, они ничем не хуже!
И по сей день существует немало употреблений, которые часто воспринимаются как ошибочные или странные, но на самом деле принадлежат к действующей строгой литературной норме, зафиксированной в словарях. Например, многие читатели сейчас удивятся, но с точки зрения норм верно спрашивать не «До скольки́ работает магазин?», а «До ско́льких работает магазин?», не «Скольки́ рабочим нужно выплатить зарплату?», а «Ско́льким рабочим нужно выплатить зарплату?», потому что слово «сколько» должно склоняться: «ско́льких», «ско́льким», «ско́лькими».
Или вот еще показательный пример: большинство говорит «власть предержащие», где «власть» стоит в винительном падеже («предержащие (что?) власть»). Но согласно словарям верно только «власти предержащие», где «власти» стоят в именительном падеже («власти (какие?) предержащие»). И в выражении должны склоняться оба слова: «властям предержащим», «властей предержащих», «о властях предержащих».
Почему так? Дело в том, что одно из значений устаревшего слова «предержащие» – «обладающие силой, господствующие»; оно и присутствует в крылатой фразе. А сама фраза – цитата из библейского послания апостола Павла к Римлянам, 13 глава которого по-церковнославянски открывается фразой
Я рассказываю об этом не для того, чтобы срочно научить вас, как правильно. Нет, я просто хочу показать, насколько условна и изменчива литературная норма[12].
Полагаю, еще больше вас удивит, что большинство даже современных словарей предписывает говорить «ворожея́», а не «вороже́я», «стопы́», а не «сто́пы» (в значении «нижняя часть ноги»), «курку́ма», а не «куркума́», «осве́домиться», а не «осведоми́ться», «кровоточи́ть», а не «кровото́чить», «сорва́ло», а не «сорвало́», «ра́зниться», а не «разни́ться»…[13] Этот список «странных» ударений можно продолжать долго[14].
Некоторые прескриптивисты строят вокруг знания этих норм всю свою деятельность. Хотите вести популярный блог или ютуб-канал о русском языке? Ловите инструкцию: возьмите орфоэпический словарь, найдите в нем странные ударения, а потом начинайте поправлять тех, кто говорит иначе, – то есть почти всех. Но акцент лучше сделать на известных людях: так вас быстрее заметят. Не забудьте рассказать, какие они тупые и безграмотные, как они издеваются над русским языком и как вас это бесит. Браво, вы великолепны.
Радикальные прескриптивисты считают, что говорить нужно только в соответствии со строгой словарной нормой, даже если ее уже не соблюдает почти никто. Зачем? Чтобы сохранить тот самый эталон русского языка – ведь если он изменится, то пошатнется одно из их базовых представлений о мире.
Когда прескриптивизм становится воинствующим, когда пуристы агрессивно исправляют чужие ошибки и ставят клейма «тупой» и «деревенщина» на тех, кто осмелился нарушить предписание словаря или не знать, как правильно – «плесневе́лый» или «пле́сневелый», ничего хорошего из этого не выходит. Такого рода прескриптивизм не только провоцирует нетерпимость и агрессию, но и уничтожает представление о языке как об очень сложной и постоянно развивающейся системе, которую невозможно втиснуть в строгие рамки и законсервировать. Кроме всего прочего, пуризм убивает интерес к языку, сводя его изучение к бездумной зубрежке.
И да, по словарям правильно «пле́сневелый». Вы можете это произнести? Лично я – с трудом.
Но недавно стало модным противоположное прескриптивизму движение: появились борцы, которые выучили это красивое слово (правда, не все удосужились запомнить, как оно правильно пишется) и стали пропагандировать языковую анархию. И они, надо сказать, бывают даже агрессивнее, чем граммар-наци. Стоит лишь заговорить о правилах или нормах (не поправить кого-то – боже упаси! – а просто начать об этих правилах рассказывать), как в ответ приходит: «Далой пресректевизм! Как я говарю, так и праильно!» Ошибок, с точки зрения таких борцов с прескриптивизмом, не бывает вовсе, а значит, абсолютно все, что не соответствует нормам, можно оправдать изменением языка.
Такой подход, конечно, тоже сложно назвать адекватным. И эти люди – явно не дескриптивисты, как они привыкли о себе думать.
На самом деле прескриптивизм и дескриптивизм – не полностью противопоставленные понятия. Это просто разные подходы, рассмотрение языка с разных точек зрения – но если в них нет радикализма, они вполне могут мирно сосуществовать.
Дескриптивизм – не отрицание норм и не позволение «говарить и песать как вздумаеца». Это описание языка таким, какой он есть, – в том числе его норм, потому что они тоже есть. Но дескриптивиста интересует не только и не столько сама норма, а то, как она складывалась, по каким причинам появилась и как может измениться.
Дескриптивизм – это не ликование по поводу любых ошибок («болиелимение», «кокошин эль»[15]) или новообразований вроде «доброго времени суток» или «членкиня». Потому что дескриптивист приветствует развитие языка (естественное, системное, соответствующее языковой логике), а не навязывание ему определенной лексики или правил употребления в угоду общественной повестке или извращенным представлениям об этикете.
Насильно внедрять в язык искусственно созданные новшества ничем не лучше, чем принуждать к соблюдению уже отживших свой век норм.
Агрессивные борцы с прескриптивизмом смотрят на язык очень плоско. «Све́рлит» и «платье в поедках» для них – ошибки одного толка. «Раз уж лингвисты говорят об оправданности пока еще не нормативного ударения “све́рлит”[16], значит, и “пайетки” можно заменить “поедками”», – рассуждают они. Такие люди представляют себе язык как идеально ровную стену из одинаковых кирпичей, каждый из которых можно легко заменить.
На деле же это не так, и ошибка ошибке рознь. Нужно понимать, что язык неоднороден и нестабилен – и дескриптивный подход это учитывает. Скорее язык можно сравнить с очень сложным, монументальным архитектурным сооружением, много раз перестраивавшимся, сделанным из разных материалов, где-то обветшавшим и с облупившейся штукатуркой, а где-то с еще не засохшей свежей краской. И все же прекрасным.
Как меняется язык
Какие-то нормы меняются довольно быстро, какие-то крайне медленно. Одни области языка более консервативны, другие постоянно обновляются, поэтому нельзя оценивать нарушения разных норм одинаково: объяснять все ошибки развитием языка или же, наоборот, считать, что любые отклонения от нормы как-то портят русский язык.
Давайте посмотрим на разные области языка и на то, как они менялись и продолжают меняться.
Очень быстро трансформируются некоторые области лексики.
Да, есть базисная лексика (слова вроде «я», «ты», «мать», «отец», «земля», «вода», «новый», «хороший», «дышать», «ходить» и т. п.), которая, как правило, не меняется тысячелетиями (разве что немного трансформируется в произношении). Но в язык постоянно приходят заимствования и неологизмы, да и значения привычных слов могут измениться. Знаете ли вы, что «амбициозный» человек даже в современных толковых словарях определяется как чрезмерно самолюбивый, чванный, спесивый и использовать это прилагательное в качестве нейтральной или положительной характеристики с точки зрения строгой нормы нельзя? Догадываетесь ли, что «одиозный» – это не харизматичный, яркий, необычный, эпатажный, а крайне неприятный (от фр. odieux «отвратительный»)? А «нелицеприятный» – вовсе не неприятный, а объективный, беспристрастный? Но это не значит, что если вы употребляете эти слова не в том значении, которое предписано справочниками, то совершаете преступление против русского языка. Нет – просто их значение меняется на наших глазах, и словарям нужно время, чтобы это зафиксировать.
Если вы замечаете у себя симптомы языкового пуризма, рекомендую почитать старые словари.
Возьмем, к примеру, «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» В. Долопчева (1909 г.)[17] – и обнаружим, что еще сто лет назад ошибочными считались такие привычные нам слова, как «блузка» (следовало говорить «кофточка»), «диспут» (вместо него нужно употреблять «спор»), «каллиграфия» (нужно говорить «чистописание»), «кулинарный» (лучше использовать «поварской»), «моментально» (следует заменить на «тотчас», «вмиг»), «постелить» (лучше говорить «постлать»), «профессия» (только «занятие» или «ремесло») и многие, многие другие. Но теперь мы пользуемся этими словами совершенно спокойно.
Еще больше удивительных норм можно обнаружить в словаре «постарше» – «Справочное место русского слова»[18] А. Н. Греча, изданном в 1843 году. Если бы автор попал на машине времени в 2023 год, он бы, скорее всего, решил, что русский язык мы с вами безнадежно испортили и что современные нормы (те самые, которые сейчас отстаивают пуристы) – на самом деле ужасные ошибки.
В 1843 году было правильно говорить и писать[19]:
– «азардный», а не «азартный»;
– «азиятский», а не «азиатский»;
– «волкан», а не «вулкан»: «вулкан» – это имя мифологического персонажа, а вулкан-гору нужно было писать через «о»;
– «гас», а не «газ»: «газом» можно было назвать только прозрачную ткань, а воздухообразное вещество – это только «гас», поэтому и освещение могло быть лишь «гасовым»;
– «дира», а не «дыра», ведь слово родственно глаголам «отдирать», «задирать»;
– «корридор», а не «коридор», ведь в иностранных языках оно пишется с двумя «р»;
– «мятель», а не «метель»;
– «надобно», а не «надо»: «надо» может быть использовано только как вариация предлога «над» в контекстах вроде «надо мною», а говорить «надо учиться» – неграмотно, следует использовать только конструкцию «надобно учиться»;
– «наизуст», а не «наизусть», ведь наречие образовано от слова «уста»;
– «нумер», а не «номер»: с буквой «о», по мнению Греча, слово стало писаться из-за знака № – но это всего лишь сокращение от латинского numero, поэтому и в «нумере» буква «у» должна сохраняться;
– «оплетать» (еду), а не «уплетать»: «уплетать» могло значить только «уходить», «удаляться»;
– «отверзтие», а не «отверстие», ведь слово родственно глаголам «отверзать», «разверзаться»;
– «пастет», а не «паштет»: видимо, Греч рекомендует такое написание потому, что слово происходит от немецкого Pastete;
– «почтилион», а не «почталион» (варианта «почтальон» Греч даже не приводит): скорее всего, такое написание обусловлено немецким Postilion;
– «ряхнуться», а не «рехнуться»;
– «стекляный», а не «стеклянный» (Какое еще исключение? Зачем фиксировать безграмотность? [это сарказм, если что]);
– «стора», а не «штора», потому что это заимствование из французского store;
– «ухищряться», а не «ухитряться»;
– «юпка», а не «юбка», ведь слово заимствовано из польского, где была jupka – производное от jupa («женская кофта, куртка»). У этого слова вообще очень интересная история: оно восходит через посредство европейских языков к арабскому «джубба» (разновидность традиционной одежды). От него же произошли «жупан», «зипун» и «шуба»[20].
В 1843 году нельзя было говорить «она хорошо выглядит» – только «она хороша собою». «Выглядеть» в норме значило только «разглядеть», а выражение «она хорошо выглядит» воспринималось как неуместная калька с немецкого.
Нельзя было сказать: «Я вас так люблю!» Слово «так» обязательно требовало пояснения: «Я вас так люблю, как еще не любил никого».
Сейчас многих раздражает слово «обезбаливать» вместо нормативного «обезболивать» – а в 1843 году людей, оказывается, раздражало «обрабатывать» вместо «обработывать», и тем не менее оно давно стало нормой.
Пара глаголов «обрабатывать»/«обработать» – точно такая же, как и «изготавливать»/«изготовить» и «забрасывать»/«забросить», которые сейчас тоже, кажется, ни у кого не вызывают протеста. А еще существует ряд глаголов, где чередование о/а в корне не подчеркнуто ударением, но, по сути, той же природы: «опаздывать»/«опоздать», «заглатывать»/«заглотить», «обматывать»/«обмотать», «осматривать»/«осмотреть» и так далее.
Сейчас то же чередование появляется и в паре «обезболивать/обезболить», и у людей, которые употребляют форму с «а», вообще-то хорошо развито языковое чутье, ведь они интуитивно применяют к слову то правило, которое уже работает в похожих глаголах. Похоже, скоро нормой станет именно «обезбаливать», а «обезболивать», подобно «обработывать», будет считаться странным анахронизмом.
Так есть ли смысл ломать копья из-за новых, непривычных слов или форм? То, что языку не нужно, уйдет само, а то, что по каким-то причинам (иногда одному языку известным) прижилось, все равно останется, несмотря на протесты.
Еще одна динамичная и неустойчивая область – орфоэпия (попросту говоря, нормы произношения и ударения).
Например, в старых фильмах, вышедших примерно до 60-х годов прошлого века, еще можно услышать произношение «дожжи» (вместо «дожди»), «церьковь», «я боюс»[21], но сейчас так почти никто уже не говорит. Многие примеры из словаря Греча, приведенные выше, тоже связаны с изменением орфоэпических норм («пастет», «наизуст», «волкан» и др.). И, конечно, ударения во многих русских словах подвижны, и даже самые грамотные носители языка часто в них сомневаются и говорят то так, то эдак – но на коммуникацию это почти не влияет. Можно говорить то «обле́гчить», то «облегчи́ть» – и все всё поймут.
При этом вряд ли кто-то скажет «книга́» или «те́лефон» – а если и скажет, это будет однозначно расценено как ошибка, которую никакими изменениями языка оправдать не получится.
Следом по шкале языковой устойчивости идут некоторые аспекты грамматики. Хотя в целом грамматика меняется медленно, существуют некоторые ее области, которые трансформируются быстрее других.
Например, род некоторых существительных. «Кроссовок» или «кроссовка»? «Туфель» или «туфля»? «Красивый тюль» или «красивая тюль»? «Шампунь» – он или она? А «мозоль»? И, конечно, тут не обойтись без многострадального «кофе». На всякий случай: сейчас считаются правильными «кроссовка», «ту́фля», «красивый тюль». «Шампунь» – он, а «мозоль» – она. Ну а вопросу о «кофе» будет посвящен целый раздел 6 главы[22].
Орфография же и пунктуация с естественным развитием языка связаны весьма опосредованно. Письменность – это изначально искусственный конструкт, специально созданный для записи речи, поэтому и про нарушения норм орфографии и пунктуации далеко не всегда можно сказать: «Это просто язык меняется!» Правила и нормы в этих сферах, конечно, тоже иногда трансформируются вслед за языком, но совсем не радикально и довольно медленно.
Любая условная система знаков обязательно должна быть унифицирована для того, чтобы ею было удобно пользоваться. Представьте, что будет, если, например, дорожные знаки нарисуют «как хочеца», без единообразия. Последствия ошибок на письме, разумеется, не столь катастрофичны, но на качество коммуникации, на отношение к пишущему и даже на скорость чтения влияют существенно.
Однажды я провела со своими учениками эксперимент: попросила их прочесть два небольших текста похожего стиля и объема, только один был написан грамотно, а второй – с многочисленными орфографическими и пунктуационными ошибками. Мы засекали по секундомеру, сколько времени потребуется на чтение каждого из них, а затем сравнивали результаты. Так вот: на чтение текста с ошибками у детей уходило времени примерно в полтора, а то и в два раза больше. Вопроса, зачем нужно учить правила, у них больше не возникало.
Да, иногда сложно отличить настоящее изменение нормы от банальной ошибки.
Как разобраться, где развитие языка, а где его коверканье? Для этого нужно знать, какие области языка мобильны, а какие консервативны, понимать, что соответствует языковой логике, а что нет. А чтобы развить такого рода чутье, нужно интересоваться лингвистикой и иметь примерное представление об истории языка, в том числе об истории изменения его норм. И, конечно, читать грамотные тексты и качественную литературу, а не комментарии в соцсетях в стиле «фуу прескректевизм».
Эта книга – во всяком случае, первая ее часть – попытка пройти между молотом и наковальней, между пуризмом и отрицанием норм.
Конечно, как и у всех, у меня есть личные языковые симпатии и антипатии, и полностью скрыть их мне вряд ли удастся, ведь я человек, а не база данных. Но я постараюсь быть объективной – а насколько у меня это получится, судить вам.
Глава 2
В Выхино или в Выхине? Разбираемся, почему слова перестают склоняться
Сейчас вам покажется, что я слишком далеко отхожу от поставленного в заголовке вопроса. Но на самом деле я просто хочу ответить на него максимально полно, так что не торопитесь с выводами и просто следите за ходом мысли.
Сравните два предложения с одинаковым содержанием на русском и на английском:
В коробку спряталась маленькая кошка.
A small cat hid in a box.
В них по-разному выражены грамматические значения (которые помогают нам понять сообщаемое): род, падеж, число и так далее.
В русском предложении:
– окончание – у в слове «коробку» выражает значение женского рода, винительного падежа и единственного числа;
– суффикс -л- в глаголе «спряталась» указывает на прошедшее время;
– окончание – а там же – на женский род и единственное число из-за согласования со словом «кошка»;
– приставка с- придает значение совершенного вида: то есть действие уже произошло, кошка уже залезла в коробку. Если убрать приставку, то получится, что кошка «пряталась» – искала место, еще не выбрала, куда именно будет прятаться;
– постфикс – сь – показатель возвратности глагола: так мы понимаем, что кошка сама залезла в коробку, а не кто-то ее туда посадил;
– окончание – ая в прилагательном указывает на именительный падеж, единственное число и на женский род из-за согласования со словом «кошка»;
– окончание – а в слове «кошка» выражает значение женского рода, именительного падежа и единственного числа.
Видите, как много грамматических значений «зашито» внутри слов в русском языке? А порядок слов имеет второстепенное значение – мы могли бы сказать: «Маленькая кошка спряталась в коробку», и смысл бы не изменился.
А в английском предложении внутри слова выражено разве что значение однократности и прошедшего времени глагола hid (кошка один раз спряталась, это случилось в прошлом), да единственное число существительных cat и box (при помощи нулевого окончания) – и, собственно, все. А вот падежей и грамматического рода в английском языке нет. Зато есть строгий порядок слов (если вы скажете «In a box hid a small cat», вас, может быть, и поймут, но сочтут неграмотным). С возвратностью глагола здесь тоже туго: hide – это ведь и «прятаться», и «прятать». Но смысл фразы мы все равно понимаем – просто благодаря другим языковым механизмам.
Такие противоположные способы выражения грамматических значений принято называть синтетизмом и аналитизмом, а языки – соответственно синтетическими и аналитическими.
Аналитические языки – это языки, в которых грамматические значения выражаются главным образом вне слова: с помощью порядка слов, интонации, предлогов, артиклей, вспомогательных глаголов и так далее. К преимущественно аналитическим относится, например, английский язык.
В синтетических языках грамматические значения выражаются в основном внутри самого слова – например, с помощью разветвленной системы окончаний и некоторых других частей слова. К такому типу языков относится и русский.
Нельзя сказать, что синтетические языки «лучше», «богаче» аналитических или наоборот. Просто это разные типы систем. Более того, языки могут переходить из одной системы в другую.
Так произошло с английским, где еще тысячу лет назад были и падежи, и грамматический род.
Возможно, когда-нибудь это произойдет и с русским. По крайней мере, сегодня в нем явно видна тенденция к аналитизму.
Тенденция к аналитизму
Некоторые области русской грамматики обнаруживают явный сдвиг от синтетизма к аналитизму.
Например, числительные начали явно терять склонение. «С 5678 рабочими» – как это выговорить? То есть можно, конечно, сказать «с пятью тысячами шестьюстами семьюдесятью восемью», но кто об этом знает, кроме филологов и школьников, натасканных на ЕГЭ? В реальности люди путают даже склонение относительно простых числительных и все чаще говорят, к примеру: «Скидки больше пятиста рублей» (нормативно – «пятисот»). А в некоторых конструкциях склонять числительные даже никому и не приходит в голову. Например, уже никто не скажет, что мороженое продают «по пяти рублей», – и не только потому, что таких цен давно нет, но и потому, что числительное в этой конструкции застыло в другой форме – «по пять рублей». Но у классиков вы можете легко найти подобные употребления[23]:
«…захотел лучше ехать в Россию, с условием, чтобы ему давали ежемесячно по десяти рублей жалованья, или около двух фунтов серебра».
(Н. М. Карамзин, «История государства Российского»: Том 6, 1811–1818 гг.)
«…не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка».
(Ф. М. Достоевский, «Господин Прохарчин», 1846 г.)
«Духи покупаешь по семи рублей за склянку».
(А. И. Куприн, «Яма», 1909–1915 г.)
То же самое происходит с фамилиями на – о вроде Шевченко или Короленко. «Сейчас прочла стихи Евтушенки в “Юности”», – писала Ахматова в 1966 году в своем дневнике. Не менее чудесно выглядят названия статей в сборнике о Михаиле Зощенко из серии «Мастера современной литературы» (1928 г.)[24]:
В. Шкловский. «О Зощенке и большой литературе»;
А. Г. Бармин. «Пути Зощенки»;
В. В. Виноградов. «Язык Зощенки».
Сейчас подобные употребления кажутся очень странными, но ведь когда-то говорили именно так – и, наверное, странным казалось подобные фамилии, наоборот, не склонять[25].
Появился и особый класс несклоняемых прилагательных, которые так и называют – аналитические прилагательные: «цвет беж», «картофель фри», «час пик». Обычные прилагательные склоняются вслед за главным существительным («о бежевом цвете», «о жареном картофеле», «о пиковом часе»), а аналитические прилагательные не меняются вовсе («цвету беж», «картофелем фри», «о часе пик»).
Некоторые лингвисты причисляют к аналитическим прилагательным и несклоняемые слова (или первые части слов), написанные через дефис: «пиар-агентство», «бизнес-класс», «интернет-магазин». Даже если считать их не прилагательными, а, например, существительными, утрата их склонения очевидна – хотя при употреблении отдельно они изменяются: «работать в пиаре», «говорить о бизнесе», «посмотреть в интернете».
Само количество падежей в русском языке по сравнению с древнерусским существенно сократилось. Это до сих пор заметно по рудиментарным окончаниям падежей, которые перестали существовать, слившись с другими.
Например, мы говорим «о лесе», но гуляем «в лесу», мечтаем «о рае», но мысленно пребываем «в раю», рассуждаем «о снеге», но валяемся «в снегу»… И в том, и в другом случае теперь используется предложный падеж, но с разными окончаниями, потому что форма на – у досталась по наследству от утраченного местного падежа. Но таких слов ограниченное количество: у большинства существительных окончание предложного падежа только одно («о парке» / «в парке»).
Исчез и так называемый звательный падеж – особая форма обращения. Сейчас он сохранился в устойчивых фразах «отче наш», «что тебе надобно, старче», «о боже» и некоторых других. Впрочем, буквально в последние лет сто появилась и новая звательная форма – обращения с нулевым окончанием: «пап», «мам», «Лен», «Маш», «Вань» и им подобные.
Функции падежей все больше переходят к предлогам, количество которых по сравнению с древнерусским, наоборот, увеличилось. В древних текстах можно найти множество беспредложных конструкций, которые сейчас кажутся странными: бысть пожаръ великъ Кыевh[26] («был большой пожар в Киеве»); томь же лhте («в то же лето»); надhяся Бозh («надеясь на Бога»); хощю пояти дщерь твою женh («хочу взять дочь твою в жены»); се отхожю свhта сего («вот, отхожу от света сего»)[27] и так далее.
Да что далеко ходить. Еще Пушкин писал: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире // Мой прах переживет и тленья убежит». А ведь сейчас мы скажем «от тленья».
Экспансия предлогов продолжается и в наши дни, причем особенно активен оказывается предлог «по»[28]. Отсюда и «учебник по русскому языку» вместо «учебника русского языка», и «ателье по ремонту одежды» вместо «ателье ремонта», «чемпионат по футболу» вместо «футбольного чемпионата» и раздражающая многих «оплата по карте» вместо «оплаты картой».
Нельзя назвать незыблемой и категорию числа.
Сейчас нам кажется естественным разделение на «один» и «много», а следовательно, существование только единственного и множественного числа. Но тысячу лет назад в древнерусском языке было еще и двойственное число – специальная форма для обозначения двух предметов или парных предметов.
Так, один месяц по-древнерусски – мhс#ць, несколько/много месяцев – мhс#ци, а два месяца – мhс#цꙗ. Поэтому в «Слове о полку Игореве» говорится: съ ними молода# мhс#цꙗ, Ольгъ и Св#тъславъ, тьмо\ с# поволокоста («с ними два молодых месяца, Олег и Святослав, тьмою заволоклись»). Остатки двойственного числа можно увидеть и сейчас: современное множественное число некоторых парных предметов и частей тела («берега», «рога», «рукава», «колени», «очи», «уши») – это на самом деле бывшие формы двойственного числа, закрепившиеся в языке потому, что они употреблялись чаще форм множественного. Собственно, понятно почему: они ведь называют то, что обычно встречается по два.
Множественное же число этих существительных в древнерусском языке выглядело так: берези, рози, рuкави, колhна, очеса, uшеса.
Так что же с Выхино? Или с Выхином…
Конечно, вы уже догадались: раньше топонимы склонялись и бесспорной нормой были «в Выхине», «с Выхином». Да и теперь она остается строгой и предпочтительной, хотя многие не просто ее игнорируют, но и считают безграмотной.
Однако вспомните название фильма «Дело было в Пенькове» или лермонтовское «и будет помнить вся Россия про день Бородина» и склоняйте «Выхино» на здоровье. Или не склоняйте – так тоже можно, но это разговорный вариант.
Вы замечаете, то что возник новый союз?
Возможно, заголовок кажется вам необычным. И неспроста: мы привыкли к конструкциям вроде «Вы замечаете, что возник новый союз?».
А может, вы и не заметили ничего странного. Это значит, что в вашей речи уже обосновался новый союз «то что». И не в последнюю очередь это могло произойти из-за той самой тенденции к аналитизму.
До недавнего времени сочетание слов «то» и «что» было возможно лишь в конструкциях такого типа (и только они по сей день считаются нормативными):
«Мне приснилось именно то, что терзало меня весь день».
«Он сказал мне все то, что хотел сказать уже давно».
«Ты видел то, что пролетело над домом?»
Здесь «то» – указательное местоимение, полнозначное слово. На него падает логическое ударение: «Я знаю (что?) то», «сказал (что?) то». И между «то» и «что» есть ощутимая пауза, на ее месте ставится запятая.
Но в какой-то момент (лет 10–15 назад) стало распространяться и вот такое использование «то что»:
«Мне приснилось, то что я утонул в луже».
«Он сказал, то что скоро вернется».
«Ты видел, то что над домом вертолет пролетел?»
Здесь «то» – уже не местоимение, не полнозначное слово, а часть союза. И «то» сливается с «что», между ними нет паузы, запятую ставить не хочется. Получается, «то что» использовано вместо одиночного «что» («Он сказал, то что скоро вернется» = «Он сказал, что скоро вернется»).
Дальше – больше…
Сначала новое «то что» присоединялось хотя бы к переходным глаголам – тем, которые в принципе сочетаются с объектом без предлога, как в предыдущем абзаце. Эти глаголы могли присоединять «то» и в качестве местоимения: неслучайно я проиллюстрировала разницу нормативных и новых конструкций, используя одинаковые глаголы.
А потом «то что» стало использоваться и после непереходных глаголов:
«Мы договорились, то что встретимся завтра» (норма: «договорились о том, что» или «договорились, что»).
«Я надеялся, то что он меня простит» (норма: «надеялся на то, что» или «надеялся, что»).
И вот уже Евгений Маргулис в песне с вполне аналитическим названием «ЭрЖэДэ блюз» поет:
- Сяду в скорый поезд,
- Восьмой вагон.
- Даже не расстроюсь,
- То что древний он…
А в заставке к мультфильму «Малышарики» звучит:
«Ничего такого, то что нос не дорос».
Как говорится, сгорел сарай – гори и хата! И «то что» начинает присоединяться к фразам… где уже есть «то»:
«Спасибо за то, то что помогли!»
«Кончилось тем, то что пришлось вернуться домой».
«Дело в том, то что я не смог до вас дозвониться».
Такое употребление тоже появляется в песнях. Так, исполнитель с занимательным псевдонимом Pussykiller поет в песне «Папа»:
- Я закидываю в бокал лед,
- Но мой интерес в том, то что не мое.
Но самый любопытный вопрос – почему все это стало происходить. Никто точно не знает, но я могу высказать предположения.
Посмотрите на другие подчинительные союзы: «потому что», «оттого что», «вследствие того что», «в силу того что», «несмотря на то что», «в связи с тем что», «так что», «для того чтобы», «так как»…
В состав всех этих союзов входят бывшие указательные местоимения или наречия.
В некоторых из этих союзов часть «то» или «так» совсем потеряла исходный смысл (или грамматикализовалась / подверглась грамматикализации, если говорить на лингвистическом). Что значит «так» в союзе «так как»? А «тому» в «потому что»? Да ничего они уже не значат, мы их отдельно в этих союзах не воспринимаем (и не исключено, что на заре своего существования они тоже казались избыточными и уродливыми).
Мы даже легко можем присоединять эти союзы к предложениям, где указательное слово уже есть:
«Он поступил именно так, так как не мог иначе» (предложение из-за двойного «так» звучит не очень красиво, но грамматически корректно).
«Я сказал об этом, потому что не мог иначе» (а здесь вообще все прекрасно).
Вот и «то» в «то что» постепенно грамматикализуется, становится частью союза и теряет связь с указанием.
И склонение тоже теряет, застывая в одной форме «то», что тоже типично при грамматикализации – и для слов, попавших под влияние тенденции к аналитизму.
Посмотрите еще раз на список союзов из предыдущего пункта. Заметьте: львиная доля из них оканчивается на «что». И все они могут интонационно как разделяться, так и сливаться (и соответственно либо разделяться запятой, либо полностью входить в придаточную часть).
То есть возможны такие пары предложений:
На этом фоне такая пара: «Я знаю только то, что ничего не знаю» / «Я знаю, то что ничего не знаю», – выглядит уже не очень-то и странно, не правда ли?
«То» в новом «то что» кажется многим избыточным. Зачем говорить: «Знаю, то что он придет», – если можно сказать «Знаю, что он придет»?
Но смотрите: есть союзы и устойчивые выражения, в которых «то» может присутствовать, а может и опускаться. Поэтому вполне нормальны такие пары:
Отчего-то мы не считаем, что «то» здесь избыточно, а ведь его тоже можно отбросить.
Так почему не стать нормальными и таким парам: «Мне приснилось, что я утонул в луже» / «Мне приснилось, то что я утонул в луже»?
С точки зрения пунктуации (и интонации) новое «то что» многих ужасает: ну как же так, ведь в школе учили, что перед «что» всегда должна стоять запятая! Кажется, что отсутствие запятой даже может сбивать при чтении.
На самом деле такая запятая ставится совсем не всегда. Вот несколько примеров:
«Ну и что все это значит?»
«Вот что за погода сегодня – и дождь, и град!»
«Нам нужно найти его во что бы то ни стало».
«Рассвирепев, он швырял в стороны что попало».
«Миша продолжал смотреть мультики, несмотря на то что уже было поздно».
В языке есть и прецедент, где даже «то» и «что» ни запятой, ни паузой не разделены. Посмотрите на строки Бродского:
Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
города, человеков, но для начала зелень.
Да, выражение «не то что…, а» («не то что…, но») имеет другой смысл, но интонация-то такая же – без паузы между «то» и «что».
На самом деле даже для экспансии того самого «то что» языковые прецеденты есть. Точнее, были.
Похоже, в XVIII веке это сочетание употреблялось шире, чем сейчас:
«Думают о нем то, что он сумасшедший».
(А. П. Сумароков, «Вздорщица», 1770 г.)
«И помни то, что я тебя люблю!»
(М. Д. Чулков, «Пересмешник, или Славенские сказки», 1766–1768 гг.)
«Или забыла уже то, что он другую обожает?»
(Д. И. Фонвизин, «Иосиф» [перевод поэмы П. Ж. Битобе с французского], 1769 г.)
«Поздравлением нашим означаем то, что мы день рождения Вашего почитаем днем нашея радости».
(Архиепископ Платон [Левшин], «Поздравительныя речи Ея Императорскому Величеству и Его Императорскому Высочеству», 1763–1776 гг.)
«Петр Великий пил здаровье польскаго [короля] и, пожав ему руку, говорил: “Да здравствует то, что мыслим мы”».
(А. А. Нартов, «Рассказы о Петре Великом», 1785–1786 г.)
«Но во время танцования они видом давали знать друг другу то, что их сердца к любви склонны, хоть на словах того никому не объявили».
(История о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королевне Ренцывене, 1787 г.)
«Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком».
(Н. М. Карамзин, «Наталья, боярская дочь», 1792 г.)[29]
И подобных контекстов довольно много. Они не то чтобы ненормативны – но ведь теперь такие предложения привычнее звучат без «то».
Возможно, распространение «то что» переживает сейчас вторую волну – с другой интонацией и с гораздо более широким употреблением, но все же. А вот почему именно сейчас и почему так быстро – вопрос, на который вряд ли найдется ответ.
Конечно, новое «то что» может коробить. И это естественно: любое изменение языка часто воспринимается носителями в штыки, особенно если оно такое стремительное. Но сравнение с другими конструкциями показывает, что использование нового «то что» вполне сравнимо с употреблениями других, уже привычных нам союзов. По-видимому, с ними давным-давно произошло примерно то же самое, что происходит сейчас с «то что».
Здесь можно было бы возразить и привести в качестве контраргумента идею, известную как закон речевой экономии (или экономии речевых усилий): ведь лень, как известно, двигатель прогресса, и в языке это тоже работает.
Этот закон – важнейший двигатель развития языка, и он заключается в том, что для говорящего естественно сводить к необходимому минимуму речевые усилия и языковые средства и использовать их ровно в том количестве, которое требуется, чтобы его речь была правильно понята. Именно поэтому мы, иногда сами того не замечая, говорим «чек» вместо «человек», «пасип» вместо «спасибо» и «драсьте» вместо «здравствуйте». По этой же причине мы в разговоре используем «пять килограмм помидор» вместо «пять килограммов помидоров» (а не потому что мы безграмотные), «электричка» вместо «электрический поезд»… И, казалось бы, должны говорить простое «что» вместо «то что».
Почему же союз, наоборот, удлинился за счет дополнительного «то»? Это ведь «неудобно».
Дело в том, что закон экономии – далеко не единственный закон, который влияет на развитие языка. Был бы он единственным, мы бы давно перешли на мычание.
Есть и много других законов – например, закон аналогии: иногда языковые формы начинают вести себя по шаблону и приближаются к схожим языковым формам. Например, слово «кофе» стремится быть не мужского рода, а среднего – по аналогии с другими существительными на – е («солнце», «пение», «ложе» и так далее).
Так и новое «то что» тоже подвергается закону аналогии и начинает вести себя по шаблону других союзов.
Спровоцировать появление «то что» могли и закон аналогии, и тенденция к аналитизму – а может, они сработали вместе. Скорее всего, наши правнуки будут говорить «то что» вместо «что», для них это станет нормой. И ничего ужасного в этом нет: просто система союзов станет немного разнообразнее и стройнее. Нам же остается только включать внутреннего лингвиста и радоваться, что на нашу долю выпало счастье наблюдать в реальном времени ни много ни мало рождение нового союза.
А вот говорить на русском аналитическом языке наши правнуки все же не будут. Тенденция к аналитизму, начавшись еще в древности, сейчас только набирает обороты. И никто не знает, приведет ли она когда-нибудь к потере словоизменения или заменится какой-нибудь другой тенденцией, но пока она, безусловно, значима.
Глава 3
Заимствования – зло или обогащение языка?
«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. К чему говорить “дефекты”, когда есть “недочеты”, или “недостатки”, или “пробелы”?.. <…> Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?»
Как вы думаете, кто автор этих слов?
Нет, не современный борец «за чистоту языка». Эти строки написал Владимир Ильич Ленин – в заметке «Об очистке русского языка» в 1919 или 1920 году[30]. То есть сто лет назад.
Испортился ли за это время русский язык? Нет. Изменился ли? Безусловно. Но хуже от этого он явно не стал.
В этой главе мы разберемся, какое место в языке занимают заимствования и так ли «непатриотично» использовать их в своей речи. А еще обнаружим, что многие слова, которые сегодня нам кажутся привычными и родными, на самом деле когда-то очень давно пришли из других языков и, возможно, раздражали людей точно так же, как сейчас кого-то раздражают «кейс» или «пойнт».
Галлопередоз
Прежде всего предлагаю вспомнить те периоды в истории русского языка, когда волна заимствований была куда мощнее, чем сейчас. При этом язык не просто выстоял, но стал еще богаче.
Так, в XVIII – начале XIX века люди были подвержены галломании – моде на все французское, в том числе и на язык. Помните длинные разговоры аристократов в «Войне и мире», написанные на французском языке? Или Татьяну из «Евгения Онегина», которая «по-русски плохо знала, // Журналов наших не читала // И выражалася с трудом // На языке своем родном» и поэтому писала письмо Онегину по-французски[31]?
Частой была и ситуация, когда в русскую речь вставляли французские слова за неимением точного аналога в родном языке. И речь идет не просто о заимствованиях, которые перешли в русский язык, встроились в его систему и переняли его грамматические показатели, как, например, какой-нибудь «ноутбук», который стал обычным существительным мужского рода 2 склонения и приобрел соответствующие окончания – «ноутбука», «ноутбуку», «ноутбуком» и так далее, да еще и поменял ударение (в английском он «но́утбук»). Речь именно о скачках с русского на французский, как это иронично делает Пушкин в том же «Евгении Онегине»:
- Все тихо, просто было в ней,
- Она казалась верный снимок
- Du comme il faut…[32] (Шишков, прости:
- Не знаю, как перевести.)
Шишков, которого здесь насмешливо упоминает Пушкин, – адмирал, писатель, публицист, министр народного просвещения и известный пурист того времени. Он активно выступал против заимствований и ратовал за сохранение славянизмов – слов и выражений, пришедших из церковнославянского языка («абие», «аще», «оный», «сие», «дебелый», «присно», «велелепие»), хотя сам употреблял далеко не все из них. Ему приписывают фразу – «Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой» («франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком»). Он ее, конечно, не говорил, но идеи Шишкова она, хоть и в гротескной форме, передает неплохо.
Если бы к Шишкову и его сторонникам прислушались, в русском языке не было бы таких заимствований из французского, как «абажур», «аванс», «авантюра», «автограф», «автомат», «агроном», «ажиотаж», «ажур», «акварель», «аккомпанемент», «аксессуар», «акт», «аллея», «альбом», «альянс», «амплуа», «амулет», «ансамбль», «антракт», «антресоль», «антураж», «анфилада», «апартаменты», «аплодисменты», «апломб», «аранжировка», «аспирант», «ассортимент», «афера», «афиша»…
Я сейчас перечислила заимствования XVIII – первой половины XIX веков только на первую букву алфавита (и то далеко не все), чтобы вы представили масштаб потока иностранных слов в то время.
Не было бы и многочисленных ка́лек с французского, то есть слов и выражений, переведенных по частям или полностью:
– впечатление (от фр. impression, где im – «в», pression – «печатанье»)[33];
– трогательный (от фр. touchant – «трогательный», которое, в свою очередь, образовано от глагола toucher – «трогать, касаться»)[34];
– насекомое (от фр. insecte из лат. insectum, первонач. – «насеченное, с насечками [животное]»)[35];
– дневник (от фр. journal – «поденный», «ежедневный», от jour – «день»)[36];
– утонченный (от фр. raffiné — «очищенный, утонченный»)[37];
– бросить в лицо (в значении «прямо и смело высказать что-то неприятное» – от фр. jeter à la face)[38];
– гадать на кофейной гуще (от фр. lire dans le marc de café)[39];
– сказать сквозь зубы (от фр. parler entre ses dents)[40];
– это делает честь кому-то (от фр. cela fait honneur à qn)[41];
– рыцарь без страха и упрека (от фр. chevalier sans peur et sans reproche)[42];
– называть вещи своими именами (от фр. appeler les choses par leurs noms)[43];
– быть не в своей тарелке (от фр. n’être pas dans son assiette)[44]. Любопытно, что это выражение возникло из-за неправильного перевода слова assiette, которое значило не только «тарелка», но и «посадка, положение тела при верховой езде» – поэтому французская фраза переводится как «быть не в своем (обычном) положении», то есть «потерять равновесие, устойчивость».
Особенно претило Шишкову слово «вкус» в значении «чувство прекрасного» («у него хороший вкус», «музыкальный вкус», «одеваться со вкусом») – тоже калька с французского goût[45]. В «Рассуждении о старом и новом российском слоге», самом известном своем труде, Шишков посвятил слову «вкус» несколько страниц, потому что «каким образом можно себе представить, чтоб вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке, или в платье, или в какой иной вещи?»[46]
Похоже на современные выпады против необычного использования слова «вкусный» («вкусный текст», «вкусная история»), не так ли? Признаюсь, что я и сама была к ним причастна – но осознав родство душ с Шишковым, поумерила прескриптивистский пыл. В конце концов, говорим же мы о ребенке, что он сладкий; о занудном человеке, что он душный; о решении, что оно свежее… Вот и «вкусный текст» – такая же, в сущности, метафоризация.
По сравнению с нынешней волной англицизмов, галломания XVIII – начала XIX веков кажется настоящей катастрофой. Именно на французском дворяне рассуждали о политике и объяснялись в любви: русский язык казался для таких разговоров слишком грубым, к тому же не обладающим необходимой лексикой. Не писали по-русски и научные сочинения: основным языком науки была латынь, также выходили работы на французском и на немецком. Происходило это по двум причинам: во-первых, сочинения на иностранном языке были доступны для чтения зарубежным коллегам, а во-вторых, в русском языке долгое время просто не было нужной научной терминологии.
Языку угрожает опасность только тогда, когда на нем не получается выразить всякую мысль – и он вытесняется из некоторых сфер общения.
И в XVIII веке русский язык к такой тревожной ситуации приблизился (во всяком случае, в среде образованных людей). Но все равно выстоял.
И, как ни парадоксально, сделал он это в том числе благодаря заимствованиям. В русском языке действительно не хватало слов для выражения многих ставших актуальными в то время понятий, и заимствования, органично в него интегрированные, пополнили лексику и помогли носителям остаться именно в рамках русского языка, а не перейти полностью на иностранный.
Так что заимствования в разумных количествах – очень полезная вещь. Необоснованные обвинения в порче языка из-за них были всегда – но и заимствования тоже были всегда. Потому что заимствования – часть любого живого языка, носители которого не изолированы от внешнего мира.
Ненужные заимствования язык все равно отбросит, а нужные его только обогатят. Критик В. Г. Белинский мудро подчеркивает эту мысль, иронизируя над взглядами А. П. Сумарокова – поэта и видного пуриста XVIII века: «Сумароков смеется над словами: фрукты, сервиз, антишамбера, камера, сюртук, суп, гувернанта, аманта, дама, валет, атут (козырь), роа (король), мокероваться, элож (похвала), принц, бурса, тоалет, пансив (задумчив), корреспонденция, кухмистр, том, эдиция, жени (то есть гений; под жени Сумароков понимал остроумие), бонсан (здравый смысл; Сумароков переводит рассуждение), эдюкация, манифик, деликатно, пассия[47].
Однако ж если многие из этих слов вывелись из употребления, зато многие и остались; гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить»[48].
Слова, которые оказались «приемными»
Если заглянуть в этимологические словари, можно выяснить, что многие привычные нам слова, кажущиеся что ни на есть русскими, исконными, тоже когда-то давно были заимствованы.
хлеб
Возможно, многим из вас знакомы эти строки Сергея Михалкова из стихотворения «Быль для детей»:
- «Нет! – сказали мы фашистам, —
- Не потерпит наш народ,
- Чтобы русский хлеб душистый
- Назывался словом “брот”».
Так вот: лингвисты любят над ними подтрунивать, потому что «хлеб» – заимствование. Да не откуда-нибудь, а из германских языков: в готском находим hlaifs, в древневерхненемецком – hleib с тем же значением[49]. Сейчас в заимствование трудно поверить, потому что оно произошло очень-очень давно – еще в праславянскую эпоху, до разделения славянских языков.
Те, кому очень не по душе факт заимствования слова «хлеб», могут возразить: «Так что же, славяне свой хлеб печь не умели?» Но нет же, скорее всего, умели – просто германское слово, видимо, обозначало хлеб, изготовленный по другому рецепту или по новой технологии, которая была заимствована вместе со словом.
суп
Да, такое, казалось бы, традиционное русское блюдо и обязательная, по мнению наших бабушек, часть обеда – это заимствование XVIII века из французского, но восходит оно тоже к соответствующему слову из германских языков. На готском supôn – «приправлять»: получается, буквально суп – кушанье, сдобренное специями[50].
пельмени
А это заимствование из финно-угорских языков, где «пель» – «ухо», а «нянь» – «хлеб». Выходит, пельмени – это «хлебные ушки»[51].
помидор
Это слово восходит к итальянскому роmо d᾽оrо («яблоко из золота») и исторически родственно «помаде»: помадой изначально называли лечебную мазь из яблок[52]. Второе название помидора – «томат» – еще экзотичнее: оно пришло, как и сам овощ, от ацтеков[53].
огурец
Соленый огурчик – это ведь наше, исконное! Ан нет: название овоща позаимствовано у греков. Их ἄγουρος («агурос»), в свою очередь, образован от слова ἄωρος («аорос») – «неспелый», «несозревший»[54]. А ведь и правда: огурцы вкусны, только пока они не пожелтели, не созрели окончательно.
собака
Не совсем ясно, откуда к нам пришло это слово – скорее всего, из иранских языков. Но это факт: во времена князя Владимира его никто не знал. И четвероногих друзей, и нехороших людей тогда называли псами[55].
лошадь
И этого слова во времена первых русских князей еще не было. Если бы вы спросили у древнерусского воина: «Где твоя лошадь?» – он бы вас не понял. Тогда знали только слова «конь» и «кобыла», а «лошадь» – заимствование из тюркских языков, где «алаша» значит «конь, мерин»[56].
князь
Это давнее заимствование из германских языков (в праславянскую эпоху, то есть до разделения славянских языков, таких заимствований было довольно много). По-древневерхненемецки kuning – «старейшина рода» (от kuni – «род»)[57].
царь
А это слово – не что иное, как измененное веками употребления и переходов из языка в язык имя Гая Юлия Цезаря. Слово «цезарь» перешло в разряд нарицательных и стало употребляться как титул уже во время правления Октавиана Августа, его внучатого племянника. Из латыни слово проникло в другие европейские языки. Отсюда же, кстати, слова «кайзер» и «кесарь».
В древнерусском языке слово первоначально употреблялось в варианте цhсарь, но позднее немного сократилось[58]. На Руси правители периодически называли себя царями, но первым официальным «Царем Всея Руси» стал только Иван Грозный в 1547 году.
богатырь
Нет, это не тот, кто, по выражению Михаила Задорнова, «Бога тырит» (о подобных теориях читайте во второй части книги). «Богатырь» – заимствование из тюркских языков: могучего воина там называли «багатур»[59].
шлем
Ошеломительно, но «шлем», или, как сказали бы древнерусские богатыри, «шелом», заимствован из германских языков (в древнегерманском шлем звучал как helmaz, в готском как hilms) и в буквальном переводе обозначает «то, что защищает»[60]. И да, «ошеломить» в первоначальном значении, по всей видимости, – «сильно ударить по шлему». Сравните с «поразить» – ведь это буквально «нанести удар», с «потрясти» – «несколько раз тряхнуть». Первоначально эти глаголы имели вполне конкретное значение физического воздействия, но позже приобрели значение «удивить»[61].
шапка
Слово «шапка» появляется в русском языке только около XIV века. А произошло оно от старофранцузского сhаре (в современном французском – chapeau), которое, в свою очередь, восходит к латинскому сарра – «головной убор»[62].
шуба
Сложно поверить, но у этого слова, буквально пропитанного духом русской зимы, южное происхождение: «джубба» – арабское название верхней одежды. Попало слово к нам благодаря европейским языкам. Как я уже отмечала, от этого же арабского слова, но через посредство других языков и с иными изменениями звуков, произошли «юбка», «жупан» и «зипун»[63].
кафтан
Еще одно слово, которое пришло с Востока: в тюркских языках находим kaftun – «длинное верхнее платье, халат»[64]. Слово «кафтан» начало употребляться даже позже, чем «шапка», – только с XV века.
сарафан
И это слово пришло из тюркских языков, а туда попало из персидского, где serāpā – «почетная одежда»[65]. Между прочим, у нас «сарафан» первоначально употреблялся в значении «длинный мужской кафтан». Например, в сарафане ходил царь Михаил Федорович.
терем
Название типично русской постройки – вероятнее всего, заимствование из греческого, где слово со значением «дом, жилище» произносилось как τέρεμνον («теремнон»).
церковь
Надеюсь, читатели не обвинят меня в оскорблении чувств верующих, но… «церковь» – тоже заимствование от германского *kirkō или *kirikō[66], а оно, в свою очередь, от греческого κυριακόν («кюриакон») – «господнее»[67]. В древних славянских текстах вы встретите не только слово «цьркы» («церковь»), но и «кърькы»[68], и тогда родство этого слова с немецкой «кирхой» станет очевиднее. А соответствие «к» и «ц» в этих словах примерно такое же, как в «кайзере» и «царе».
изба
Вот уж, казалось бы, самое русское из русских слов! Тем не менее это заимствование из германских языков, где было слово *stubа – «помещение с печью или баня»[69]. Отсюда же современное немецкое слово Stube – «комната». Как и в случае с хлебом, заимствование совсем не значит, что славяне не строили избы: просто, видимо, избой назвали какой-то новый вид постройки. Точнее, «истъбой» – именно так сначала выглядело древнерусское слово.
Сложно поверить, но когда-то все эти слова были так же чужды нашим предкам, как многим сейчас – «хайп» или «газлайтинг».
И, вопреки устойчивому мнению, обилие давних заимствований из греческого, германских и тюркских языков вовсе не говорит о том, что у славян был низкий уровень культуры и они не знали предметов, обозначаемых иностранным словом. Поэтому поговорим о том, зачем вообще нужны заимствования.
Нам что, своих слов не хватает?
Скорее всего, вы уже поняли: да, иногда действительно не хватает.
И вот в каких случаях мы заимствуем слова из других языков:
1. В родном языке нет аналога. Самый очевидный, но далеко не самый частый случай заимствования. Такие слова заимствуются вместе с предметом или явлением: когда в нашу жизнь приходит какое-нибудь иностранное изобретение, проще использовать то название, которое ему уже придумали на другом языке и под которым это изобретение стало известно в мире, чем сочинять свое. Например, так русский язык недавно заимствовал слова «мессенджер», «смартфон» или «хештег».
2. Аналог вроде бы есть, но он слишком неудобный. Громоздкий или труднопроизносимый. И тут вступает в силу закон речевой экономии: согласитесь, гораздо проще, особенно в устной речи, сказать «капслок» или просто «капс», чем употреблять словосочетание «прописные/большие буквы». Сказать «лайк» легче, чем «значок сердечка» или «кнопка “нравится”», «скрин» – проще, чем «снимок экрана», «кейс» – куда быстрее, чем «случай из практики, который наглядно демонстрирует какую-либо теорию».
3. Аналог не вполне точно отражает то значение, которое есть у заимствования. «Ресепшен», вопреки утверждениям из пуристских словариков, – это не то же самое, что «приемная». «Фуд-корт» – не то же, что «столовая». А «презерватив», вопреки заявлениям Владимира Жириновского, – не «предохранитель».
Приведу его очень показательную цитату полностью:
«Постоянно звучат иностранные слова. Дилер – посредник, бутик – лавка, мутон – овчина, от французского “овца”. Трейдер, сейл – ну что это такое? Вот менеджер – это приказчик! Презерватив – предохранитель. Я бы и слово “парикмахер” заменил. Кафе, бар, ресторан? Закусочная – вот прекрасное слово! Забежал, закусил, все понятно»[70].
Ну, что тут скажешь? Очень своеобразное предложение от прежнего лидера либерально-демократической партии. Но почему-то не «свободно-народного собрания»…
4. Аналог есть, но он оброс неприятными или не вполне уместными оттенками значения. «Клинер» звучит куда более нейтрально, чем «уборщица»: когда говорят «уборщица», представляется измученная женщина в грязном халате, а «клинер» – будто бы специалист с инновационными средствами для удаления пятен и новейшей моделью пылесоса.
Или у слова «модель» не так давно появился и другой смысл (помимо значения «образец»): так стали называть девушку, которая демонстрирует одежду на модных показах. Это слово пришло на смену «манекенщице», и неспроста: когда мы говорим «манекенщица», представляется дама, демонстрирующая наряды в Доме культуры, а чтобы рассказать о Кейт Мосс или Наталье Водяновой, хочется использовать другое слово, не нагруженное такими «советскими» ассоциациями.
5. Аналог перегружен большим количеством разных значений. В таком случае проще заимствовать иностранное слово, чем точно переводить его и прибавлять к уже существующим смыслам еще один. Например, так было заимствовано слово «сторис» (или «сториз»; слова нет в словарях, поэтому пока никто не знает, как писать). Его можно было бы перевести как «история», и некоторые так и делают, но тогда фразы вроде «Как тебе мои истории?» или «Больше всего люди любят истории об обычной жизни» начинают звучать слишком двусмысленно. «История» – очень многозначное слово: это и рассказ («рассказать смешную историю»), и ход развития чего-то («история нашей дружбы»), и наука («история Средних веков»). Поэтому в блогерской среде все же чаще используют слово «сторис»: это отдельное конкретное явление, для которого хочется иметь свое название.
6. У аналога нет необходимой сочетаемости. Лингвист Светлана Бурлак в лекциях часто приводит в пример слово «спонсор»[71]. Вроде как есть слово «меценат» (тоже заимствованное, но давно освоенное языком) – казалось бы, зачем еще и «спонсор»? Но проблема в том, что быть «меценатом чего-то» нельзя: не присоединяет это слово зависимые слова в родительном падеже (мы не говорим «меценат галереи» или «меценат выставки»).
Конечно, отличие мецената от спонсора еще и в том, что меценат оказывает помощь людям науки и искусства безвозмездно, а спонсор выделяет деньги ради рекламы. «Пиво “Балтика” – меценат футбольного матча» звучит довольно странно.
Можно было бы, конечно, расширить значения и сочетаемость слова «меценат», но язык распорядился иначе: видимо, оказалось необходимым разграничить «мецената» и «спонсора».
7. Аналог не такой яркий и звучный. Словечки вроде «хайп» делают высказывание эмоциональнее и резче, а с привычными «шумихой» или «ажиотажем» такого эффекта достичь не получится.
Конечно, злоупотребление новыми заимствованиями (какой-нибудь «брифинг о нейминге и кейсах продакшена») может звучать комично. Но и совсем отказываться от заимствований тоже нецелесообразно: речь без них станет пресной, как овсянка на воде.
А вот таблички в пуристских пабликах о русском языке, на которых перечеркнуто какое-нибудь заимствованное модное слово и вместо него предложено употреблять только привычные исконные аналоги («хейтер – злопыхатель, завистник, недоброжелатель, ненавистник, злословец, разжигатель ненависти»), вызывают только усмешку: кажется, что «недоброжелатели и злословцы» должны быть непременно «в мокроступах и с растопыркою».
Глава 4
Сленг – норм тема или отстой?
«Лол кек», «рарный айтем», «сасная тян»… Услышав нечто подобное в речи подростков, многие взрослые негодуют, воздевают руки к небу и восклицают примерно следующее: «Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык?»6[72]
Между тем это написал еще в 1828 году критик М. А. Дмитриев – да не о чем-нибудь, а о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Испокон веков в каждом поколении обязательно находятся те, кто ругает молодежь и считает, что она деградирует. И, конечно, якобы одно из ярких проявлений деградации – молодежный сленг. Удивительно, как человечество еще не вернулось к обезьяньему образу жизни[73].
И гораздо меньше распространена такая позиция, как у лингвиста Максима Кронгауза:
«А я, например, завидую всем этим “колбасить не по-детски”, “стопудово” и “атомно”, потому что говорить по-русски – значит не только “говорить правильно”, как время от времени требует канал “Культура”, но и с удовольствием, а значит, эмоционально и творчески (или, может быть, сейчас лучше сказать – креативно?)»[74].
А ведь если посмотреть на сленг под таким углом, окажется, что это очень интересный пласт лексики, созданный действительно небанально.
Как образуется молодежный сленг?
На всякий случай определимся с терминами.
Сленг, или жаргон, – это речь отдельной социальной группы, объединяющей людей по признаку профессии (например, жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), интересов (жаргон геймеров) или возраста (молодежный жаргон).
В более широком смысле сленг – это элементы разговорной речи, не совпадающие с нормой литературного языка и обычно экспрессивно окрашенные, часто грубовато-фамильярные.
Молодежный сленг – это творчество, игра и эксперимент.
И формироваться он может множеством разных способов.
1) Метафорика, то есть перенос значения с одного понятия на другое из-за их сходства:
– личинус (ребенок): сравнение маленького человека с личинкой;
– ваниль (избыточная чувственность и романтичность): сравнение чувственности со сладкой пряностью;
– раки (неопытные, плохие, «криворукие» игроки): уподобление людей неповоротливым членистоногим с большими клешнями – «руками»;
– душный, душнила (скучный, неприятный человек, моралист, зануда): общаться с ним так же тяжело, как находиться в душном помещении.
2) Расширение или изменение значения слова:
– затащить (победить);
– запилить (сделать публикацию в соцсети);
– ор (смех), орать (смеяться);
– жесть (ужас / выражение крайнего удивления).
3) Звукоподражание:
– кек (смешно): по одной из версий, подражание звуку смешка;
– мимими, ня (что-то милое): от звуков, которые издают персонажи в японских мультфильмах.
4) Заимствование из других языков (прежде всего из английского):
– соулмейт: от англ. soul mate (родственная душа);
– рарный айтем: от англ. rare item (редкая вещь);
– чекнуть: от англ. check (проверить);
– краш: от англ. crush (раздавить, сломать) – человек, в которого кто-то безответно влюблен, предмет обожания;
– триггер: от англ. trigger (спусковой крючок, триггер) – событие или другой внешний стимул, который резко переключает эмоции, вызывает болезненные воспоминания, обнажает психологические травмы;
– сасный (классный, привлекательный): от англ. sassy (нахальный), которое изменило значение;
– го (давай, давайте, идем: «го в кино», «го играть»): от англ. go (идти);
– кун и тян (юноша и девушка): от японских именных суффиксов;
– чапалах (пощечина): скорее всего, от армянского слова с тем же значением.
5) Заимствование из тюремного и блатного арго:
– зашквар (унижение, позор; что-то вызывающее пренебрежение): от «зашквариться» – коснуться «опущенного», низшего члена тюремной касты, даже прикосновение к которому считается позорным;
– мочить (бить);
– наезжать (обвинить, предъявить претензии, действовать агрессивно).
6) Усечение слов (иногда с добавлением суффикса), превращение выражений в аббревиатуры:
– паль («паленое», то есть подделка);
– норм (нормально);
– всм (в смысле);
– реал (реально) – в значении согласия;
– падра (подруга);
– сиги (сигареты);
– инфа (информация);
– дноклы (одноклассники);
– жиза (жизненно);
– уник (университет);
– падик (подъезд);
– ЛП (лучшая подруга);
– ЧС (черный список);
– ЛС (личные сообщения);
– МЧ (молодой человек).
7) Добавление суффикса, часто с экспрессивным значением:
– годнота (что-то хорошее, качественное): от годн(ый) + суффикс – от(а);
– орировать (смеяться, хохотать): от «орать» в значении «смеяться» + суффикс – ирова (ть);
– сорян (извини): от англ. sorry + суффикс – ян.
8) Замена слова другим, похожим по звучанию:
– шпора (шпаргалка);
– пекарня (компьютер, от «ПК – персональный компьютер»);
– плойка (игровая приставка PlayStation).
Зачастую сленг образуется несколькими способами сразу. Например, «лол» – это и заимствование, и аббревиатура: слово образовано от англ. laugh out loud («громко смеяться») или lots of laughs («много смеха»). «Лавэ» («деньги») – заимствование из цыганского, и, скорее всего, сначала слово появилось в блатном арго. А в «оре» или «жести», помимо изменения значений слов, можно разглядеть небанальные метафоры: скрытое сравнение смеха с криком, сложной ситуации и сильной эмоции – с металлом. «Жесть» даже можно встроить в один ряд с похожими и совсем не жаргонными метафорическими выражениями, в основе которых – ассоциации с железом, сталью, металлом: «стальной характер», «стальные нервы», «железная воля», «железная логика», «железный занавес», «металл в голосе», «пройти через (огонь, воду и) медные трубы». Это еще раз показывает, что в сленге нет ничего странного или ужасного, он – такая же часть языка, как и нейтральная лексика.
А зачем молодежи свои слова?
Подростковый сленг закономерен, естественен и… как ни странно, необходим.
Во-первых, сленг «помогает подросткам подчеркнуть свою инаковость, отделенность от «мира взрослых». И, если поразмышлять, такой словесный выход протеста – самый безобидный из всех, что можно придумать.
Во-вторых, жизнь подростков действительно во многом не похожа на жизнь взрослых. У молодежи другие интересы и ценности, которые требуют словесного выражения.
И в-третьих (и в самых важных), сленг – заключительный этап освоения языка. Подростку «хочется уже по-настоящему его освоить, почувствовать, что это родной язык, что он им именно владеет, а для этого ему нужно как-то язык помять, порастягивать, посмотреть, где его границы растяжимости, – ведь мы можем это делать только с родным языком. Здесь очень важный механизм – это творческий подход к языку, эксперимент. Поэтому дети пробуют разные формы, разные модели словообразования, смысловые ходы»[75], – говорит лингвист Ирина Левонтина.
Бороться со сленгом не нужно, да и бесполезно – как бесполезно бороться, например, с зимой. Да, она может кому-то не нравиться (холодно, неуютно, темнеет рано) – но отменить ее все равно не выйдет. И как зима приходит каждый год в положенное ей время, так и с каждым поколением подростков появляется новый сленг.
Да, именно новый. Большинство жаргонных словечек очень быстро устаревает, так что тем, кого они раздражают, не нужно бояться: лет через 10 уже вряд ли кто-нибудь будет говорить: «Кек, азаза». Возможно, они даже успели устареть, пока эта книга готовилась к публикации. Правда, на смену этим словам обязательно придут другие.
Сцит в хлеву, а корова у локомотива
Чтобы убедиться в изменчивости молодежного сленга, откроем «Словарь русского школьного жаргона XIX века» Ольги Александровны Анищенко[76], составленный на материале эпистолярной, мемуарной и художественной литературы.
Вот каким был сленг школьников в XIX веке:
Примерные, способные ученики – башка, бонсюжешка (от фр. bon sujet – «хороший пример»), медальон (гимназист, окончивший школу с золотой медалью), первак, сцит/сциенс (от лат. sciens – «знающий»), шиферница (ученица, удостоенная особого знака отличия – шифра).
Отстающие ученики – бородач (второгодник), безобедник (оставшийся без обеда из-за того, что в наказание был оставлен после уроков в классе), камчатник (тот, кто сидит за последней партой), мовешка (от фр. mauvas sujet – «плохой пример»), несцит, проскриптор (от лат. proscriptio – «список осужденных на смерть или ссылку»), чужестранка (воспитанница, оставленная на второй год).
Гимназист – говядина, грач (видимо, это шутливые расшифровки литеры «Г» на пряжке гимназических ремней), красильщик (из-за красного канта на картузе – головном уборе с козырьком), лягушка в кармане, сизяк (из-за сизой шинели), синий пуп (из-за синего канта на картузе), штукатур (из-за белого канта на картузе).
Воспитанница института благородных девиц – машерочка (от фр. ma chère – «моя дорогая»: институтки часто так обращались друг к другу), медамочка (от фр. mesdames – «дамы»), монастырка (институт был учрежден при Смольном монастыре), сувалка (воспитанница, которая старается всегда ответить первой).
Педагоги и воспитатели – зверь, локомотив (директор), тараканиус, амфибия, лукавый царедворец, классуха.
Прогуливать – казенничать, лытать, огуряться, проказачивать, ходить на ваган.
Шпаргалка – антидраль, антиплешь, говорящие программы, разведение клопов.
Как видим, молодежный жаргон за 200 лет существенно изменился, хотя образовывался по тем же моделям (в нем много метафор, например). И точно так же, как и сейчас, в нем было много заимствований – только не из английского, а в основном из французского и латыни.
Как сленг… обогащает язык
Многие привыкли считать сленг чем-то вроде языкового мусора, от которого лучше поскорее избавиться. Но на самом деле сленг – и не только подростковый, но и сленг в более широком смысле (как набор слов замкнутой группы людей и как экспрессивные элементы речи, не совпадающие с литературной нормой) – очень полезная штука! Он придает речи эмоциональность, которая в некоторых ситуациях бывает просто необходима.
Более того, сленг может проникнуть в литературный язык и… обогатить его. Да-да: многие слова, без которых русский язык теперь сложно представить, когда-то были самыми что ни на есть жаргонными и подчас весьма грубыми.
Например, до XVI–XVII веков жаргонизмом было привычное нам слово «глаз».
Раньше в этом значении употреблялось только «око», а значение слова «глаз» в древних текстах – «блестящий шарик» (по одной из версий, оно родственно немецкому Glas и английскому glass – «стекло»)[77]. В Ипатьевской летописи даже есть рассказ о том, как дети находят среди речной гальки «глазки стеклянные»[78] – и, конечно, это именно шарики, а не следы деятельности древнерусского маньяка.
Глаза стали называть шариками из-за сходства, и это явно было очень экспрессивное жаргонное слово. До сих пор иногда можно услышать похожее выражение «шары выкатить» – примерно так же грубо когда-то звучало и слово «глаз». Но постепенно оно потеряло свою сниженную стилистическую окраску и стало употребляться как абсолютно нейтральное.
Похожая история и у некоторых других названий частей тела.
Например, «лоб», по одной из версий, считается родственным словам «луб» («кора дерева», вспомните «избушку лубяную» из сказки) и «лупить» (в значении «сдирать, шелушить») с его производными «вылупиться», «облупиться», «скорлупа»[79]. Поэтому исходное значение слова «лоб» – «твердая оболочка, скорлупа». Затем так стали называть череп, черепную коробку, и в древнерусских и старославянских памятниках письменности «лоб» представлен именно в этом значении[80]. А потом слово было перенесено на верхнюю часть лица, вытеснив первоначальное «чело». Зато на память о «челе» осталось современное слово «челка»[81].
Итак, «лбом» долгое время называли всю черепную коробку. Но когда «лоб» переместился на верхнюю часть лица, на вакантное место пришел «череп». И сходство слов «череп» и «черепок» совсем не случайно: исходно «череп» – это и есть «черепок», глиняный осколок[82]. И да, «черепаха» того же корня[83].
Схожая история у немецкого и французского обозначения головы. Немецкое Kopf первоначально значило «чаша, сосуд для питья» и, возможно, родственно латинскому cuppa («чашка»)[84]. А французское tête произошло от латинского testa – «глиняный сосуд, черепок»[85]. Народы и языки разные – а логика похожая.
По такому же принципу голова или лоб по-русски могли бы назваться «котелком»: говорим же мы «котелок не варит»? Но язык предпочел «котелку» «черепок», а почему – неизвестно.
Губы когда-то называли «устами». Но потом прижилось новое название, и тоже относительно поздно: в древнерусских и старославянских памятниках письменности слово «губы» в таком значении еще не фиксировалось. Зато оно использовалось в значении «губка» (морское животное и спонж, сделанный из него) или «гриб» (последнее еще можно встретить в диалектах)[86]. Губами называли и особые грибы в виде наростов на деревьях. Видимо, из-за сходства с ними и была названа часть лица. Остроумно, не так ли? И когда-то, наверное, обидно.
А «рот» родственен словам «рыть», «рыло». «Рот» исходно и буквально – «то, чем животные или птицы, разрывая, выкапывают пищу»[87]. Представляете, насколько экспрессивным было это слово сначала? А теперь мы пользуемся им свободно.
В «Словаре Академии Российской» (1789–1794 гг.)[88] вы найдете пометы «просторечие» и «простонародное» рядом со словами «былой», «быт», «бросить (дело)», «бедняга», «горожанин», «жадный», «задушевный», «затея», «знать» (знатные люди), «крыша», «класть», «молодежь», «назло», «назойливый», «намекать», «негодяй», «огласка», «отвага», «пачкать», «поддаваться», «поодаль», «радушный», «судить», «удаль», «удача», «этот»… Но сейчас эти слова тоже нейтральны, а некоторые даже воспринимаются как возвышенные. Даже такие устаревшие и, казалось бы, торжественные обращения «сударь» и «сударыня» помечены как просторечные, и неудивительно, ведь они – всего лишь сокращения от «государь» и «государыня».
Из жаргона нищих пришло слово «двурушный». Сейчас мы так можем сказать о двуличном человеке, а раньше «двурушными» называли попрошаек, которые, спрятавшись в толпе за другими нищими, просовывали между ними сразу две руки и получали подаяние в двойном размере[89]. А слово «животрепещущий», ставшее нейтральным или даже возвышенным, сначала появилось в жаргоне рыботорговцев, которые продавали еще живую и оттого трепещущую рыбу[90].
Еще совсем недавно, в середине XX века, старшее поколение очень раздражало одно словечко из молодежного сленга – «пока» в значении прощания. Воспринималось оно примерно так же, как если бы мы, прощаясь, сказали: «Сейчас!» или «Еще!», и было, по всей видимости, сокращением от «прощай пока».
Корней Чуковский так описывал свои впечатления об этом слове в книге «Живой как жизнь» (1962 г.):
«На меня, как на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия. Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению. Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо “до свиданья” говорить почему-то “пока”»[91].
А лингвист Максим Кронгауз, которого никак нельзя назвать пуристом, пишет в книге «Русский язык на грани нервного срыва» (2008 г.) о другом слове: «Я перестаю слушать человека, если он вдруг произносит не слишком грамотное слово волнительный»[92].
Дело в том, что слово «волнительный» появилось не так давно, вероятно, в жаргоне актеров. В образцовой же литературной речи следовало говорить только «волнующий». Показателен диалог из романа Константина Федина «Необыкновенное лето» (1945–1948 гг.):
«– Не знаю, не знаю! У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что…
– Ах, черт! Вот оно! – ожесточился Пастухов. – Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, не существующее, противное языку… какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!..»
Сейчас многим уже странно читать о такой неприязни к, казалось бы, обычному слову, хотя многие словари до сих пор закрепляют за ним помету «разговорное». Но разговорные слова – тоже часть литературной нормы. А еще слово «волнительный» встречалось у признанных писателей:
«Можно в толпе и при самом волнительном зрелище оставаться спокойным и радостным, и можно лежа в постели себя измучить своими мыслями, так что будешь задыхаться от волнения».
(Л. Н. Толстой, «Письма», 1894 г.)
«И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидел страны, и что он делает тут, ночью, в горах, – и отчего все в мире так странно, так волнительно».
(В. Набоков, «Подвиг», 1932 г.)
«Среди переулочной тишины, в оттепельном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата».
(Л. М. Леонов, «Скутаревский», 1930–1932 гг.)
Некоторые отмечают, что слово «волнительный» образовано не вполне корректно: прилагательные на – ительный обычно образуются от глаголов на – ить («оскорбить» – «оскорбительный», «губить» – «губительный», «язвить» – «язвительный», «удивить» – «удивительный» и так далее). От «волновать» же, по идее, должно было образоваться прилагательное «волновательный» (как от «нагревать» – «нагревательный», от «требовать» – «требовательный»).
Но «волнительный» – не единственная подобная аномалия. Есть еще и «чувствительный» от «чувствовать», и «действительный» от «действовать», и «именительный» от «именовать»… Ведь никто не предлагает отказаться от них?
Отчего же возникают претензии к «волнительному»? Видимо, как раз из-за его происхождения: пришедшее из актерского сленга, оно поначалу могло казаться слишком наигранным и жеманным. Но теперь эти ассоциации почти сошли на нет, и вряд ли кто-то скажет о важном событии: «Это было очень волнующе». Абсолютное большинство носителей языка предпочтет «волнительно».
К чему все эти истории слов? Я убеждена, что знание истории языка очень отрезвляет, успокаивает, устраняет алармистские настроения и увеличивает терпимость. Когда понимаешь, что множество слов, которые были раньше жаргонными и просторечными, мы сейчас употребляем свободно (и мир из-за этого не рушится), начинаешь гораздо спокойнее относиться к сегодняшнему сленгу.
Так что keep calm and study linguistics.
Глава 5
Эмодзи, олбанский и отмена знаков препинания: интернет убивает язык?
Многих беспокоит не только сленг и заимствования, но и площадка, которая в последние десятилетия дает им проявиться во всей красе, – интернет. Блоги, социальные сети и мессенджеры – наша новая реальность, где часто можно встретить и отступающую от литературной нормы лексику, и непривычные странные сокращения, и специально исковерканную орфографию – а расставленные по всем правилам знаки препинания там, наоборот, редкость. Особенно точки, вместо которых стоят либо эмодзи, либо скобки)
Кажется, что интернет – какое-то особое пространство, которое будто бы провоцирует людей быть неграмотными и постепенно «убивает язык».
Но, конечно, все совсем не так просто. Интернет – действительно особое пространство, в котором появились уникальные, до нашего времени не существовавшие формы коммуникации. Что они из себя представляют и какие у них особенности, разберемся в этой главе.
Не устная и не письменная
Мы привыкли к тому, что речь четко делится на устную и письменную – в школах до сих пор дают именно такую классификацию. Между тем уже лет двадцать, то есть почти все то время, пока существует интернет в привычном нам понимании, эта классификация не вполне актуальна. Все потому, что появилась интернет-коммуникация, которую невозможно отнести к какой-то из двух крайностей.
Формально речь в интернете – письменная. С другой стороны, она представляет собой запись быстрых и спонтанных диалогов, неформальных и необдуманных, из-за чего приобретает множество черт речи устной. Некоторые лингвисты даже называют тексты в интернете новым термином «устно-письменная речь»[93].
Она существенно отличается от той письменной речи, которую мы привыкли видеть в литературе и публицистике. И это естественно, ведь у интернет-речи другой формат и другие задачи.
А что, если сравнить интернет-коммуникацию не с письменной речью, а с устной?
Попробуйте записать на диктофон устную неподготовленную речь человека, который изъясняется вполне понятно и грамотно (можно начать с себя), а потом расшифруйте аудиозапись и оформите речь в виде текста, ничего в ней не меняя. Если вы записывали не Екатерину Шульман[94] или Дмитрия Быкова[95], вы будете очень удивлены тому, насколько «корявый» текст у вас получится: в нем будет много так называемых слов-паразитов, повторов, странных конструкций, грамматических неправильностей. И да, в 99 % случаев этот текст композиционно, синтаксически и грамматически будет ничем не лучше тех сообщений в мессенджере, которые принято считать образцами «безграмотной» интернет-коммуникации.
А удивлены вы будете потому, что в устной речи мы почти не замечаем всех этих «огрехов». Наше восприятие устроено так, что мы их буквально пропускаем мимо ушей, и это позволяет нам не терять суть сообщения.
Эти «неправильности» (в разумном количестве) вполне естественны. Например, для устного русского языка чрезвычайно характерно начинать сообщение не «с места в карьер», а с вводного слова, союза («и», «а», «но» и так далее) или каких-нибудь «вот» или «ну», которые дают мысли необходимый «разгон».
Нормальны и так называемые слова-паразиты, если их не очень много. Лингвисты уважительно именуют их «дискурсивными словами»: от слова «дискурс» – то есть «связный текст, произносимый в определенной ситуации и с определенными задачами»[96]; это «речь, погруженная в жизнь»[97]. Дискурсивные слова ничего не добавляют к содержанию текста, но помогают строить дискурс и делают его связным, а заодно могут сообщать информацию о говорящем – его состоянии, настроении, отношении к сообщаемому и собеседнику. Дискурсивные слова могут выполнять много важных функций, например:
– «в общем» и «в принципе» обобщают высказывание;
– слово «ну» часто помогает выждать время, точнее выразить мысль и дать собеседнику сигнал, что мы обдумываем высказывание, подбираем слова – то есть относимся к разговору ответственно;
– выражение «на самом деле» привлекает внимание и сообщает, что мы сейчас скажем что-то важное или даже противоречащее тому, что говорили прежде.
«Идеальная», «стерильная» речь без шероховатостей и дискурсивных слов может звучать слишком искусственно, механически – и поэтому вызывать отторжение и недоверие. На современных курсах ораторского искусства даже рекомендуют оставлять в речи немного дискурсивных слов в качестве нотки естественности.
Но письменная фиксация ярко подсвечивает все речевые погрешности. Пропустить их мимо взгляда, как мимо ушей, уже не получится, оттого и возникает так много претензий к речи в интернете. Но появляются они главным образом из-за неоправданных ожиданий: многие ждут, что интернет-общение будет соответствовать нормам обычной письменной речи – но ведь это разные коммуникативные жанры.
Каковы же особенности языка интернета и какие черты устной речи он заимствует? Давайте разбираться.
Эмодзи: ягодицы или сердечко?
Прежде всего интернет-коммуникация стремится передать интонацию, мимику и жесты, чего традиционная письменная речь сделать почти не может. Поэтому лингвист Максим Кронгауз сказал об интернет-речи так: «Это не испорченная письменная речь, это обогащенная письменная речь, обогащенная тем, чего в письменной речи не хватает»[98].
Чтобы обозначить в интернет-речи мимику и жесты, появились новые инструменты коммуникации вроде эмодзи – картинок, изображающих эмоции говорящего:
До их появления мы пытались передать настроение с помощью смайликов – или, если говорить более научно, эмотиконов – пиктограмм из доступных печатных символов. Например::-) (улыбка),-P (показывать язык), %) (сумасшедшая улыбка),/ (недоумение, скепсис). Некоторые были довольно изощренными – можно сказать, творческими:
Но иногда из-за разных трактовок эмотиконов возникают курьезы. Например, что значит такой символ?
<3
Кто-то думает, что это грудь, ягодицы, фаллос или даже выпускание газов. Но вообще-то это всего лишь невинное сердечко.
Эмодзи гораздо более однозначны, но и с ними иногда возникают проблемы. Например, до сих пор ведутся споры о том, что обозначает этот эмодзи:
Благодарность? Просьба? Молитва? А многие уверены, что ладони эти принадлежат разным людям и первоначальный смысл эмодзи – «дай пять».
Некоторые эмодзи могут стихийно переосмысляться, приобретать в отдельных сообществах новые смыслы. Так, изображение статуи с острова Пасхи стало обозначать каменное лицо, или так называемый покерфейс, – лицо, не выражающее эмоций.
И еще одна проблема эмодзи – они могут по-разному отображаться на разных устройствах. Будьте осторожны, когда посылаете какие-нибудь редкие и необычные эмодзи: вы можете послать другу забавного клоуна, а он получит героя фильма ужасов вроде Джокера или Пеннивайза.
Не повышай на меня шрифт!
В интернете особое значение приобрели прописные буквы, или капслок. Раньше с них начинали предложение, из них составляли аббревиатуры, но теперь большие буквы используют для обозначения разговора на повышенных тонах. В связи с этим даже появилась шутливая фраза, которую я вынесла в подзаголовок.
Впрочем, иногда капслоком просто выделяют наиболее значимые слова или заголовок текста – но даже это многих раздражает или задевает, настолько закрепилась ассоциация между прописными буквами и агрессией. Поэтому будьте ОСТОРОЖНЕЕ с капслоком.
Есть и противоположная тенденция: многие, наоборот, не ставят прописные буквы в тексте – даже в начале предложения. В последние годы, однако, автокорректор большинства телефонов нивелирует эту особенность интернет-коммуникации.
Оговорки Зачеркивание
Еще один очень любопытный прием в интернет-речи – преднамеренное зачеркивание. Например, такое: «И первое, куда идет любой турист в европейском городе, – это кабак конечно же, старый город»[99]. Оно имитирует оговорку: пишущий сначала якобы говорит что-то не то, что-то, что он сказать не планировал. Но именно это «не то» оказывается акцентированным, ведь оно не просто написано, но еще и выделено чертой (или словом «зачеркнуто»).
На таком приеме обычно строится ирония или языковая игра, к примеру: «Каждый блогер должен посадить дерево написать книгу!» Случайная цитата из интернета, но как же в тему.
«Ну хорошо, с чертами устной речи в интернет-коммуникации разобрались. В них вроде бы и впрямь нет ничего страшного. А что с сетевой орфографией и пунктуацией? Они-то ужасны!» – скажет пурист.
Да, какие-нибудь «вообщем» или «тимбольи»[100] – действительно эдакие орфографические мутанты. Но ведь они – не особенность интернет-языка и легко могут встретиться и в записке, написанной от руки.
Каковы же специфические черты именно сетевой орфографии и пунктуации?
Падонки и омг
Лет двадцать назад в интернете часто разговаривали на так называемом языке падонкафф, или олбанском, особенностью которого было изощренное коверканье слов («аффтар жжот», «апстену», «низачот», «зайчег»). У «падонкафф» даже был свой «Манифезд антиграматнасти». Вот отрывок из него:
«Па мери савиршенства кампютырных спилчекирав руский изык ишо болще патеряит сваих нипасредствиннасти и абаяния.
Паэтому все художники рускава слова далжны бросить вызав убиванию нашива живова изыка биздушными автаматами! Галавный Принцып нашева великава движения ПОСТ-КИБЕР гаварит: “Настаящие исскувство новава тысичулетия – это то что ни можыт делать кампютыр а можыт делать тока чилавек!!!”
“Биз грамотичискай ашипки я русскай речи ни люблю!”, писал наш лудший паэт Аликсандыр Сиргеич Пушкин.
Эти слава мы бирем дивизом на наш флак В БАРЬБЕ С ЗАСИЛИЕМ БИЗДУШНАЙ КАМПЬЮТЫРНОЙ ПРАВИЛНАСТИ каторую нам навязывают гацкие робаты-акуппанты!!!!»[101]
По словам Максима Кронгауза[102], «у людей, использовавших “язык подонков”, было ощущение, что это игра в интернет и есть возможность игровой свободы. В интернете эти люди были крутыми хулиганами, ругались матом, говорили на смелые темы, а в жизни это были такие скромные ботаники»[103]. Но теперь выросло другое поколение, для которого интернет – важная часть жизни, а общение в интернете уже мало отличается от реального.
Однако на рудименты олбанского можно наткнуться и сейчас: то и дело в диалогах всплывают «кагбэ», «ящитаю», «памагити», «узбагойся», «девачьки» или «штош», часть которых пришла из мемов. Но это именно отдельные словечки, весь текст так никто уже не пишет.
Теперь чаще, чем отголоски «падонкаффского», можно встретить другие орфографические особенности, характерные только для интернет-общения:
– повтор гласных, чтобы передать их интонационное растягивание: «это так миииило», «нуууу не знаю», «мне ооочень нравится». Впрочем, могут растягиваться и согласные: «ну плиззз», «ммммм, как вкусно». В классическом оформлении повторяющиеся буквы должны отделяться дефисами («ну-у-у»), но в интернете этого почти никто, конечно, не делает: писать без дефисов быстрее и проще;
– отражение редукции (усечения, сокращения некоторых звуков при произнесении): «эт» («это»), «пасип» («спасибо»), «канеш» («конечно»);
– аббревиатуры, некоторые из которых уже стали самостоятельными словами: «кмк» («как мне кажется»), «имхо» (IMHO – сокращение от англ. in my humble opinion – «по моему скромному мнению»), «емнип» («если мне не изменяет память»), «омг» (от англ. oh my god – «о мой бог»). Такие сокращения выглядят довольно органично при непринужденном, неофициальном общении.
Но все это не ошибки, а элементы интернет-сленга, языковая игра и опять же стремление дополнить сообщение элементами устной речи. И эти особенности, в отличие от ошибок, вводятся в текст намеренно.
Доброго времени суток и спс
Явление совсем другого порядка – сокращенные формулы вежливости: «спс» («спасибо») и «дд» («добрый день»). А вот они часто вызывают недоумение или раздражение, потому что в таком виде перестают выполнять свою главную функцию – подчеркивание уважения к собеседнику.
И если «спасибо» еще довольно часто встречается и в дружеской переписке, где бывает вполне уместно сократить его до «спс», то выражение «добрый день» используют только при достаточно формальном общении с малознакомыми или вовсе не знакомыми людьми. В такой ситуации «дд» создает впечатление, что нормально поздороваться человеку просто лень. Оправдать его использование можно, пожалуй, только тогда, когда объем сообщения ограничен.
Не вполне оправданным выглядит и приветствие «доброго времени суток».
Выражение это появилось в 90-е, то есть в начале распространения интернета. Это не продукт естественного развития языка, а искусственный конструкт, созданный из-за своеобразно интерпретированных правил вежливости. Те, кто его использует, объясняют, что сообщение, отправленное, скажем, днем в одном часовом поясе, доставляется мгновенно и может быть прочитано собеседником из другого часового пояса, где уже наступил вечер. Писать в таких случаях «добрый день» этим людям кажется неуместным и невежливым (хотя это не так, «добрый день» – универсальное приветствие, где значение слова «день» давно стерто, да и «день» имеет еще и значение «сутки»), вот и была придумана новая полушутливая приветственная формула. Правда, есть еще слово «здравствуйте», но его любители «доброго времени суток» почему-то избегают – то ли оно кажется им слишком обычным, то ли его тяжело правильно написать.
А ведь в доинтернетную эпоху адресат тоже мог получить и прочесть обычное бумажное письмо когда угодно, но почему-то изобретать новое приветствие никому тогда в голову не приходило.
Мало того что «доброго времени суток» – выражение, решающее несуществующую проблему, оно еще и грамматически странно построено. При приветствии принято употреблять существительные в именительном падеже («доброе утро», «добрый день», «добрый вечер»), а родительный используется в пожеланиях при прощании («доброй ночи», «удачи», «хорошего дня»). Получается, «доброго времени суток», если отвлечься от содержания и посмотреть только на форму, подходило бы прощаниям, а не приветствиям[104]. Однако здесь можно возразить, что не так давно (возможно, примерно в одно время с «добрым временем суток») в ночных эфирах на радио и телевидении стало распространяться «доброй ночи» тоже в качестве приветствия. Также все чаще можно наткнуться на приветствия «доброго утра» или «доброго дня» в мессенджерах и блогах. Может быть, мы имеем дело с формированием новой нормы.
Но проблема «доброго времени суток» еще и в том, что оно часто используется при довольно официальной коммуникации, требования к которой очень высоки. Общаясь с друзьями или знакомыми, мы все же пишем «привет», а «добрые сутки» возникают в обращениях к малознакомым людям, зачастую даже в деловой переписке, а такого рода коммуникация предполагает соблюдение формальностей.
«Доброго времени суток» фактически заменяет традиционные этикетные формулы приветствия, а этикет – это крайне консервативная область: трансформации в ней образованный собеседник может воспринять или как неграмотность, или как фамильярность. По сути, поприветствовать делового партнера или клиента «добрым временем суток» – примерно то же самое, что написать ему «спасибочки» или «вечер в хату».
Кроме того, сегодня выражение «доброго времени суток» воспринимается как заезженный штамп из девяностых и раздражает очень многих. Поэтому рекомендую быть с ним осторожнее, особенно если хотите не просто поболтать, а обратиться к кому-то с деловым предложением.
Хотя кто знает: быть может, лет через сто «доброго времени суток» настолько прочно обоснуется в языке, что все написанное в предыдущих абзацах будет восприниматься как пуристское брюзжание. Этому, правда, препятствует тот факт, что выражение используется почти исключительно в письменной речи и лишено ключевого канала распространения – устного. Но язык умнее нас – и, быть может, «доброго времени суток» ему действительно зачем-то нужно. Поживем – увидим.
Обесточивание
Пунктуация в интернете тоже имеет свои особенности, и одна из самых ярких – отсутствие точек в конце сообщения.
Есть мнение, что это явный показатель безграмотности: ну как же так, ведь точка – обычный знак препинания, не ставить его – значит нарушить пунктуационную норму!
На самом деле «обесточивание» в интернете имеет другие причины. Во-первых, ставить точку бывает некогда из-за скорости обмена сообщениями (ну или просто лень). А во-вторых, в интернет-диалогах этот знак препинания приобрел дурную репутацию: сегодня для многих точка в конце сообщения – это знак обиды или холодности.
Я проводила в инстаграме[105] опрос, в котором поучаствовало около двух тысяч человек, – и выяснилось, что почти половина из них интерпретируют короткие, отрывистые сообщения без смайликов и с точкой в конце как нежелание продолжать общение. Почти половина – это много! Вдумайтесь: отправляя сообщения с точкой, вы с вероятностью почти 50 % будете выглядеть в глазах собеседника как сноб или очень обидчивый человек. Вы точно этого хотите?
Гораздо безопаснее не ставить в конце предложения ничего: рамка сообщения в мессенджере и так покажет, что оно закончилось.
Правило об обязательной точке в конце предложения известно даже первоклассникам, и если человек действительно его не знает, то ему лет пять-шесть – фактически или метафорически. В таком случае другие ошибки и стиль сообщения обязательно это обнаружат, и отсутствующая точка будет наименьшим из зол.
Поэтому отсутствующая точка в подавляющем большинстве случаев – это не безграмотность, это скорее формирование нового сетевого этикета.
Цель языка – коммуникация, и, если в определенных ситуациях старые приемы оформления письменной речи уже ее затрудняют и делают сообщения двусмысленными, не повод ли это пересмотреть норму и сделать ее необязательной?
Это как с левосторонним движением. Да, в большинстве стран (во всяком случае, в Европе и Америке) движение правостороннее, но в Великобритании было бы странно на нем настаивать. Приезжая туда, вы оказываетесь совсем в другом пространстве с иными правилами, под которые безопаснее и правильнее будет просто подстроиться. Так вот, интернет – это такое же другое пространство.
Часто в интернет-коммуникации люди не просто не ставят точку в конце, но вместо нее используют смайлик-скобку – вот такой) Иногда даже в продублированном несколько раз варианте))) Именно такой смайлик – сокращение от эмотикона:-) – заменил точку и стал знаком нейтрального дружелюбного сообщения – причем совсем необязательно бодрого и веселого.
По сути, это тоже новая норма сетевой пунктуации: место точки в конце сообщения занял другой знак препинания.
Как отмечает Максим Кронгауз в одном из интервью, «смайлики стали очень важным элементом общения. Смайлик обычно ставят в конце предложения – более того, это стало так привычно, что его отсутствие настораживает. Особенно если мы говорим о людях моложе тридцати. Они, если не видят в конце предложения смайлика, думают, что собеседник на них обижен. То есть нейтральным стало наличие смайлика, а не его отсутствие»[106].
А в твиттере (да уже и не только) появился особый смысл у множества скобок-смайликов, поставленных одна за другой – вот так)))))))))) Теперь это знак раздражения или сумасшедшей, истерической улыбки: «О боже, опять это, как же все достало))))))))))».
Интересно, что сокращенные смайлики – отличительная особенность именно русскоязычных диалогов. Носители русского языка иногда используют их в переписке с иностранцами, чем однозначно выдают свое происхождение и иногда приводят собеседников в недоумение.
Уже не в диалогах мессенджеров, а в текстах постов (часто серьезных, глубокомысленных – или претендующих на эти характеристики) в разных соцсетях недавно появилась еще одна интересная особенность – пропуск точек в конце абзаца. Причем с остальными точками в середине абзаца все в порядке – их нет именно в конце
Выглядит это так, как в предыдущем абзаце. Возможно, это имитация общения в мессенджере – чтобы создать иллюзию диалога с подписчиками. А может, такой прием призван подчеркивать искренность, некоторую исповедальность, впечатление «потока мыслей». Такое оформление текста даже чем-то напоминает поэзию с ее переходом от строчки к строчке – только здесь переходы от абзаца к абзацу. А еще ощущение незавершенности абзаца заставляет читать текст дальше – так что, возможно, это еще и прием удержания внимания.
Интернет = безграмотность?
Очень распространена идея о том, что интернет-общение якобы ведет к безграмотности.
В действительности же в этом утверждении поменялись местами причина и следствие: наоборот, те, кто уже был неграмотным, просто явили это в интернете. Не было бы интернета – они писали бы точно так же, просто этого почти никто бы не видел.
А вот с подрастающим поколением уже сложнее. Не приводит ли общение в мессенджерах к тому, что у них падает уровень грамотности? Этот вопрос еще недостаточно изучен, но теоретически это возможно. Если у ребенка хорошая зрительная память и он постоянно видит неправильные написания, это действительно может определенным образом повлиять на грамотность – но только в том случае, если: а) ребенок переписывается только с неграмотными собеседниками; б) он делает это гораздо чаще, чем читает хорошо написанные тексты.
Но это уже вопрос не интернет-общения как такового, а воспитания ребенка, его окружения и привычек. Что мешает ему в том же интернете читать качественные СМИ, научно-популярные сайты и блоги, переписываться с грамотными и интересными людьми?
Интернет – это всего лишь инструмент, и воспользоваться им можно по-разному. Такой же инструмент, как, к примеру, нож: ножом можно порезать хлеб – а можно убить человека, но обвинять в преступлении нож будет глупо.
Но вернемся к взрослым. Интересно то, что даже очень образованные и грамотные люди нет-нет да и пропустят запятую или напишут какое-нибудь «щас» в сетевых диалогах. Почему?
Дело в переключении регистров[107]. Мы разговариваем с друзьями не так, как с начальником, – и оформляем речь в интернете не так, как документ или деловое письмо. И это нормально.
Странно выглядит, наоборот, речь интернет-пользователя, который сочиняет длинные предложения с множеством осложняющих элементов, использует исключительно высокий стиль и всегда пишет «Вы» с большой буквы[108]. Да, это уместно в деловой переписке или в личном письме очень уважаемому человеку, но при общении с другом в мессенджере или в комментариях под постом в социальных сетях вполне логично переключить регистр. Грамотный человек тем и отличается от неграмотного, что умеет это делать: знает, какой регистр более уместен в конкретной ситуации, и пользуется языком во всем его многообразии. Иначе есть риск превратиться в гоголевских дам города N, которые «отличались необыкновенною осторожностию и приличием в словах и выражениях» и никогда не говорили: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а только лишь: «я облегчила себе нос» или «я обошлась посредством платка».
Глава 6
Черное кофе, дóговор, звóнит – так ли это безграмотно и что произошло с этими словами в 2009 году?
«В 2009 году чиновники узаконили безграмотность! “Кофе” сменило пол, а “догово́р” стал “до́говором!”»
Наверняка вы слышали подобные рассуждения. Быть может, и сами произносили что-то в этом духе.
Правда в том, что все описанное выше в патетичной цитате – не более чем раздутая газетная утка.
Никто не пытался, вопреки кликбейтным заголовкам, проводить «реформу языка». Это в принципе невозможно: язык приказам не подчиняется. Реформировать можно только оформление языка на письме: графику, орфографию, пунктуацию. Но на сам язык такие реформы не оказывают никакого влияния.
Так что же случилось в 2009 году на самом деле?
Дутая «реформа»
1 сентября 2009 года в силу вступил приказ Минобрнауки № 195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». Как и следует из названия, приказ лишь утверждал список словарей, рекомендованных Межведомственной комиссией по русскому языку, – и в нем не было и речи о том, что вводятся какие-то новые языковые нормы или что другими словарями пользоваться нельзя.
Среди рекомендованных оказался «Орфографический словарь» Б. З. Букчиной, И. К. Сазоновой, Л. К. Чельцовой. Почему именно он, а не, например, более полный «Орфографический словарь» В. В. Лопатина и каковы были критерии отбора, сказать сложно.
После выхода приказа некоторые журналисты взяли в руки словарь Букчиной и, по всей вероятности, стали открывать его на страницах с теми словами, которые обычно привлекают много внимания. Открыли книгу на слове «договор» – и увидели в нем двойное ударение, на первом и на последнем слоге. Перелистнули на «кофе» – а там все еще ужаснее: рядом с ним стоит запись «м. и с.».
Словарь Букчиной не был первым современным словарем, в котором была предпринята попытка убрать помету «разговорное» у «кофе» среднего рода. Еще раньше это произошло в 2003 году в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева, и в нем даже встречается такой пример употребления: «Вам одно кофе?» Но мало кто это заметил – и немудрено, ведь словарь не попал ни в какой приказ.
В том же «приказном» списке 2009 года числился еще и «Словарь ударений» И. Л. Резниченко – и в нем рядом с «до́говором» помета «разг.» уже стояла. А это значит, что такое ударение допустимо только в непринужденной разговорной речи, но никак не в выступлениях, которые должны соответствовать строгой литературной норме. В их число входят, к примеру, ответы у доски, так что двоечникам, вопреки заявлениям пуристов, радоваться все же не пришлось. И по поводу «кофе» тоже: в том же словаре Резниченко рядом с ним стоит только помета «м.» и запись после восклицательного знака: «вар. сред. рода неуместен в строгой лит. речи».
Да и в «Орфографическом словаре» Букчиной статьи «кофе» и «договор» были очень быстро отредактированы, а ударение «до́говор», по заверениям составителей, и вовсе оказалось опечаткой. Уже в издании 2011 года статьи выглядят так:
кóфе, нескл., м. и с. (разг.)
договóр (2 м); мн. договóры и договорá (разг.), Р. договóров
«Но в разговорной-то речи говорить “до́говор” и “вкусное кофе” разрешили – а это уже поблажки, и дали их именно сейчас! А вот в наше (читай – советское) время могли подписать только “догово́р” и пили лишь “настоящИЙ кофе”, и никаких послаблений норм не допускалось!» – говорят пуристы.
Что ж, посмотрим, что о «договоре» и «кофе» говорит авторитетный в советские годы толковый словарь Д. Н. Ушакова.
Откроем первое издание 1935–1940 годов – и найдем «кофе» среднего рода с пометой «разговорное». У «до́говора» стоит помета «просторечное», но то, что слово в такой форме есть в словаре, уже само по себе показательно.
Другой известный словарь советского времени – толковый словарь С. И. Ожегова – более консервативен по отношению к «кофе» и не фиксирует у него средний род, зато более демократично обходится с «договором». В первых изданиях присутствовал только вариант «догово́р», зато в издании 1960 года появился и «до́говор» без каких-либо помет, т. е. как равноправный вариант. Правда, в следующих изданиях у него появилась помета «разг.» – но напомню, что разговорные слова и выражения входят в литературную норму.
С. И. Ожегов вместе с другими лингвистами, С. Г. Бархударовым и А. Б. Шапиро, был редактором еще и орфографического словаря русского языка. И в изданиях 60-х годов в этом словаре тоже появляется «до́говор» без помет. Видимо, шестидесятые годы были временем равноправия «до́говора» и «догово́ра».
Получается, ничего нового и радикального с русским языком в 2009 году не произошло. Реформы не было, безграмотность никто не узаконил.
Но почему журналисты стали искать в словарях именно «кофе» и «договор»? И почему именно этим словам всегда достается столько внимания?
Слова раздора
Дело в том, что «кофе» и «договор» – не просто слова. Наряду с формами глагола «звонить» («звони́т, а не зво́нит!») они стали словами-маркерами, или так называемыми социолингвистическими индикаторами – языковыми единицами, указывающими на социальный статус и образованность говорящего. Проще говоря: «Скажи мне, какого рода “кофе”, и я скажу, кто ты!»
Употребить слово-индикатор не так, как положено с точки зрения строгой литературной нормы, – значит, по мнению многих, расписаться в собственном невежестве, хотя «ошибки» в других словах почти всегда остаются незамеченными. Можно сказать «куркума́» (хотя в словарях она «курку́ма») или «до скольки́» (хотя единственная норма пока – «до ско́льких») – и почти никто ничего не заметит. Но стоит в «образованном» обществе произнести «зво́нит», как на вас сразу же косо посмотрят (и это в лучшем случае).
Некоторые употребления становятся показателями высокого социального статуса и культурного уровня не потому, что они с точки зрения языка «лучше» или логичнее. Наоборот, часто они языковой логике противоречат – и именно знание «исключений» считывается окружающими как показатель грамотности.
Не будь эти слова индикаторами, нормы их использования давно бы изменились. Иными словами, если бы образованные люди не договорились, что нельзя говорить «вкусное кофе», «зво́нит» и «до́говор», эти употребления давно бы стали приоритетными, ведь они соответствуют тенденциям развития языка.
Давайте подробно и беспристрастно рассмотрим историю слов, которые принято считать мерилом грамотности. Гарантирую: это поможет снизить градус осуждения тех, кто использует их не так, как того требуют пуристы.
В начале было кофе[109]
Есть такое популярное рассуждение: сначала слово «кофе» использовали правильно и грамотно – в мужском роде, и только в XX веке «необразованные неучи» все чаще стали «подгонять» его под другие несклоняемые существительные и употреблять в среднем роде. А лингвисты-вредители пошли у них на поводу и узаконили «неграмотный» средний род.
Второе очень распространенное мнение: слово сначала вошло в русский язык в форме «кофий» или «кофей», а впоследствии видоизменилось и превратилось в «кофе», но мужской род унаследовало, именно поэтому правильно говорить только «вкусный кофе».
Наконец, третья популярная гипотеза состоит в том, что слово «кофе» должно быть мужского рода, так как это «напиток» и род слова «напиток» должен переноситься и на «кофе».
Какая же из этих трех точек зрения верна?
Никакая. Давайте разбираться.
Первое упоминание напитка в тексте на русском языке, которое удалось обнаружить, содержится в переводе рецепта, который прописал лекарь Самюэль Коллинз монаршему пациенту – царю Алексею Михайловичу – еще в 1665 году. Сам рецепт написан по-латыни, а на русский язык его перевел дьяк Лукьян Голосов, использовав форму «кафе» и употребив ее в среднем роде: «Изряднее ко отончению вспособляет вареное кафѐ, персяном и турком знаемое <…> и изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений»[110].
О том, как употреблялось слово «кофе» и другие его варианты («кофий» [ «кофей»], «коф», «кофь», «кофа»), можно узнать очень просто – открыв Национальный корпус русского языка[111].
Из Корпуса мы узнаем, что форма «кофе», видимо, распространилась раньше, чем «кофий»/«кофей»: первое упоминание о «кофе» в Корпусе относится к 1716–1718 годам, а о «кофии» – к 1734 году[112].
И употреблялось слово «кофе» гораздо чаще. В текстах корпуса XVIII–XIX веков «кофе» встречается 2121 раз, а «кофий» и «кофей» в совокупности – всего 805[113]. Что ж, рассмотрим отдельно тексты XVIII века, когда эти слова только начали распространяться в русском языке: «кофе» встречается 104 раза, а «кофий»/«кофей» – только 60[114]. Из этих данных становится ясно, что версия о приобретении словом «кофе» мужского рода под влиянием «кофий» или «кофей» сомнительна.
Не было и «золотого времени», когда трава была зеленее, мороженое вкуснее, а «кофе» – только мужского рода. Колебание рода у слова «кофе» наблюдалось с самого начала его употребления в русском языке. Причем, судя по примерам из корпуса текстов XVIII века, сначала у «кофе» преобладал именно средний род.
Вот статья «Описание церемонии» из журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»[115] (январь ― июнь 1755 года):
«Наконец поднесено посланнику кофе, а после и трем чиновным его туркам».
Это первый пример из Корпуса, где понятен род «кофе», и он средний.
Следующий подобный пример находим у Сумарокова:
«Да и кофе намнясь то же почти показывало; по картам на ту же стать выходило».
(А. П. Сумароков, «Вздорщица», 1770 г.)
«Намнясь» значит «намедни», и речь идет о гадании по кофе.
Но в 80-е годы XVIII века на арену выходит мужской род «кофе» и постепенно начинает вытеснять средний.
Читаем анонимный трактат «О воспитании и наставлении детей» (1783 г.):
«Если варится для детей особенно слабое кофе, то вред от оного состоит только в том, что он слабит без нужды желудок, как то делает всякий теплый и водяной напиток».
Видим в одном предложении и средний род, и мужской.
А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1779–1790 гг.) использует уже мужской род:
«Рука моя задрожала, и кофе пролился».
Но другой писатель того же времени – Н. М. Карамзин – предпочитает средний:
«Зато мы с италиянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили».
(«Письма русского путешественника», 1793 г.)
В XIX веке мужской род слова «кофе» преобладал, но встречались и исключения: например, у Д. Н. Мамина-Сибиряка:
«появилось кофе в серебряном кофейнике».
(«Приваловские миллионы», 1883 г.)
К рубежу XIX–XX веков колебание по роду снова становится заметным. Не брезговали средним родом и классики XX века, которых никак не упрекнешь в неграмотности или незнании родного языка:
«Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный».
(И. А. Бунин, «Нобелевские дни», 1933 г.)
«Я пил мелкими глотками огненное кофе».
(В. Набоков, «Отчаяние», 1936 г.)
«Кофе в чашке стояло на письменном столе».
(М. А. Булгаков, «Записки покойника», 1936–1937 гг.)
«Предметы вывоза – марихуана, // цветной металл, посредственное кофе».
(И. Бродский, «Заметка для энциклопедии», 1975 г.)
Впрочем, в последнем примере средний род, возможно, выбран намеренно, с целью обыграть его ассоциацию с плохим качеством напитка, потому что в другом стихотворении Бродского «кофе» уже «он»:
- «Я сидел в пустом корабельном баре,
- пил свой кофе, листал роман».
Еще один аргумент в пользу мужского рода у «кофе» – аналогия со словом «напиток» – тоже несостоятелен. Да, иногда родовые понятия влияют на род слова: «бри» мужского рода, потому что это сыр, «салями» женского, потому что это колбаса… Но здесь мы имеем дело не с правилом, а лишь с нестрогой закономерностью, исключений из которой масса.
Если слово «напиток» повлияло на «кофе», то куда пропало это влияние в других словах? Например, почему у «виски» или «бренди» мужской и средний род равноправны, а «какао», согласно литературной норме, и вовсе только среднего рода? Впрочем, иногда – вероятно, под влиянием «кофе» – в реальной практике появляется и «вкусный какао».
И почему у названий видов кофе – «эспрессо», «капучино», «глясе», «латте» – даже с точки зрения словарей возможен и средний, и мужской род?[116]
Более вероятной причиной колебания рода у «кофе» можно считать влияние иностранных языков.
Слово «кофе» могло быть заимствовано несколькими путями одновременно: из английского coffee, нидерландского koffie, немецкого Kaffee или французского café. В нидерландском, немецком и французском это слово мужского рода; в английском же грамматического рода как такового нет, поэтому и внести свою лепту он здесь вряд ли мог. Да и нидерландский, немецкий и особенно французский в XVIII–XIX веках влияли на русский в большей степени, чем английский. Образованные дворяне (и по совместительству главные потребители кофе) того времени обязательно изучали иностранные языки и, возможно, перенесли из них род слова «кофе
