Сокровища Валькирии. Страга Севера
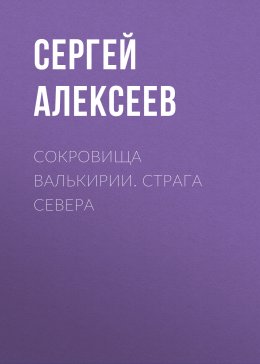
1
Чаще всего Птицелов промышлял в подмосковных лесах по Клязьме, Пахре или Маре, где ранней весной находили приют многие перелетные певчие птицы. Он довольствовался тем, что находил в средней полосе России, поскольку передвигаться по ее просторам, особенно в южном направлении, стало накладно, да и небезопасно. От прошлых его удачных охот в долинах Кавказа и горах Средней Азии остались лишь воспоминания, фотографии да лично собранная огромная фонотека. Но и тут, в окрестностях столицы, ему уже несколько раз везло: стихия перелета увлекала и заносила в холодные края птиц редких и невиданных. Если не удавалось отловить, то уж, во всяком случае, получалось записать на пленку голос иноземки. И этим он был удовлетворен и счастлив! Всю жизнь Птицелову приходилось скрывать свое увлечение или уж по крайней мере особо его не выпячивать, ибо окружающие его люди считали это занятие несерьезным, не сообразным ни с его должностью, ни с положением. Однако в кабинете, точнее, в комнате отдыха всегда висели две-три клетки, причем птицы изредка менялись. И среди сослуживцев он получил соответствующее прозвище.
Первые свои выходы на промысел он начинал в середине марта по московским паркам и, как всякий стареющий человек, делал скрупулезные записи. Он никогда не спешил расставлять клетки-ловушки и специальные, связанные из распущенных колготок сети, ибо отлавливал только редких птиц исключительно для собственного удовольствия. Кроме парков, он изредка заезжал на кладбища, причем старые, заросшие кустарниками и лесом, где как раз достойные его внимания певчие птицы появлялись чаще всего. Поминальные жертвы – раскрошенные на могилах вареные яйца, печенье и булки – были хорошим кормом, особенно ранней весной, когда в лесах за городом лежал снег. Кладбищенские сторожа знали Птицелова и за большую плату позволяли ему отлавливать птиц. И только на одно – Ваганьковское – старик приходил лишь записывать голоса на магнитофон и никогда не решался ловить. Это кладбище было для него запретным, но именно сюда его порой тянуло, как тянет на Север весеннюю перелетную птицу. Чтобы услышать пение всей пернатой твари, следовало приходить рано, еще до восхода солнца, и потому Птицелов пробирался на своей «Волге» первого выпуска куда-нибудь к забору вдали от ворот, оставлял машину и по-воровски забирался на кладбище. Тончайший музыкальный слух его как бы скользил в заполненном птичьими голосами пространстве, а дальнозоркий глаз выискивал среди могил пятидесятых годов единственную, двухлетней давности, втиснутую меж литых оград. Под рядовым, малоприметным камнем лежал прах неизвестного ему человека, скорее всего какого-нибудь безродного старика или бомжа, но имя на обелиске, дата рождения и смерти принадлежали Птицелову. Было странно смотреть на свою собственную могилу, и если чуть подольше постоять, то возникало полное ощущение какой-то невесомости, будто он и в самом деле умер 19 июля 1989 года, а то, что сейчас существует на земле, – лишь его душа, витающая над захоронением подобно птичьему голосу. Это же смешанное чувство ирреальности он испытал, когда ему вручили документы прикрытия на чужое имя, и приземляющим, связывающим его с жизнью началом осталось лишь увлечение, определившее прозвище. Указанная же на надгробии дата смерти была замечательна тем, что в этот день у него случился инфаркт, после которого решено было отправить Птицелова на пенсию и обезопасить спокойный отдых некрологом и лукавыми похоронами. Во время своего «воскресения» он не совсем понимал этих крайних предосторожностей, с неудовольствием вселился в новую квартиру за Кольцевой дорогой, но годом позже стал даже радоваться и подумывал, что на всякий случай неплохо бы вообще уехать из Москвы.
А птицы как назло раньше всего появлялись на Ваганьковском и пели тут как-то особенно азартно, только мало кто их слышал из-за раннего часа и мало кто слушал, обеспокоенный иными пристрастиями. Этой весной, в первый раз забравшись на кладбище, Птицелов крадучись побродил неподалеку от «своей» могилы – вовсю уже распевали пищухи, мухоловки, – скорбный мир кладбища наполнялся бездумным, легким весельем. Если присесть на скамеечку и закрыть глаза, время останавливалось и душа трепетала, как горлышко поющей сойки. И тут ему показалось, что все это воробьиное семейство на минуту смолкло и внезапно прозвенел чистый, высокий голос невидимой и неведомой птицы:
– Ва! Ва! Вау-а!
Птицелов вскинулся и замер. Скорее, это напоминало слуховую галлюцинацию, своеобразный крик его души, отягощенной печальным зрелищем собственной могилы. Он никогда в природе не слышал подобного голоса, разве что в магнитофонных записях. Пока старик лихорадочно вспоминал, кому принадлежит этот крик, он повторился, но уже в другой тональности:
– Ву-а! Ой! Ой-ей! Ей!
А потом птица вовсе заплакала, затянула, как старуха причетчица над покойником:
– Ох! Ой-ёе-ёей-ой-ёе-ёей!..
Спохватившись, Птицелов торопливо развернул экран фокусирующего микрофона, ткнул кнопку записи. В ушах застучала кровь. Ему было вредно волноваться, тем более в таком пустынном месте, где некому оказать помощь. В тот миг он забыл об инфаркте и словно молитву шептал: «Еще! еще! еще!..» Он торжествовал! Судя по голосу, это могла быть либо райская птица, либо самец лирохвоста. Плач уже постепенно перешел в веселый призыв:
– Сю-да! Сю-да!
Повинуясь ему, старик осторожно пошел к голому, развесистому клену, в кроне которого сидела птица. Крался и восхищенно гадал: каким образом эта диковинная тропическая гостья могла оказаться на московском кладбище? То, что прибилась к перелетной стае и достигла холодных широт, – исключено. Изнеженные теплом, птицы юга не способны ни к долгим перелетам, ни к жизни в северных странах. Скорее всего это чудо выпорхнуло из домашней клетки…
Еще несколько потрясающих минут Птицелов слушал удивительно чистый голос, стараясь разглядеть птицу среди черных сучьев, но пение смолкло, и легкая стремительная тень скользнула над крестами и надгробьями. Он перевел дух, опытным глазом оценил обстановку и решил немедленно, завтра же утром отловить беглянку. В том, что она завтра прилетит на это дерево и запоет, он был уверен: благородные птицы, как и люди, всегда консервативны и предсказуемы…
Дома он поставил пленку на стационарный стереомагнитофон и включил воспроизведение. В то же мгновение все птичье население квартиры замерло: птицы тоже любили слушать и ценить настоящее искусство. Не пригрезилось!
Старик приготовил тончайшие паутинные сети, бинокль, фотоаппарат с телеобъективом и несколько катушек тонкой резинки, которыми растягивал ловушки. Все уложил в дюралевый кофр и вместе с небольшой клеткой с вечера отнес в машину. Выехал на Ваганьковское еще до рассвета, и пока добирался, а потом с великой осторожностью расставлял, подвешивал к деревьям и кустам сети, заря разгорелась в полнеба. Теперь он опасался одного – чтобы не прилетела другая птица и не впуталась в сети, став пугалом. Однако было тихо и спокойно, даже вороны примолкли в глубине кладбищенского парка, и восходящее за черными деревьями солнце не вызвало ветра.
Он не услышал почему-то ни шороха крыльев, ни стука в ветвях от касания лапок, однако неведомая птица уже оказалась на клене.
– Ва! Ва! Вау! – разнеслось почти над головой и могильными камнями.
Старик, сидя на кофре, поднял бинокль к глазам, но восходящее солнце плавило воздух и сплетение ветвей, – не разглядеть. Тогда он тихо опустился на колени и принялся медленно тянуть резинку, поднимая сеть, чтобы отрезать, перекрыть птице путь в просвете деревьев. Он опасался, как бы паутинка не зацепилась за сучок или резинка не соскочила с блока, закрепленного на дереве. Даже вспугнутые птицы никогда не уходят свечой в небо, – напротив, чаще всего слетают к земле, где больше свободного пространства. Прислушиваясь к чудесному пению этой райской птицы, старик почти уже поднял сеть, но в этот миг голос оборвался, потому что в сети, растянутой над крестами, вдруг забился случайный скворец. И принесло же его в такое мгновение! Птицелов быстрее заработал руками, надеясь успеть заслонить последний просвет паутиной, пока птица не слетела с клена, однако что-то застопорилось в блоке, и к тому же заверещал скворец, давая сигнал смертельной опасности. Видимо, под этот шум райская птица неслышно вспорхнула с дерева и исчезла.
Старик все-таки еще надеялся и минут пятнадцать слушал, стоя на коленях, пока не ощутил ледяной холод земли. Бедолага скворец давно висел в сети, как летучая мышь, – вниз головой, не трепыхался и не верещал. Птицелов вспомнил, что забрался на запретное кладбище без разрешения охраны и могут быть неприятности, поэтому второпях снял сети и, пристроившись на скамейке, стал выпутывать скворца. Тот уже упаковался в паутину, как в кокон, и, чтобы освободить его, пришлось провозиться около получаса. Скворец, правда, скоро обвыкся с опытными руками Птицелова и спокойно дожидался своей участи.
– Еще раз попадешься – запру в клетку! – пригрозил старик на прощание и отпустил дуралея.
Скворец вспорхнул на вербу, охлопался, встряхнулся и нырнул в кусты чуть зеленеющей сирени. Птицелов тоже взбодрился: не удалось сегодня – получится завтра! Не последнее утро в этом мире… Только приехать следует еще раньше и обтянуть клен со всех сторон, чтобы взять птицу на подлете. Способ не совсем честный и, конечно, не благодарный (опять влетит какой-нибудь горемыка!), но зато надежный, когда не знаешь ни характера, ни повадок птицы.
Чтобы не плутать среди тесноты могил, старик вышел на проезжую аллею и пошел к месту, где за забором стояла его машина. В это время откуда-то слева, из-за надгробий, выкатился грузовой «Москвич» и поехал прямо на него. Это была наверняка кладбищенская охрана, прятаться и бежать поздно, да и несолидно.
«Москвич» остановился возле старика.
– Ну что, Птицелов, поймал жар-птицу?
Охранник говорил насмешливо и цинично, готовый к расправе. Скорее всего это был отставной морской офицер – черный китель без погон, форменные брюки, пистолет в подвесной кобуре у колена; он сразу же напомнил старику пожившего матерого грифа, поскольку совершенно лысая голова держалась на длинной шее, обрамленной стоячим воротником, и нос на бровастом лице был крючковатый, хищный.
– Увы, – виновато проронил Птицелов и показал пустую клетку.
– А знаешь, что ловить птиц на кладбище запрещено? – надменно спросил Гриф.
– Знаю, – поторопился старик. – Я вам заплачу!
– Разумеется, заплатишь! – усмехнулся Гриф и открыл дверцу грузовой будки. – Садись, Птицелов!
Старик поспешно забрался в темную, без окон, будку, и машина тронулась. Если бы подобное случилось не на запретном для него кладбище, Птицелов совершенно бы не расстроился. Многие торговцы Птичьего рынка промышляли в кладбищенских парках, несмотря на запрет. Сговорчивые охранники преследовали гробокопателей, а к птицеловам относились снисходительно. Плати и лови на здоровье до открытия кладбища. Здесь же старик трясся в будке и ощущал предательский стук крови в ушах – подскочило давление. Машина несколько раз повернула, потом долго пробиралась, видимо, по узкой пешеходной дорожке и наконец остановилась. Птицелов решил, что его привезли в караульное помещение, однако, когда открылась дверца, он сразу узнал место.
Прямо перед ним была его «собственная» могила… Гриф сел на скамеечку, поджидая, когда старик выберется наружу.
– Скажи-ка мне, Птицелов, каким образом ты воскрес? – спросил он, глядя на могильный камень. – Садись рядом, почирикаем!
Этот человек прекрасно знал, с кем разговаривал, и явился на кладбище, чтобы выследить старика, задержать и привезти сюда. Но что ему нужно?!
– Кто вы такой? Что это означает? – спросил старик, не выдавая себя.
– Это означает нашу конспиративную встречу, – охотно пояснил Гриф и повертел шеей. – Министерство безопасности, полковник Арчеладзе.
Он вытащил из нагрудного кармана удостоверение, задумчиво постучал им о крепкий ноготь указательного пальца. Возможно, он был из московских обрусевших грузин, однако выговор при этом имел странный, малороссийский или южнорусский.
– Чем обязан? – осторожно поинтересовался Птицелов, не испытывая никакого доверия к собеседнику. – Я ловил птицу…
– Обязан, Птицелов, обязан, – озабоченно проговорил Гриф. – Со мной можно говорить открыто и обо всем.
– Я вас не знаю! – отрезал старик. – А таких красных корочек… В палатках у метро можно купить!
– Зато я знаю тебя! – жестко проклекотал Гриф. – Ты работал начальником контрольно-ревизионной службы и курировал Третий спецотдел Министерства финансов СССР. Насколько мне известно, с семьдесят пятого по восемьдесят девятый. После инфаркта отправляют на пенсию и переводят на нелегальное положение. Странно, да? Твой предшественник благополучно прожил старость со своим именем и не скрывался под… могильной плитой. За что такая честь тебе – могила при жизни, Птицелов?
– Это мне неизвестно, – напряженно вымолвил старик. – Руководству было виднее…
– А мне известно, – с мягким сарказмом сказал Гриф. – Ты очень хорошо умел считать золото в граммах, алмазы и бриллианты – в каратах. И ты единственный кое-что знал такое… Я имею в виду «Кристалл», объект «Гранитный»… Ну и прочие объекты спецотдела. Да?
– Знал, – вдруг признался Птицелов. – Да нет теперь ни спецотдела, ни службы. Да и государства нет…
– И золота нет!
Старик пожал плечами:
– Естественно… Нет государства, нет и казны…
– Где же она?
– У вас следует спросить – где, – отпарировал старик. – Вы охраняете государственную безопасность и золотой запас.
– Но ты контролировал перемещение ценностей, – клюнул Гриф. – И всю информацию держал в руках! Следил за каждым граммом, так?
– Так, – согласился Птицелов.
– И куда же исчезла без малого тысяча тонн? – будто между делом поинтересовался Гриф. – Если в казне едва насчитали двести сорок.
– Спросите у министра финансов. У бывшего и нынешнего.
– Но они же безбожно врут! – возмутился Гриф. – Мне нужна информация из первых рук, от непредвзятого человека. И честного! И поэтому я не спрашиваю документального подтверждения. На слово верю.
Птицелов помолчал, будто бы вспоминая, вздохнул, словно всхлипнул:
– Разбазарили казну… Хлеб в Америке и Канаде на что покупали?
Гриф улыбнулся и похлопал рукой по сухому стариковскому колену.
– Непрофессионально, Птицелов. Это сказки для народонаселения. Я спрашиваю подлинную информацию, а не пропаганду. Пока работали прииски, мы могли еще двести лет покупать хлеб и булки с изюмом. Так?.. Куда же испарился запас?
Старик сгорбился и покачал в руке птичью клетку.
– Если бы я не ловил птиц, вы не нашли бы меня…
– Да уж, голубчик, – подтвердил Гриф. – Тебя хобби сгубило. Начал бы собирать марки или монеты… И все-таки, Птицелов, придется сказать: когда и кто в течение последних семи лет получал крупные суммы в золоте. Под каким предлогом, на какие цели и по чьему распоряжению. Ты визировал все документы расхода золота и алмазов, тебя министры финансов боялись… Ну?
– Эх, обольстился, – вдруг заговорил Птицелов. – Сколько раз зарекался не ходить на Ваганьковское… Да птица-то запела чудесная, райская… Никогда не слышал.
– Ты не про райскую птицу думай, – посоветовал Гриф. – Я спросил тебя: куда улетела жар-птица? Не валяй дурака, Птицелов. Ты же хочешь спокойно дожить старость и умереть своей смертью.
– Хочу, – вяло признался старик.
– Вот, хочешь. И синюю птицу хочешь поймать, так?
– Так… – проронил Птицелов и замолчал.
Гриф понял, что паузе этой конца не будет, зашел с другой стороны:
– Хорошо. А можешь ты объяснить: с какой целью на объект «Гранитный» однажды ввозили ртуть?
– Ртуть? – переспросил старик и насторожился. – Ее ввозили не однажды… В складских помещениях собирали золотую пыль, обрабатывали упаковку…
– И на это потребовалось семьдесят шесть тонн ртути? – клюнул Гриф. – Мне известно: часть золота амальгамировали. Но кто распорядился? Зачем? И куда потом вывезли амальгаму?
Птицелов молча приблизился к «своей» могиле, поставил клетку на каменную плиту. Гриф недовольно завертел шеей:
– Ты же понимаешь, тебя уже нет на свете. Нет! Ты мертвец!
– Понимаю, – покивал старик и достал из внутреннего кармана упаковку нитроглицерина. – Я все понимаю…
Он в задумчивости присел на могилу, но вдруг оживился, воскликнул:
– Боже мой!.. Я же держал в руках!
– Ну-ну! – тоже воспрял Гриф. – Продолжай! Что ты держал в руках?
– Птицу!.. Как же я не догадался? Это был скворец!
– Какой скворец? – проклекотал Гриф. – Только не нужно играть сумасшедшего! Я знаю, ты в здравом уме и память у тебя исключительная.
– Что же это я? – растерянно и как-то счастливо забормотал Птицелов. – Не узнал… А это скворец! Наверное, зимовал где-нибудь рядом с райской птицей. И выучился петь… Другой птицы там не было! Известный пересмешник и плагиатор! Но как пел, стервец!
Он выдавил таблетку из фольги, покатал красный шарик на ладони, словно каплю крови, и широким движением забросил себе в рот. Гриф что-то почуял, сорвался со скамейки, но было поздно…
Старик мгновенно подломился и рухнул на спину, раскинув руки. Гримаса нестерпимой боли исказила лицо, но кожа в тот же миг расправилась и глаза закрылись сами собой. Гриф бросился к Птицелову, похлопал по щеке, встряхнул за плечи, затем приоткрыл веко.
Бывший начальник контрольно-ревизионной службы был мертв. Яд действовал мгновенно…
Гриф неожиданно пнул безвольное тело, выматерился про себя и кому-то резко махнул рукой. Из-за надгробных камней показались двое в спортивных костюмах, легко подбежали к мертвому Птицелову. Один тут же присел возле трупа, оттянул веки и медленно выпрямился. Оба выжидательно смотрели на полковника Арчеладзе. Тот же, склонясь над мертвым, ощупал его карманы, достал из бокового связку ключей, затем выдернул из расслабленной и еще теплой руки упаковку с нитроглицерином.
– Труп закопаете в эту могилу, – указал он на плиту, где стояла клетка. – Личные вещи и одежду – ко мне в кабинет. Охрану кладбища не снимать, пока не закончите… В руках держал! Выпорхнул… скворец!
Он сел в «Москвич», замер на секунду, потом ударил кулаком по рулю и отщелкнул трубку радиотелефона…
Поиск Птицелова и операция по его разработке готовились и проводились несколько месяцев, но операция провалена по вине самого руководителя. Полковник Арчеладзе не боялся, что его отстранят от работы и выведут за штат либо вовсе отправят на пенсию; он пережил не одну перетасовку еще в бывшем КГБ, затем в Министерстве безопасности и остался на плаву, поскольку его специальный отдел, созданный по высшей воле сразу после августовских событий девяносто первого, занимался поиском утраченной золотой казны СССР и считался неприкасаемым. Более года ушло лишь на создание глубоко законспирированной агентурной сети с внутренними и зарубежными отделениями, разработку двух самостоятельных программ, которые напоминали авиацию ближнего и дальнего действия. Первая предназначалась для мгновенного реагирования на всякую «горячую», внезапно появившуюся информацию; вторая была рассчитана на более кропотливый анализ и агентурный сбор информации. Именно с этой целью во все правые и многие центристские патриотические партии и движения были внедрены опытные агенты, кроме того, на базе шумной, коммунистически настроенной группы интеллигентов-ученых было образовано патриотическое движение с яркой националистической окраской. Арчеладзе мало интересовала политика, однако он имел твердое убеждение, которое разделялось и высшими эшелонами власти: изъятое из государственной казны издыхающей компартией золото должно было непременно объявиться в виде финансирования правых патриотических партий и движений. Для этой цели не следовало заниматься политикой как таковой, а лишь совершать незаметную работу, сходную с трудом маляра: всех, начиная с монархистов и кончая фашиствующими группировками, подкрашивать красной краской, делая таким образом приманку для тех, кто владел теперь «золотом партии». Судя по оперативной информации, финансирование правых осуществлялось пока за счет патриотически настроенных промышленников и коммерческих структур. Это были едва заметные, почти пересыхающие ручейки. Оппозиция держалась на голодном пайке, но и его следовало постоянно урезать, ибо жаждущий всегда быстрее находит путь к воде, чем имеющий при себе полный бурдюк. Таким образом, Арчеладзе заставлял работать лидеров правых партий на себя. Пусть они ищут, пусть больше делают слепых движений, а его зрячие люди за ними присмотрят. Он был уверен, что пропавшая часть золотого запаса не может долго оставаться без движения. Иначе зачем его изымали и тщательно прятали? Рано или поздно при определенных обстоятельствах начнется подпитка «красных», и тогда будет нетрудно отыскать исток этой золотой реки…
«Стратегическая» авиация медленно делала свое дело, но ощущение успеха или поражения больше приносила «тактическая». (Арчеладзе начинал свою службу в особом отделе авиационного полка и потому с давних пор привык мыслить этими категориями.) Птицелов целиком укладывался в повседневную программу, и полученная от него информация могла значительно ускорить поиск, а то и вовсе привести к открытию. Да, видимо, не зря имитировали его смерть, похороны и не случайно упрятали под чужой фамилией и снабдили мгновенно действующим ядом. С самоубийством Птицелова провалился труд архивной группы отдела, которая не один месяц отрабатывала всю документацию Министерства финансов бывшего СССР, касаемую алмазов и золотого запаса. Часть документов, разумеется, исчезла, но остались косвенные указания на эту часть в других, уцелевших. Теперь некому было задавать вопросы… Упоминание о ртути, полученной Третьим спецотделом, натолкнуло экспертов на мысль, что золото вывозилось с объекта в виде амальгамы либо сливалось в специальное подземное хранилище на территории самого объекта. Можно было надежно упрятать драгметалл и в слитках, но как его достать потом с охраняемой территории? Амальгаму же из специального резервуара можно откачать по подземному трубопроводу обыкновенным ручным насосом-лягушкой. Предчувствуя удачу, Арчеладзе добился разрешения на обследование объектов Третьего спецотдела, а при нужде – и раскопок на территории, однако самые современные способы геофизических методов исследования недр не дали никаких результатов. Специалисты по подземным коммуникациям изучили всю прилегающую к объектам местность, жилые строения и никаких «лишних» трубопроводов не нашли, если не считать заброшенных старых канализационных трасс.
А ртуть, отпущенная Министерству финансов, никак не выходила из головы Арчеладзе, поэтому он затребовал всю документацию по операциям с нею за последние десять лет и обеспечил работой архивную группу еще на несколько месяцев. Уже после смерти Птицелова, в середине лета, начальнику отдела доложили странную, настораживающую информацию, которая еще больше запутала дело. Семьдесят шесть тонн ртути – это огромное количество. Такую массу жидкого металла невозможно утаить, спрятать даже при самом несовершенном учете и контроле. Так вот, получалось, что добыча этой ртути производилась «левым» способом и не отображалась в отчетности. Тот, кто задумывал операцию по изъятию части золотого запаса и его хранению, учел абсолютно все. Лишь маленькая оплошность – железнодорожная товарная накладная – выдавала подлинность факта получения Третьим спецотделом груза повышенной опасности. Получатель и сам груз, как требовала инструкция, были зашифрованы, и железная дорога официально как бы не догадывалась, что везет и кому. Но старые ее служащие, искушенные во всевозможных шифрах люди, прекрасно знали, что везут и по какому адресу. Арчеладзе удалось установить даже номера вагонов, в которых прибыла эта партия ртути на товарную станцию, но откуда была отправлена – оставалось загадкой, поскольку документация исчезла не только из папок Министерства финансов. Он понимал, что изъятием части золотого запаса занимался КГБ, – другой организации, способной провести такую операцию, не существовало. Причем делалось это по заранее согласованному плану, разработанному во всех деталях и имеющему двойное, тройное прикрытие. Это означало, что до сих пор живы и здравствуют люди, которых привлекали и к разработке, и к реализации плана. Иное дело, не всех посвящали в главный замысел операции, и они, как те слепые, знали о слоне лишь то, что сумели пощупать. Искать какие-либо материалы в архивах и делопроизводстве КГБ было бессмысленно: те, кто обеспечивал секретность и прикрытие операции, работали безукоризненно. Оставалось единственное – живые люди, и Арчеладзе усадил своих «штурманов» – аналитическую группу на поиск исполнителей. Аналитики избрали метод исключения и почти сразу отстегнули контрразведку: из этой среды вышло слишком много предателей – невозвращенцев из зарубежных командировок и изменников, – жаждущих поведать миру о тайных делах КГБ и тем самым оттягать себе славу борцов с режимом и деньги в виде гонораров за книги-откровения. Однако никто из них не проболтался о самой «горячей» операции, которая бы стала настоящей сенсацией и долго бы смущала и восхищала Европу: золотой запас СССР всегда был тайной для нее, как невеста под чадрой. Следственный аппарат отпал сам собой по причине его занудства и неспособности к блестящим оперативным действиям. Самым боеспособным, въедливым и решительным оставался аппарат политического сыска. Он был самым приближенным к партийному руководству страны и как бы составлял амальгаму, сплавляясь с ним на молекулярном уровне. Вчерашний оперативник этого аппарата мог стать секретарем обкома, а секретарь обкома – оперативником.
Установив таким образом круг своего интереса, «штурманы» Арчеладзе стали сужать его до конкретных личностей. После многочисленной сортировки и чистки политический сыск отчасти растворился в новых службах Министерства безопасности, имея свойства «амальгамироваться», отчасти оказался за штатом. Последние заслуживали особого внимания, и Арчеладзе запросил у аналитиков пофамильный список. Заштатный генерал Тарасов, работавший в совместной фирме «Валькирия», сразу же насторожил и захватил воображение начальника отдела. А то, что фирма занималась поиском неких сокровищ на Урале и была, по сути, правопреемницей Института, входящего в систему Министерства финансов, лишний раз доказывало причастность генерала к операции с золотым запасом. Однако, помня горький опыт с Птицеловом, Арчеладзе не стал ни задерживать Тарасова, ни искать с ним конспиративной встречи. В окружении генерала не оказалось ни одного агента, ни доверенного лица, с кем можно было установить связи и начать оперативную разработку. Пришлось в срочном порядке изучать обстановку и, рискуя провалиться, вербовать двух агентов из команды Тарасова: никого из чужих ему людей генерал бы к себе и близко не подпустил. Новобранцы Арчеладзе были афганцами, примитивными «дикими гусями», ищущими боевых и бандитских приключений, и могли служить лишь «слухачами». А для оперативной разработки требовался опытный, инициативный агент, способный вывернуть генерала наизнанку. Такой человек у Арчеладзе был, но внедрить его без специальной подготовки в генеральское окружение, где находилось с десяток бывших оперативников контрразведки и «нелегалов»-зарубежников, означало погубить и дело, и агента. Пока группа оперативного обеспечения изобретала легенду и моделировала план ввода профессионального сексота, информация от «слухачей» поступала вялая и маловразумительная. Афганцев взяли «на крюк» и склонили к сотрудничеству за простую уголовщину, и потому, как всякие подневольные, работали они без всякого интереса и усердия. А в конце августа вообще перестали выходить на связь. Выждав положенный контрольный срок, Арчеладзе срочно послал своего оперативника в Красновишерск и скоро получил информацию, отдающую мистикой: генерал Тарасов и оба «слухача» исчезли бесследно…
На какой-то момент Арчеладзе потерял привычное для него самообладание. Птицелов был не первым и не последним, кто при одном лишь приближении начальника специального отдела предпочел смерть. Счет открыл крупный партийный босс – Кручина… Исчезновение генерала подтверждало лишь его причастность к операции с золотым запасом. У всех, кто был так или иначе связан с нею, даже при малейшей попытке прояснить обстоятельства немедленно срабатывал какой-то внутренний «самоликвидатор». Они с такой потрясающей легкостью расставались с жизнью, что если бы не Птицелов, принявший яд на его глазах, Арчеладзе мог бы вообразить себе, что над каждым причастным к тайне золотого запаса висит незримый карающий меч.
В том, что генерал Тарасов мертв, Арчеладзе не сомневался, ибо накануне получил известие, что в районе Красновишерска так же бесследно исчез вертолет, зафрахтованный совместной фирмой «Валькирия», а вместе с ним – находившиеся на борту руководитель этой фирмы, бывший сотрудник Института Иван Сергеевич Афанасьев и три гражданина Швеции – соучредители «Валькирии». Человеку еще было можно потеряться на уральских просторах, но если бы этот вертолет был захвачен и угнан, то давно бы где-нибудь объявился, ибо за всяким летательным аппаратом наблюдала и диспетчерская, и военная служба ПВО. Ну а если бы потерпел катастрофу в тайге – осталось бы хорошо заметное с воздуха выжженное пятно, обломки машины, поваленные и поломанные деревья. Однако спасатели совершили облет огромной территории и ровным счетом ничего не нашли. Исчезновением вертолета с иностранными пассажирами на борту заинтересовались в США и во многих европейских государствах. Отечественным спасателям можно было и не верить, но когда на розыски вылетела международная экспедиция и, не жалея денег, исследовала все предполагаемые курсы пропавшей «вертушки», район Красновишерска стал напоминать Арчеладзе Бермудский треугольник. Он мало верил во всевозможные загадки природы, поскольку был практичным и деловым человеком, больше полагался на анализ и если слышал о таинственных явлениях, то попросту считал, что подготовлены они и проведены очень профессиональными людьми. А в существование каких-то сокровищ на Урале он не верил вообще и потому Институт кладоискателей относил к тем кормушкам, которые во множестве возникали в разлагающемся обществе. Однако возникновение «Валькирии» пробудило в нем серьезные мысли и догадки, особенно когда выяснилось, что там служит генерал Тарасов. Этот не был романтиком и полоумным фантазером, чтобы заниматься «арийскими сокровищами», и если пошел в совместную фирму, значит, за реальным золотом. Реальное же золото – изъятый золотой запас СССР. Раскол, произошедший в «Валькирии», и отделение российской стороны в самостоятельную компанию под руководством генерала означали лишь то, что Тарасов «взял след» и из патриотических побуждений не хочет делиться с какими-то шведами. Поэтому исчезновение генерала со «слухачами» и вертолета с новым руководителем фирмы и иностранцами – дело одной какой-то операции. Похоже, таким образом дала о себе знать некая третья сила, незримо присутствовавшая повсюду – от смерти Кручины и до смерти Птицелова.
Именно она, прекрасно организованная, глубоко законспирированная и вездесущая, больше всего притягивала внимание Арчеладзе. Но была неуловима, как разлитая на полу ртуть.
И хотя теперь Арчеладзе обнаружил новый, перспективный район поиска – Северный Урал, однако гибель Тарасова снова возвращала к исходному рубежу. Аналитическая группа плотно сидела теперь только на уральском материале, пытаясь сопоставить и логически выстроить все интересные факты. У «штурманов» от перегрузки новой, захватывающей информацией лезли глаза из орбит: соединив в одну цепь все исчезновения людей, в том числе разведчиков ГРУ, неожиданную и необъяснимую гибель туристов, сотрудников Института, служащих фирмы «Валькирия», они выдавали совершенно неприемлемые рекомендации, вплоть до объявления части Северного Урала чрезвычайной зоной. Смерть генерала Тарасова, конечно, поколебала хладнокровие Арчеладзе, но при этом он стоически выдержал сумасшедший напор аналитиков и из всех советов внял единственному – пожелал встретиться с человеком по фамилии Зямщиц. И то по причине личностной: когда-то Арчеладзе работал с его отцом. Его философское отношение к остальной загадочности региона диктовалось орлиным спокойствием: когда царь птиц парит в поднебесье, много чего видит на земле, но камнем падает, лишь увидев добычу. А пока по Уральским горам маячила лишь только ее неясная тень. Аналитиков чуть ли не силой оттаскивали от Урала, как раззадорившихся собак от спутанного заячьего следа.
Встречу с Зямщицем ему организовали в царском парке Орехова-Борисова, среди развалин недостроенного Летнего дворца. Несчастного уже привели в чувство, продержав три недели в Химках – в клинике, где космонавты проходили реабилитацию после полетов. Взгляд был осмысленным, но заторможенным, изредка по лицу пробегали гримасы то ли страдания, то ли злорадства, – срабатывала мышечная память, которую не так-то просто изжить за короткий срок, как, впрочем, и густой волосяной покров. Лицо, грудь и руки Зямщица были начисто выбриты и отливали негритянской синевой. На встречу он приехал в сопровождении медика, который понимающе остался сидеть в машине, но посоветовал далеко не отходить.
Арчеладзе с завистью посмотрел на своего шерстяного собеседника, огладил совершенно лысую голову и решил разрядить обстановку:
– До чего же несправедлива природа! Прошу вас, поделитесь со мной! Всю жизнь завидовал мужчинам, которые бреются по утрам.
Зямщиц еще не понимал юмора и остался сосредоточенно-холодным. Арчеладзе грех было жаловаться на природу: когда-то и у него были буйные черные волосы, окладистая борода, однако после работы на чернобыльском аварийном реакторе он потерял волосяной покров, за исключением бровей.
– Ну хорошо, тогда поделитесь своим несчастьем, – засмеялся Арчеладзе. – Расскажите, что с вами произошло.
– Почему я все время должен делиться? – капризно спросил Зямщиц.
– Вы испытали… необыкновенные приключения, – все еще веселился, мысленно подыскивая ключ к собеседнику, слегка смущенный полковник. – Пережить такой стресс… Как себя чувствуете?
– Плохо, – вдруг признался Зямщиц и поднял взгляд от земли. – Мне было хорошо… Я лежал на земле и смотрел в небо. Теперь смотрю в больничный потолок.
Арчеладзе избрал тон, соответствующий настроению собеседника:
– Да… Жить среди природы, бродить босым по траве, слушать птиц… Да.
– Нет, вы ничего не понимаете, – грустно вздохнул Зямщиц. – Лучше молчите о природе… Зачем я вам понадобился?
– Мне интересно узнать, что с вами случилось на Урале.
– Но вам я ничего не расскажу.
– Почему же?
– Потому что вы не умеете смотреть людям в глаза.
Арчеладзе демонстративно уставился в глаза собеседника.
– Вот, пожалуйста! Мне это совсем легко.
– Нет, – вымолвил Зямщиц с тоской. – Вы, как и все, глядите в переносицу. Я не вижу, я не чувствую ваших глаз. К тому же вы похожи на орла.
– В моих жилах течет кровь горца, – без всякой гордости сказал Арчеладзе. – Мужчина – это орел!
– На орла приятно смотреть, когда он в небе, – мечтательно проговорил Зямщиц. – Но если он сидит на твоей груди… Он облезлый и старый, запах падали… На лапах грязь. Нет, не грязь, а кровь с шерстью… И дышит в лицо!
Арчеладзе оглянулся на машину, где сидел сопровождающий Зямщица медик, и стал постепенно заворачивать к нему. Собеседник был еще болен, навязчивые картины будоражили разум, перегруженное впечатлениями сознание едва удерживало его в состоянии реальности.
– Забудьте об этом, – мягко посоветовал полковник. – Все теперь в прошлом, а вы еще совсем молодой человек… Чем собираетесь заняться после… отдыха?
– Еще не знаю, – как-то по-детски вздохнул Зямщиц. – Скорее всего экологией.
– По всей видимости, международной? – уточнил Арчеладзе.
– Возможно… Хотя мне предложили сняться в рекламном ролике.
– Что же рекламировать?
– Бритвы «Жиллетт»…
– Это совсем не плохо!
– Что – не плохо? – неожиданно рассердился Зямщиц. – Рекламировать эти… драные бритвы? Между прочим, наша отечественная фирма «Нева» лучше всех в мире! – Он приблизился вплотную к Арчеладзе и заговорил доверительно: – Они что делают? Они берут нашу «Неву», штампуют из нее три «Жиллетта» и продают. Но одним нашим лезвием я могу три раза побриться, а этих «Жиллеттов» мне нужно три на один раз!
Острый взгляд Арчеладзе неожиданно зацепился за лацкан пиджака собеседника, вернее, за то, что было под ним. Возбужденный Зямщиц слегка развел плечи, и из-под лацкана показался круглый значок со свастикой на желтом фоне. Ничего бы в этом не было поразительного – подобный товар можно уже купить в газетных киосках, – но дело в том, что фашистский партийный значок был настоящим и… золотым.
Этот металл Арчеладзе мог определить на ощупь, с завязанными глазами…
– Наверное, я займусь экологией международных отношений, – между тем продолжал Зямщиц. – Нельзя засорять нравственную атмосферу соседей, лить помои в наши чистые реки…
– Простите, – осторожно остановил его Арчеладзе. – Вы к какой партии принадлежите?
– Принадлежал к коммунистической, – признался тот. – Теперь ни к какой.
Спрашивать в лоб о значке не имело смысла; происхождение его следовало установить оперативным путем. Золотые партийные значки носили только высшие чины в гитлеровской Германии. Его мог привезти из-за рубежа и подарить сыну Зямщиц-старший, работник МИДа. Но такой подарок показался Арчеладзе и неуместным, и в недавние времена даже опасным для карьеры. Бывало, «мидаков» за джинсы делали невыездными…
А значок между тем опять тускло блеснул за лацканом…
– Меня теперь совершенно не волнует политика, – продолжал Зямщиц. – Все, кто ею занимается всерьез, – больные люди. Они не осознают, что дальше так жить невозможно. Паранойя – заразное заболевание, как грипп. Я теперь счастлив, что избавился от нее. А вы спрашиваете, что со мной произошло на Урале!
Арчеладзе окончательно убедился, что Зямщиц пока еще невменяем.
– Значит, штампуют из одной «Невы» по три «Жиллетта»?
– Представьте себе! А я так устал от одноразовой жизни, которую рекламируют. Хочется вечности… Атенон живет уже девятьсот лет.
– Кто такой Атенон?
– Не знаю…
– Но вы только что сказали – живет девятьсот лет.
– Кто живет девятьсот лет? – морща лоб, спросил Зямщиц.
– Атенон!
– Кто же он такой?
– Не знаю, – уклонился от бестолковщины Арчеладзе. – Наверное, древнегреческий герой или библейский царь…
– Пожалуй… Имя знакомое.
Они остановились возле машины, полковник подал руку:
– Отдыхайте, набирайтесь сил. Приятно было познакомиться!
– Если бы было приятно, не смотрели бы мне в переносицу, – заявил Зямщиц. – Ведь вам же, наоборот, очень неприятно, но обязанность велит. Прощайте!
Он независимо уселся в кабину. Медик прикрыл за ним дверцу и намеревался сесть впереди, однако Арчеладзе тронул его за рукав:
– На одну минуту…
Медик с готовностью отошел с ним в сторону.
– Вы работник реабилитационного центра? – тихо спросил полковник.
– Нет, из частной фирмы, – сообщил тот. – Обслуживаем больных… Сиделка, одним словом.
– Замечали у своего клиента значок? Со свастикой?
– Да, – насторожился медик. – Но уверяю вас, он не принадлежит к фашиствующим…
– Я знаю, – успокоил Арчеладзе. – Но очень странное поведение.
– Он нездоров… Но сейчас стало лучше. Хотя странностей еще достаточно, вы правы.
– Каких, например?
«Сиделка» покосился на машину.
– Ну, например… Этот значок на ночь прячет за щеку. А я боюсь, проглотит во сне… Еще заговаривается. Или заставляет двигать койку по часовой стрелке.
– По часовой стрелке? И вы двигаете?
– Двигаю… Мне платят.
– Спасибо. – Арчеладзе пожал слегка вспотевшую руку медика. – Вы понимаете, что наш разговор…
– Понимаю! – заверил тот с готовностью. – Но вы не думайте, он не из этих…
– Я ничего не думаю, – равнодушно отозвался Арчеладзе. – Берегите клиента.
На следующий же день после встречи он грубовато потеснил сиделок из этой частной фирмы и усадил своих. Он не рассчитывал на какой-то значительный результат, а скорее исполнял свою личностную прихоть. Было очень уж любопытно, как это бывший сотрудник международного отдела Зямщиц-старший, аккуратный и законопослушный, привозит сыну такие подарки, а если и не привозит, то терпит свастику на его груди, хоть и упрятанную под лацкан? Конечно, вещица дорогая, имеет нумизматическую ценность, такую и поносить не грех, да ведь так очень просто скомпрометировать себя в глазах «мидаков». Впрочем, от МИДа Арчеладзе был далек и судил о нынешних нравах в его недрах лишь по частным заявлениям шефа, который предупреждал о коричневой заразе в России. А поскольку в интересах дела он сам занимался малярным искусством, то предполагал, что и МИД тоже балуется тем же, подкрашивая по нужде своих противников в коричневый тон. Запад всегда следовало чем-либо припугивать, а он одинаково боялся и красного цвета, и коричневого.
Пока «сиделки» ухаживали за клиентом, Арчеладзе попытался выяснить, кто такой Атенон, упомянутый Зямщицем, однако завидного долгожителя не знал никто из специалистов отдела. Он уже хотел отнести это имя к больному бреду, но тут от «сиделок» пошла занимательная информация. Источники сообщали, что фашистский партийный значок получен клиентом от человека по имени (или фамилии) Атенон, который живет на Урале и которому якобы уже девятьсот девяносто лет. И получен при следующих обстоятельствах: Зямщиц в составе экспедиции фирмы «Валькирия» искал в горах древние арийские сокровища и однажды, когда в одиночку удалился от лагеря на пятнадцать километров и засветло не успел вернуться назад, забрался ночевать в небольшой естественный грот. Ночью к нему вошли неизвестные люди, раздели догола и долго, в полной темноте, куда-то вели за веревку, привязанную к шее. Он мерз в пещере и просил одежду, но незнакомцы не давали и только время от времени насильно натирали его какой-то жидкостью, отдающей аммиаком. Клиент не помнил, сколько времени они блуждали в подземельях, прежде чем оказались высоко в горах у границы ледника. Здесь злоумышленники в последний раз натерли его, затем надели на голову стальной обруч, и один из них легонько ударил по затылку. Больше Зямщиц ничего не помнил, но всегда ощущал себя как во сне, когда наблюдаешь за собой как бы со стороны и, так же как во сне, не можешь вмешаться в события. Он осознавал, что его ищут, наблюдал летающие вертолеты и почему-то прятался от них. Скорее всего от этой аммиачной мази он к зиме зарос густой шерстью и ходил босым по снегу. Он все время избегал людей, но как-то раз заметил на высокой заснеженной горе человека в тулупе, со свечой в руке и помимо своей воли пошел к нему. Это был какой-то сивый, но крепкий старик. Он посветил свечкой в лицо Зямщицу и словно разбудил его, но явь оказалась еще страшнее, чем сон, потому что он реально осознал, в каком состоянии находился. «Что ты искал в горах?» – спросил старик. «Золото», – признался Зямщиц. «Добро, я покажу тебе золото, – сказал старик. – Ступай за мной, только все время смотри на свет моей свечи». Зямщиц пошел за стариком, глядя на огонь в его руке, и через какое-то время они оказались в бесконечной пещере. Наконец старик отворил деревянную дверь и впустил Зямщица в огромный зал, буквально заваленный золотыми изделиями, слитками и монетами. Потрясенный кладоискатель не удержался на ногах, упал на колени, а старик, топча золото, рассыпанное по полу, прошел вперед со свечой, чтобы осветить содержимое зала. И когда он оказался спиной к Зямщицу, тот незаметно нагреб горсть попавшихся под руку этих значков, и поскольку был без одежды, то запихал их в рот. «Придется тебе, человек, так и бродить на коленях», – рассердился старик и заслонил от Зямщица свечу ладонью. Зямщиц испугался, выплюнул золото и стал просить старика помочь ему вернуть разум и вернуться к людям. Не сразу, но старик согласился, велел встать ему на ноги и, глядя на свет свечи, идти следом. И тут Зямщиц не вытерпел, сунул за щеку один значок и пошел. Они благополучно выбрались из зала – старик ничего не заметил, но когда пошли назад, из темных углов пещеры стали раздаваться голоса: «Атенон! Ты привел вора!», «Вор похитил золото!» От волнения и страха Зямщиц непроизвольно проглотил значок. Старик же ничего не отвечал, но когда вывел наружу, последний раз осветил лицо Зямщица и сказал: «Я прожил на земле девятьсот девяносто лет и никогда не видел такой жадности у человека. Мне следует отнять у тебя золото, но для этого я должен убить тебя. Не стану этого делать, живи же звериным образом». И медленно ушел куда-то по склону высокой горы. Некоторое время Зямщиц ощущал реальность и даже сумел исторгнуть из желудка значок, но было поздно: сознание угасло вместе с пропавшим на горизонте огоньком свечи…
Все это Арчеладзе, разумеется, относил к больному воображению несчастного и воспринимал спокойно сказочную историю от первого до последнего слова, кроме двух существенных, имевших зримое подтверждение деталей: звериную шерсть Зямщица и партийный значок из золота. Первое обстоятельство можно было объяснить гормональными изменениями в организме, произошедшими из-за климатических условий и мощнейшего стресса, наконец, природной предрасположенностью к волосатости, однако второе пока не укладывалось в логическую систему. В Западной группе войск в Германии Арчеладзе пришлось почти три года работать в группе по розыску военных преступников, поэтому символическую бижутерию национал-социалистической партии он знал хорошо, в том числе и подобные значки, правда, выполненные из алюминия и реже – из бериллиевой бронзы. Золотой он видел впервые, хотя слышал о таких, и поэтому поставил срочную задачу «сиделкам»: изъять на одну ночь значок изо рта Зямщица и провести экспертизу. К утру на столе Арчеладзе уже было заключение, в котором значилось, что исследуемый предмет является отличительным знаком национал-социалистской партии Германии сороковых годов, что выполнен он из золота девяносто восьмой пробы на немецком монетном дворе и, судя по чистоте оттиска штампа, является примерно семьсотпятидесятитысячным экземпляром. Кроме того, к заключению была приложена справка, что подобных золотых значков было изготовлено около полутора миллионов штук, но всего десяток попало на галстуки и лацканы. Остальные хранились до победы на Востоке в ведении Бормана и составляли часть партийной казны.
Полковник Арчеладзе дочитал документы и ощутил, как ожили и зашевелились на голове корни выпавших волос…
2
Он разжал кулак: темно-серый железный медальон на потертом шнурке оставался теперь единственным предметом, доказывающим существование подземного мира «Стоящего у солнца». Возможно, это был параллельный мир или еще какой-то, если исходить из новомодных теорий, но он был реальный и осязаемый, как напитавшая шнурок и засохшая кровь Страги.
А пчеловод Петр Григорьевич пытался увлечь, а потом утащить мокрого и продрогшего Мамонта.
– Замерзнешь, рыбачок! Пойдем, там баня натоплена… Эй, да пойдем, говорю! Ты что, заболел? Откуда ты вынырнул-то? А ну пошли!
Русинов вырвался, показал медальон:
– Страга погиб… Видишь? Где Валькирия?
– Страга? – Пчеловод потянулся рукой к медальону. – Как? Не может быть!..
– Тебе просил передать… – Он встряхнул головой, с трудом вспоминая слова Страги. – Чтобы Даре сказал: не отправляйте меня несолоно хлебавши… Погоди, что же еще?.. А, Валькирия! Где Валькирия? Собака привела сюда… Где, говори! Я был там, на стыке континентов, видел живых и мертвых…
Пчеловод неожиданно бросился бегом в гору, споткнувшись на каменной осыпи, стал карабкаться вверх на четвереньках и скоро скрылся из виду, а Русинов встал и снова полез в воду. Каким бы ни был ирреальным этот мир на стыке материков, вход в него существовал! Причем где-то рядом! Им пользовались и Страга, и Варга, когда после лечения внезапно исчезли с пасеки, и, возможно, сам Петр Григорьевич. Не зря он сидел здесь! Скорее всего служил привратником, охраняющим подводное устье пещеры. Здесь можно было ходить зимой, через прорубь, из которой пчеловод брал воду, и не оставлять следов…
Русинов забрел по пояс, ледяная вода сковывала мышцы, захватывала дыхание. Он понял, что на мелководье не может быть входа: подземная речка впадала где-то на середине глубокого плеса, потому его гладь была неспокойной даже в самую тихую погоду. Двигаясь против течения, он забрался по грудь и услышал, как где-то за пасекой взвыл мотор, и через мгновение оранжевое крыло дельтаплана замелькало среди высоких прибрежных сосен. В тот же миг дно выскользнуло из-под ног, однако подводный поток вытолкнул его на поверхность, а течение вновь вынесло на мелководье. С полубезумным упрямством Русинов встал на ноги и опять побрел в глубину. На ходу он поднял тяжелый камень, чтобы не отрывало от дна, и, забравшись по горло, нащупал ногой его край. Тело от холода потеряло чувствительность; он не ощущал давления струй, но зависшую над подводной бездной ногу выбрасывало вверх вертикальным потоком, чуть не опрокидывая его вниз головой. Перед глазами вспучивалась поверхность воды – подземная речка была здесь! Оставалось набрать побольше воздуха и, обняв камень, нырнуть в эту пропасть, но легкие закупорило, сдавило спазмом гортань. Он потянул носом и, потеряв равновесие, захлебываясь, пошел вниз головой. Руки инстинктивно разжались, камень выскользнул, и восходящий поток вытолкнул его на поверхность…
В этот момент он услышал знакомый долгий крик:
– Ва! Ва! Ва!..
Над обрывом стояла высокая женская фигура с поднятыми к небу руками, длинные белые одежды, вздуваемые ветром, делали ее призрачной и бестелесной.
– Валькирия, – прошептал он ледяными губами. И понял, что замерзает. Холодная смерть уже сломала волю к движению, сковала мышцы. В ледяной воде ему стало тепло и мягко, как в пуховой постели. Разве что под животом шуршал гравий – река выбросила его на отмель и теперь волокла, как бревно. А умирать было легко и приятно, ибо чудилось, как, не касаясь земли, с высокой кручи к нему медленно слетает Валькирия – вьются волосы по небу! И очарованный этой невесомостью, он сам будто бы наливался тяжестью, каменел и примагничивался к земле. Неожиданный приступ кашля сломал его пополам, изо рта ударил фонтан воды. Он не удержался на ногах, упал сначала на колени, потом на четвереньки; где-то в глубине сознания заметалась стыдливая и беспомощная мысль, что он оказывается перед Валькирией в таком неприглядном виде, бессильный, жалкий и раздавленный земным притяжением. Изрыгнув воду из легких, он едва отдышался и поднял слезящиеся глаза…
Вместо подземной богини, вместо таинственной Девы, поднимающей павших воинов с поля брани, он увидел Ольгу, сбегающую вниз по берегу в расстегнутом белом халате. Она безбоязненно пронеслась по мелководью, схватила за руку:
– Саша! Боже мой! Саша! Вставай!
– Где… Валькирия? – хрипло дыша, спросил он. – Я видел… На обрыве…
– Что ты, милый… – Она встала на колени и стремительно, чуть касаясь губами, стала целовать его лицо. – Что ты!.. Тебе почудилось! – И вскочила, заторопилась. – Вставай! Иди за мной!
Русинов встал на колени, обнял ее ноги:
– Ты – Карна? Признайся мне – Карна?!
Она вдруг отшатнулась, роняя его в воду, схватилась за свои волосы.
– Почему ты назвал меня так? Я не Карна! Смотри, это мои космы! Я не Карна! Не накликай беды!
– Страга сказал – собака приведет… Она привела к тебе!
– Ну хорошо, хорошо, – вдруг сдалась она. – Я – Валькирия! Вставай! Поднимайся на ноги!
Неуправляемое тело вдруг стало послушным. Он медленно распрямился, но идти не смог. Тогда она запустила руку ему под свитер и начала растирать солнечное сплетение. Русинов чувствовал лишь толчки ее ладони, потом возникло тепло, в одной точке, будто искрой ожигало…
– Иди! – велела она. – Ступай за мной!
– Где собака? – спросил он. – Со мной была овчарка…
– Иди! – крикнула она звенящим голосом. – Беги за мной! Не смей отставать!
Русинов чуть не задохнулся, пока они поднимались на высокий берег, но Ольга, не давая ему перевести дух, потянула к бане. Там он повалился на скамейку, ватный, безвольный и противный себе. Она же, наоборот, стала веселой и дерзкой.
– Сейчас согрею тебя! – приговаривала она, стаскивая с Русинова мокрую одежду. – Ты парился когда-нибудь с девушкой, а? Нет?.. С Валькирией? Сейчас узнаешь, почему передо мной восстают мертвые!
– Сам, сам, – вяло сопротивлялся он. – Мне бы отдышаться – я нахлебался воды…
– Лежи, утопленник! – приказала она и содрала, выворачивая наизнанку, липнущую к телу рубаху. – Потом ты мне все расскажешь… Боже, посмотри, на кого похож! Кощей Бессмертный! Одни кости!..
В жарко натопленной бане он наконец стал ощущать холод и не мог справиться с крупной, лихорадочной дрожью. Ольга помогла ему перебраться на полок, подложила в изголовье распаренный веник.
– Теперь закрой глаза и слушай мои руки, – приказала она. – Не бойся уснуть. Когда я разбужу тебя, ты уже будешь здоровым и сильным.
Русинов ощутил, что веки слипаются, а еще через мгновение перестал ощущать ее руки. Душа замерла, как бывает, если самолет падает в воздушную яму, и скоро полное чувство невесомости освободило его от земной тяжести и холода. Ему начал сниться сон, а точнее, сон-воспоминание, единственный эпизод из младенчества, который давным-давно опустился в глубины памяти. Однажды он выбился из пеленок и замерз – был, наверное, месяцев пяти от роду. Зыбка висела на очепе возле материнской кровати, он чувствовал близость матери, кричал и никак не мог докричаться; полусонная, она протянула руку и покачивала его в надежде, что ребенок успокоится. Он уже кричал так, словно погибал в ту минуту, и, наконец, привел ее в чувство. Мать взяла его на руки и приложила к груди. Стремительный поток благодатного, спасающего тепла вместе с молоком проник в рот и охватил все его существо. Он не помнил вкуса молока: в тот миг не был голоден. Эта великая жажда, нестерпимая тоска по материнской груди, сопровождала его все детство…
Теперь ему чудилось, будто он приник к груди и втягивает в себя поток восхитительной, трепещущей энергии. И не было ни стыда, ни ощущения неестественности происходящего; напротив, его чувство благодарения как бы вдохновляло Деву-кормилицу, возбуждало в ней неуемную материнскую радость и восторг.
Еще он понимал, что совершается нечто неподвластное ни разуму, ни привычной житейской логике; неверующий, он осознавал божественную суть этого действа и желал в каком-то неведомом сладострастии единственного – чтобы не прерывался удивительный сон…
– Ну хватит, вампир, – услышал он и лишь потом, открыв глаза, пришел в себя. – Ты меня высосешь до дна… Смотри, уже глаза ввалились.
Сон оказался реальностью, и все, что причудилось – от томительно-сладкого соска во рту и до прилива мощной, будоражащей энергии, – все было явью. Ольга лежала подле него на боку, как мать-кормилица, и настойчивыми пальцами обтирала грудь. А вокруг ее глаз действительно образовались бледновато-синие круги…
«Валькирия! – подумал и изумился он. – Она – Валькирия!» Ольга между тем отняла грудь и убрала ее под халат. И на миг, с младенческой безрассудностью, он потянулся к ней руками, затем отдернул их и, смущенный, сел. Медальон качнулся и ударил в грудь, окончательно возвращая его в чувство. Она взяла на ладонь металлическую пластину, огладила пальцем рельефно выступающее изображение сокола с распущенными крыльями.
– Зоркий сокол… – И вдруг голос стал неузнаваем. – Скажи, кто убил Страгу?
Русинов снял с шеи медальон, взвесил в руке и подал Ольге:
– Не знаю этих людей… Кажется, они искали золото.
Если бы она загоревала, заплакала или еще как-то выразила свою печаль и жалость, все было бы естественно и по-женски. Однако побелевшее лицо ее вытянулось, глаза сделались огромными, превратившимися из голубых в темно-синие, как штормовое море, затвердели губы, а в голосе послышался воинствующий гнев:
– Они должны умереть! Они умрут! Хочу праведной мести!
Эта внезапная смена чувств восхитила и устрашила его. «Ты – Карна! – чуть не крикнул Русинов, но помешали, остановили подступившие слезы. – Я люблю тебя! Я боюсь тебя!..»
– Я отомстил, – признался он, как бы насыщая ее стальным, звенящим гневом. – И у меня не дрогнула рука! И нет ни сожаления, ни раскаяния.
Она обласкала пальцами медальон, коснулась губами. Взгляд ее при этом потеплел, истаяла гневная белизна.
– Где тело Страги?
– В Зале Мертвых. Я положил его в соляную гробницу.
– Ты входил в Зал Мертвых? – насторожилась она.
– Да… Страга не мог уже двигаться.
– Вот почему ты чуть не выпил меня. – Она подняла меркнущие глаза и слабо улыбнулась. – Теперь в тебе часть моего существа. И пока для нас светит солнце, мы будем как два сообщающихся сосуда… Но прежде возьми гребень. – Она вынула из кармана тяжелый золотой гребень в костяной оправе с отверстиями для четырех пальцев. – Расчеши мне волосы. Видишь, как спутались. Только бережно, не урони ни одного волоска.
Русинов взял этот странный гребень, насадил его на руку и вдруг вспомнил, как Авега мечтал о том, чтобы Валькирия позволила расчесать ее волосы. Он хотел этого как высшей награды! Наверное, он знал священность ритуала и мог оценить его. Тут же, когда Ольга спустила с плеч белый медицинский халат и склонила перед ним голову, он чуть не задохнулся от внезапного и неуместного чувства плотской страсти. Щемяще-жгучий ком возник в солнечном сплетении, и оттуда одновременно по всему телу брызнули его лучи, пронзая мышцы судорожным током. Разум не слушался, парализованный, обездвиженный одним стремлением – жаждой обладать… нет, владеть ею! Рука с гребнем зависла над волосами, рассыпанными по обнаженным плечам; другая же, помимо воли, коснулась ее спины, и золотистая, шелковая кожа, ощущаемая кончиками пальцев, отдалась сладкой, ноющей болью в суставах.
– Валькирия, – вымолвил он одеревеневшими губами.
Она видела и чувствовала, что с ним происходит, но оставалась холодной и, даже напротив, леденела еще больше. Его прикосновения вызывали боль, как было уже, когда она, отдавшись солнцу, спалила себе кожу. Однако при этом она не отстранила его руки, а лишь попросила слабым, утомленным голосом:
– Расчеши мне волосы… Голову мою расчеши.
Дрожащей рукой, скованной гребнем, он дотронулся до волос и бережно-неумело потянул сквозь золотые зубья первую прядь – от виска к плечам.
– Не дай упасть волоску…
– Не бойся, – задыхаясь, проговорил он. – Ни одного не уроню…
Спутанные, влажные волосы мягко скользили между зубьев и между пальцев, продетых в отверстия, – странный этот гребень был специально так и устроен! Не золотом, но рукою расправлял он поникшие космы! И вдруг почувствовал, как эта неуемная страсть – дрожащее напряжение и сладкая боль в солнечном сплетении – побежала по руке, по пальцам и через них стала вливаться в пряди волос. Едва касаясь, он проводил рукой лишь один раз, однако волосы ее мгновенно оживали, начинали искриться под пальцами, распушаться, делаясь легкими, почти невесомыми. И это чудесное их перевоплощение наполняло радостью, кажется, большей, чем соитие, чем желание владеть ею!
В мгновение ему вдруг стали ясны и понятны смысл и суть сообщающихся сосудов: он отдавал ей ту часть энергии, которую получил, приложившись к груди матери-кормилицы. Но отдавал ее уже в ином виде, в том, который был необходим для женщины, чтобы зажечь свет волос и меркнущих глаз.
И уже не скупясь, щедрой рукой он оживил каждую прядку, огладил, обласкал голову, с восторженным удивлением отмечая, как быстро и мощно наполняется сосуд ее чувств.
Никогда и ни при каких обстоятельствах он не испытывал подобной близости; он понимал, что происходит некий божественный ритуал, суть которого лежит вне обычных отношений мужчины и женщины, любящих друг друга. И если случаются непорочные зачатия, то, видимо, от такой вот бесконечно высокой, космической связи. Дух его ликовал!
– Мне стало хорошо, – вымолвила она, прислонившись лбом к его груди, губы почти касались солнечного сплетения, а ее дыхание словно раздувало угли гаснущего костра.
– Ты – Карна! Валькирия! – тихо воскликнул он, уже не сомневаясь, кто сейчас с ним и какой великой чести он удостоился – расчесывать золотые волосы!
Но это его убеждение неожиданным образом пронзило ликующую душу тоской и чувством безвозвратности. Узнав ее, соприкоснувшись с таинством ее существа и существования, он внезапно понял, что отныне больше никогда-никогда не увидит Ольгу – бродящий, хмельной напиток, будоражащий кровь и воображение. И никогда не будет иной, земной близости и земных отношений. А он, простой смертный, наделенный плотью и кровью, мог только восхищаться божественностью их связи, но желал-то обладать, владеть ею!
В этот миг он обретал, может быть, любовь вечную, но невыносимо горько было расставаться с тяготением земных чувств. Он вдруг проник в тайный смысл истины о том, что браки творятся на небесах, однако душа протестовала и требовала его земного продолжения. Он понимал, что, поднявшись из недр «Стоящего у солнца», изведав вездесущую, мертвящую соль Зала Мертвых и прикоснувшись к таинству жизни и истинным сокровищам Валькирии, не может оставаться прежним. Что здесь, в жарко натопленной бане, то ли по случайному совпадению, то ли по древней славянской традиции он как бы родился заново. И Дева, разрешившись от бремени, здесь впервые приложила его к груди, по-матерински щедро отдав ему свои силы и чувства. Он начал осознавать, что отныне действительно связан с нею неразрывно и, как некогда Авега, станет все время мечтать, чтобы Валькирия преклонила перед ним голову и вложила в руку золотой гребень…
– О чем ты жалеешь? – вдруг спросила она с легкой настороженностью. – Чувствую, как болит у тебя под ложечкой…
– Ни о чем не жалею, – выговорил он, задавливая в себе тоску.
– Неправда!.. – Она подняла лицо к нему. – Меня не обманешь.
– Знаю…
– Не скрывай от меня ничего, говори.
– Как тебя называть теперь? – спросил он, перебирая золотые волосы. – Карна? Валькирия? Дева?
– Дева мне, конечно, очень нравится, – прошептала она. – Это же означает богиня?
– Да…
Она подняла за шнурок медальон, примерила его к груди Русинова, полюбовалась.
– Жаль, но меня зовут Ольга. И я люблю свое имя… А ты подумал, я Валькирия?
– Не подумал… Я узнал тебя, увидел, испытал твою силу. И верю!
– А ну признайся! – тая смех, потребовала она. – Кого ты больше любишь? Меня или Валькирию? Только смотри мне в глаза!
– Боюсь, – проронил он. – Душа разрывается…
– Боже мой! Какой ты романтик, – легко вздохнула она. – Тебя так просто убедить!.. Увы, я не Карна, не Валькирия. Ты очень хотел увидеть ее, и я сыграла…
– Хочешь переубедить меня? Но зачем?
– Чтобы ты не заблуждался! Смотри, я обыкновенная, земная…
– Нет!
– Спасибо, милый! – Она поцеловала его в глаза. – Мне очень приятно…
– Нет!
– Ладно, признаюсь! – тихо засмеялась она. – Я умею отводить глаза. Но это не такое уж великое искусство. Им владеют многие женщины от природы…
– Не верю! – Он помотал головой. – Это сейчас ты отводишь глаза. Почему ты не хочешь сказать правду о себе? Ты сильно изменилась. Когда мы виделись в последний раз…
– Неужели ты не видишь, как изменилось время с той поры? Все уже не так, как было!
– Я все вижу!.. И гнев твой увидел, когда заговорила о мести… За гибель Страги! Не переубеждай, пожалуйста, не жалей меня!.. Это был не женский гнев, даже не человеческий – божественный…
– Потому что Страга был моим женихом, – вдруг вымолвила она грустно. – И нынче я должна была выйти замуж…
– Вот как? – изумился он и помолчал. – Но Страга любил другую… Я могу рассказать тебе…
– Не нужно, я все знаю, – остановила она. – Ты только скажи мне: эта девочка… эта девушка пришла к камню?
– Нет, не пришла…
– Поэтому Страга погиб, – заключила она и вздохнула. – Его никто не хранил, никто не творил над ним обережный круг.
– А ты?
– Я хранила тебя. И отняла тебя у смерти.
– Но это… недоступно человеку! Это Божественный Промысел!
– Теперь ты хочешь убедить меня, что я – Валькирия! – снова засмеялась она. – Нет, правда, мне это очень нравится! Но к сожалению, я родилась на земле. Видишь, обыкновенные руки. Насквозь пропахли лекарствами. И халат… Я врач и кое-что умею. То, что не могут другие.
– Умеешь отнимать у смерти?
– Не всегда удается… Тебя отобрала. – Она была счастлива. – Хотя было нелегко… Сильное переохлаждение организма, судороги. Ты замерзал…
– Ты согрела меня… грудью? Или это снилось?
– Нет, не снилось, и я не отводила тебе глаз. – Она торжествовала. – Только не спрашивай больше ничего, ладно? Мало интересного. Просто очень древний способ возвращения к жизни умирающих воинов.
Он чувствовал, как она старается скрыть все то, что поневоле открыла и что ей запрещено было открывать. Она разрушила выстроенный в его воображении образ Девы-Валькирии, тем самым как бы приземляя себя, упрощая действо до элементарного действия. Скорее всего она хотела остаться земной, однако неведомая сила каких-то условий, ритуалов либо обстоятельств диктовала ей другое существование. Он радовался ее стремлению, угадывал в нем желание сохранить свое имя и земные чувства и одновременно ощущал разочарование, ибо теперь ему становилось нестерпимо жаль расставаться с Валькирией. Пусть придуманной, рожденной из домыслов и догадок, однако возбудившей в нем неведомое, никогда не испытанное ликование от высшей, непорочной близости.
– А волосы?! – спохватился Русинов. – Ты преклонила голову, позволяя расчесать ее… Авега бредил этим мгновением!
– И ты станешь бредить, – не сразу сказала она и вскинула печальные глаза.
– Я знаю! Буду… Волосы Валькирии! – Он приподнял на пальцах ее пряди. – Космы света!.. Собака привела к тебе. Ты Валькирия. Страга просил передать медальон…
Она подняла на ладони медальон и что-то вспомнила. У нее потемнели голубые глаза…
– Он вернул мне свободу. Это мой сокол. Когда-то я своей рукой возложила его на Страгу. Мне было четырнадцать лет… Помнишь, говорила – женщина делает выбор… Да, я Валькирия! И моя дочь будет Валькирией, и внучка… И они сделают выбор когда-нибудь…
Показалось, что она сейчас заплачет, однако голос ее лишь стал печальнее:
– Да изберут ли их? Сохранят ли преданность?.. Страга нашел девочку в горах и забыл обо мне.
– Почему же он тогда не освободил тебя?
– Но эта девочка не могла держать над ним обережного круга, – объяснила она. – Я хранила его все годы, пока он ждал… А потом встретила тебя. И погубила Страгу. – Торопливыми руками она собрала волосы, скрутила их в тугой жгут, перевязала шнурком медальона. – Атенон мне не простит! Страга был его любимцем!
– Кто? Кто тебя не простит?
– Владыка Атенон… Меня ждет наказание. Он обрежет мои космы. – Она прижала жгут волос к груди. – Он сделает меня Карной!.. Ты в последний раз расчесал их. Ты был первый, кто коснулся моих волос. И теперь их не будет. Пустят по ветру мои космы! И вороны растащат их на гнезда…
– Мне довольно будет твоей любви!
– Это сейчас довольно, – горько вздохнула она. – Но теперь ты всю жизнь будешь тосковать о моих волосах.
Русинов отнял у нее косу, распустил ее, рассыпал по плечам.
– Никому не дам! Ни одного волоска!
– Благодарю тебя. – Она слабо улыбнулась. – Только защитить мои космы не в твоей воле. Ими владеет Атенон… А без волос ты меня разлюбишь! Нет! Не говори ничего! Я знаю!.. Ты увидишь других Валькирий, и тебе захочется прикоснуться к их волосам. Кто-нибудь из них очарует… Зачем тебе стриженая Валькирия?
– Но ты же моя Валькирия! Моя Карна!
– Зови меня прежним именем…
– Хорошо… Скажи мне: Атенон – это ваш господин? Кто он? Князь?
– Владыка.
– Как найти его?
– Этого никто не знает, – проговорила она обреченно. – Атенон сам находит того, кто ему нужен… Не переживай за меня. Все равно не избежать кары и позора. Нужно подготовиться и достойно перенести наказание.
– Я тебя не оставлю! – заявил он. – Теперь я буду с тобой всюду.
– Но ты же знаешь, это невозможно! – чуть не крикнула она. – Ведь и твоя судьба во власти Владыки! А он может изгнать тебя, пустить странником, сделать безумцем!
Он помолчал, в одно мгновение поверив в беспредельную власть и силу неведомого Владыки. И горько усмехнулся над собой:
– Мне казалось, гоями правит Валькирия…
– Мы лишь женское начало. – Она вновь стала собирать волосы, высвобождая их из рук Русинова. – Как и во всем мире, женщина – хранительница жизни, огня. Поэтому нас много и мы – смертны. Атенон – единственный, владеющий жизнью и смертью, землей и небом… Но пока на моей голове космы, я оберегу и от власти Владыки! Он не сделает тебя изгоем!.. А если лишусь волос, стану бессильной. И тогда не суди меня. Нет! Погоди, не клянись… Ты слышал в горах голоса? Долгие крики? Это Карны кричат. И я стану бродить призраком и кричать, пока не отрастут волосы.
– Мне нужно вернуться назад, в пещеры, – сказал он, останавливая ее руки. – Ты можешь пойти со мной?
– Нет! – испугалась она. – Мне нельзя!.. А тебе… А ты забудь, что был там. И никогда не вспоминай! Иначе тебя лишат рассудка.
– Меня привел Страга! – воспротивился Русинов. – Я видел сокровища в Зале Жизни… Там – Веста! Я едва прикоснулся!.. И понял, во имя чего искал!.. Зачем жил!..
Она неожиданно стукнула его по лбу ребром своей ладони, а голос стал ледяным, как-то сразу привел в чувство:
– Ты уже безумец! Немедленно и навсегда перестань думать о том, что видел. Не смей вспоминать!
– Почему?! – изумился и устрашился он. – Почему ты мне запрещаешь?
– Потому что твой разум горит! – прежним тоном вымолвила она. – Ты впадаешь в истерику!.. А разум гоя всегда холоден и спокоен. Не перестанешь думать – сойдешь с ума. Ты не первый!.. Пока имею силу – охраню тебя и спасу. Потом – не знаю… Научись владеть собой. Остуди голову! У тебя жар!
– Неужели я никогда не вернусь туда?
– Ты пока не готов к познаниям Известий. – Металл в ее голосе начал плавиться. – И пусть тебя это не смущает. Ведь ты пришел к нам из мира, которым правят кощеи. Они используют жар твоего разума, получают чистую энергию и за счет нее становятся бессмертными. Всю свою историю человечество стремилось избавиться от кощеев, но жажда свободы зажигала огонь сознания и становилась питательной средой. Как только кощеи начинают голодать, принимаются рассеивать мысль о свободе, насыщают человеческий разум нетерпением, желанием борьбы, истеричностью… С горячей головой никогда не разорвать этот круг. Пока ты не научился управлять собой, забудь дорогу в пещеры, не вспоминай о сокровищах. А я тебе помогу. – Она по-матерински обняла его, прижимая голову к груди. – Ты прошел испытание золотом. Впереди самое трудное, но ты не бойся, иди… Даже если меня лишат косм и я потеряю с тобой космическую связь, останется сердечная. А над сердцем женщины даже Атенон не имеет власти!
Она осторожно уложила его, легким движением рук расслабила напряженные мышцы. Жгут тяжелых волос сам собой распустился, и, обретя невесомость, ее космы лучились теперь перед глазами, касались лица и вызывали легкий, щекочущий озноб.
– Повинуюсь тебе, – проговорил он. – Твоему сердцу и уму. Исполню всякую твою волю!..
– Слушай мои руки…
– Но я боюсь холодного разума! Он способен остудить самое горячее сердце…
– Повинуйся рукам моим…
– Лед и пламень!.. А я хочу остаться человеком… Отчего ты плачешь? Тебе должно быть стыдно плакать… Ты же Валькирия!
Он не хотел засыпать и противился дреме, предчувствуя если не коварство сна, то новую неожиданность, которая ждет его после пробуждения. Чтобы не потерять реальности, он перехватил руку Валькирии, сжал ее в своих ладонях, и все-таки в какой-то момент явь ускользнула…
А просыпаться он начал оттого, что ему кто-то стал отпиливать левую руку. Явь возвращалась очень медленно, а блестящая хирургическая ножовка работала быстро, отгрызая кисть у самого запястья. И когда ему начали отпиливать правую руку, Русинов пришел в себя и совершенно спокойно подумал, что это ему определили такое наказание. Валькирии отрежут волосы, ему – руки…
Он с трудом разлепил загноившиеся глаза: Петр Григорьевич сидел подле него и, зажав между колен кисть руки, методично орудовал слесарной ножовкой. Плоть потеряла чувствительность, казалась чужой, а запястья были плотно забинтованы, наверное, для того, чтобы не текла кровь… Кажется, Валькирии удалось погасить его горящий разум, ибо реальность он воспринимал с холодным, невозмутимым рассудком. Похоже, был уже вечер: низкое солнце пронизывало дом пчеловода длинными пыльными лучами. Он не помнил, каким образом его перенесли из бани в избу, да и не старался вспомнить, воспринимая все происходящее как данность.
Пчеловод закончил работу, но, странное дело, руки оказались на месте. Только теперь без стальных браслетов от наручников.
– Тебе эти украшения ни к чему, – как-то незнакомо и сухо проговорил Петр Григорьевич. – Вставай, будем ужинать.
Русинов сбросил с груди одеяло, однако не встал. На солнечном сплетении он ощутил металлический холодок и медленно дотронулся рукой – железный медальон с изображением сидящего сокола…
– Где… Ольга?
– Не задавай вопросов, – обрезал всегда приветливый и добродушный пчеловод. – Делай то, что приказано.
– Мне нужно знать, где сейчас Ольга! – упрямо заявил Русинов и сел на постели.
– Тебе нужно знать то, что можно, – ледяным, непривычным тоном отчеканил старик. – И не более того.
Он как-то сразу понял, что спорить либо требовать чего-то от старика бесполезно. Надо действовать. Он огляделся – его одежды не было, хоть в простыню заворачивайся…
– Мне надо одеться, – сказал он. – Я не намерен оставаться здесь.
– Твои намерения никого не интересуют, – заявил Петр Григорьевич. – Пока ты будешь находиться здесь, в доме. Приказано не выпускать.
– Кем приказано?
– Валькирией.
– Где же она, Валькирия?
– На тризне, – был ответ.
– Понял… Она в пещерах? Там, внизу? – Русинов заволновался. – Понимаешь, ее могут лишить волос! Я должен идти туда!
– Пока ты должен есть и спать.
– Но у Ольги отрежут космы!
– Это меня не касается! – Старик подал ему старый рабочий халат. – Вот тебе одежда. В доме тепло.
– Но это касается меня! – воскликнул он.
– И тебя не касается, – отрубил пчеловод. – Все произойдет так, как должно произойти. Кого и чего лишать – промыслы не наши.
– Я все равно уйду! – не сдержался Русинов.
– За стол! – приказал старик. – Здесь нет твоей воли.
Русинов осознал, что задираться не следует, и, натянув халат, сел к столу, накрытому как в хорошем дорогом ресторане: хрусталь, мельхиор, вкусные на вид и изящно разложенные на фарфоре блюда.
– Когда ты в последний раз ел? – спросил преображенный пчеловод.
– Не помню, – отозвался Русинов. – Я потерял счет времени…
– В таком случае сначала выпьешь этого напитка. – Старик налил полный фужер янтарной густой жидкости. – Это старый мед с лимонным соком. Нужно восстановить функции желудка.
Русинов потянул фужер к губам, намереваясь выпить залпом, – во рту чувствовались горечь и сухость, – однако Петр Григорьевич звякнул вилкой.
– Не спеши!.. Сегодня не простое застолье, а тризна. Следует соблюдать ритуал. Пусть же имя Вещего Зелвы всегда греет наши уста! Пусть его мужественный дух вдохновит нас к подвигам. За память о Зелве!
– Но погиб… Страга, – заметил Русинов, смущенный речью старика.
– Зелва был Страгой Запада, – объяснил Петр Григорьевич. – И погиб раньше. Его задушили струной гавайской гитары.
– Я знаю только этого Страгу… Его звали Виталий.
– Это был Страга Севера. Ты еще много чего не знаешь… Выпьем за Вещего Зелву!
У Русинова язык не поворачивался называть старика по имени и отчеству – слишком они были разные теперь – развеселый, бесшабашный пчеловод и этот человек, ничего с ним общего не имеющий, если не считать облика. Он выпил приятный на вкус и обволакивающий горло мед.
– Скажи мне… Кто он был – Зелва? Если можно мне знать?
– Зелву ты обязан знать, – проговорил старик, расправляя усы. – Это был Вещий Гой, сильный человек и глава рода. Среди изгоев он жил как цыганский барон.
Похоже, выпитый стариком мед слегка начал размягчать его тон. Русинов тоже ощутил легкое головокружение: напиток всасывался в кровь уже во рту…
Пчеловод взял другой графин и снова наполнил фужеры до краев, теперь уже темной, ядреной медовухой.
– Страгу Севера ты знал и должен быть благодарен ему, – проговорил он. – Помни его всегда! Он открыл тебе дорогу, указал путь. Он был отважным и храбрым гоем, но его сгубила земная любовь. Он утратил обережный круг Валькирии… Светлая ему память!
Старик пил большими глотками, проливая медовуху, которая стекала по усам и бороде. Но закусывал аккуратно, блестяще владея изящными столовыми приборами. Русинов же есть еще не мог, а лишь двигал вилкой кусочек хлеба в своей тарелке. Он подождал, пока пчеловод доест ветчину и снова возьмется за графин.
– Недавно здесь разбился вертолет…
– Минуту! – прервал старик. – На тризне можно говорить только мне. Я знаю: в этом вертолете был твой друг Иван Сергеевич Афанасьев. Он, как и все, был изгоем, но по духу и мужеству удостоился чести гоя. Он жив, не волнуйся. Но где сейчас – не знаю.
После этих слов чопорность и безапелляционная строгость старика начали нравиться Русинову. Он уже стал поджидать, когда Петр Григорьевич окончательно расслабится, закончив ритуальность на этом тризном пире, и вновь явится привычным, говорливым старичком, этаким лешим-балагуром, однако он встал из-за стола и, скрестив руки на груди, медленно прошелся по комнате, заставленной резными столбами, как лесом.
– Иван Сергеевич работал по нашей программе, – заявил вдруг Петр Григорьевич. – Удачно вписался в вашу систему, надежно блокировал противника. Мы ждали результатов, и вот… Начались большие потери. Гибель Страги – вещь хоть и горькая, но безусловно и восполнимая. Он был рядовым солдатом ближнего боя и умер достойно. Ура павшим!.. Меня насторожила неожиданная смерть Зелвы. Вот наша великая утрата! Второй раз уже изгои точно попадают в цель. Мы потеряли род Ганди, теперь реальная угроза роду Зелвы. В этом сбитом вертолете оказался Джонован Фрич, на первый взгляд обыкновенный кощей, магистр… Но теперь я установил, что гибель Зелвы связана с исчезновением магистра. Они всегда бьют наугад, вслепую, здесь же Зелва оказался заложником, думаю, случайным, хотя… Посмотри, что они пишут в газетах!
Петр Григорьевич подал Русинову несколько газет и налил медовухи не в фужеры, а в огромные стаканы для коктейля. В небольшой заметке среди прочей незначительной информации сообщалось, что тридцатого июля композитор Зелва дает концерт на собственной вилле близ венгерской столицы. Свои оригинальные сочинения он исполнит на струнных инструментах, включая гавайскую гитару. Это странное сообщение отчего-то перепечатали шесть московских газет самого разного толка и направления.
– Ничего не понимаю, – признался Русинов. – Я далек от музыки…
– Музыка здесь ни при чем, – заявил пчеловод. – Нет такого композитора ни в Венгрии, ни на Гавайях. И виллы «близ столицы» нет… Прошу заметить: ни одна зарубежная газета не опубликовала этой информации. Зато есть другая. – Он бросил через стол газету на арабском языке с карандашной пометкой возле короткого столбца. – Читай!
– Не владею. – Русинов вернул газету.
– Тогда послушай! – Старик надел очки. – «30 июля поздним вечером полиция Эль-Харга – города на юге Египта – в мусорном баке обнаружила труп гражданина Ливии Карамчанда Зелвы, задушенного с помощью нейлоновой гитарной струны. Полиция считает…» – Он вдруг откинул газету. – Что считает полиция – полный абсурд… Зелву убили сразу же после исчезновения Джонована Фрича. Правда, вместе с ним, точно таким же способом, погибло еще шесть человек в разных частях света. Эти семеро не имели никакого отношения к делу. Изгои били по площадям… В кабинете магистра найден любопытный прибор, подключенный к радиотелефону. Каждые восемь часов он прикладывал руку к табло с индикатором, и в эфире не было никакой тревоги. И когда Фрич не вернулся в офис, через шестнадцать часов его радиотелефон автоматически связался с абонентом в Будапеште и три минуты передавал звучание гавайской гитары. А наутро газеты вышли с рекламой концерта композитора Зелвы… Мы только что пережили гибель дочери и внука Мохандаса Ганди, только что заделали эту брешь… А тут новая пробоина! Теперь они ждут наших ответных действий и, возможно, избирают новых заложников. Где гарантия от случайности?
Русинов тихо шалел, слушая озабоченного Петра Григорьевича. Тот молча выпил полный стакан медовухи, придвинул к гостю блюдо с фаршированными яйцами и тонко нарезанной ветчиной.
– Ешь! Ты должен есть и спать. Тебе скоро потребуется много сил. Пока это для тебя основная задача.
Машинально, одно за другим, Русинов съел несколько яиц и ощутил ком в желудке: ссохшийся, он не принимал пищи. Петр Григорьевич заметил это и подал фужер с янтарной медовухой.
– Пей, Мамонт! Сейчас пройдет. Пей и ешь!
В сознании тоже образовался ком путаных мыслей, вопросов и догадок, а пчеловод между тем продолжал наращивать его еще больше:
– Кощеи пытаются создать иллюзию, будто они получают какую-то информацию непосредственно отсюда. Поэтому и поторопились с сообщением о струнных инструментах Зелвы. Они уже не одно столетие намекают, что в среде гоев есть их человек. В шестнадцатом веке они создали Нострадамуса с его прогнозами и объявили его чуть ли не Вещим Гоем. В конце прошлого сфабриковали новую подделку и выдали ее уже в нашем веке под видом «учения» Рериха. Наблюдать за их потугами забавно, особенно сейчас, когда изгои сами начинают верить в истинность собственного творчества и насилуют компьютерные системы. – Петр Григорьевич вздохнул и, как бы опомнившись, начал снова угощать: – Ну-ка ешь вот салат, Ольга приготовила… Тебе сейчас надо легкую пищу. Потом пельмени подам…
Упоминание об Ольге не возбудило аппетита…
– Конечно, на компьютере можно кое-что рассчитать, смоделировать, – продолжал пчеловод. – Но к счастью, все будет «липа», правдоподобие, стрельба по площадям. На этой машине Пашу Зайцева не вычислишь. А Паша купил «стингер» и завалил магистра…
Русинов хотел напомнить, что в вертолете вместе с этим магистром был еще Иван Сергеевич Афанасьев, однако Петр Григорьевич заговорил жестоко и отрывисто:
– Мы долго молчали! Теперь следует резко менять тактику. Придется отомстить сразу за всех! За Зелву! За шестерых безвинных со струнами на шеях! За Страгу Севера! Если бы я был Стратигом, кощеи бы уже трепетали от страха! Я бы не стал обстреливать площади. Я бы вел огонь чистый, снайперский. Мне бы хватило недели, чтобы выщелкать всех кощеев в России!..
– Кто он – Стратиг? – спросил Русинов.
– Он Стратиг, – подумав, ответил старик. – Никто ему не может указать, разве что Атенон… Но Владыка почему-то щадит его и редко вмешивается в дела земные, хотя все время ходит по земле и носит свет Полудня… Да, и потому стратегия будет совсем иная. Стратиг против всякого террора, против всякой логики. Может, потому кощеи не могут вычислить его существование на компьютере. Его ведь нет! Есть просто музей забытых вещей… А все-таки Паша Зайцев молодец! Его тоже не просчитаешь, и он неуязвим для кощеев, как Стратиг…
– Что же ждет меня? – спросил Русинов, ощущая, как от медовухи отнимаются ноги. – К чему готовиться?
– Сейчас на тризне и решится твоя судьба, – заявил Петр Григорьевич. – Откровенно сказать, не знаю, потому что я всего-навсего Драга. Живу на пути, встречаю людей, провожаю гоев, развлекаю очарованных странников… Жди, вернется Валькирия. А могут прислать и Дару, которая сообщит тебе решение. Не спеши, Мамонт! У тебя впереди длинная дорога, успеешь еще и многое познать, и многое увидеть. Ты счастлив, потому что избран Валькирией, хотя судьба твоя все равно в руках Стратига.
– Почему же ты доверяешь мне тайны, если со мной ничего не решено?
– В любом случае ты уже никогда не вернешься к изгоям. Страга указал тебе путь к Весте.
– Значит, в худшем – меня лишат разума. И будет мне путь в психушку.
– Правильно, – одобрил старик. – Всегда готовься к худшему, и все, что принесет тебе Валькирия, будет приятным сюрпризом. Но безумство не самое страшное. С точки зрения изгоев, ты уже лишился ума. Представь себе, ты возвращаешься в мир и заявляешь, что был в пещерах и видел то, чего не может быть в представлении изгоев… И странником отправят – не так уж плохо. Будешь идти, идти куда глаза глядят, только зачем и ради чего, знать не будешь. Но если тебя лишат пути – вот это тяжкое наказание. Лучше умереть, чем жить беспутным.
– Что это значит?
– Удел блуждающей кометы. – Петр Григорьевич, несмотря на выпитую медовуху, проворно вскочил и бросился к окну. – Ну вот, кого-то еще несет…
На улице послышался гул машины. Пчеловод набросил длиннополый дождевик и вышел из дома. Русинов же, едва передвигаясь, подобрался к боковому окну, так как парализованные медовухой ноги не слушались.
Возле черного роскошного «БМВ» стояла женщина – последняя любовь Ивана Сергеевича, «постельная разведка» шведской стороны фирмы «Валькирия».
3
Полковник Арчеладзе не любил своего шефа, как, впрочем, и всех предыдущих, какой бы службой и каким делом ни занимался. По стечению обстоятельств, а точнее, по роковому совпадению все вышестоящие начальники оказывались выдвиженцами из партийных структур, если говорить о прошлом. В настоящем же новый шеф оказался опять совершенным непрофессионалом – бывшим начальником пожарной охраны Кремля, но идейно подготовленным и доказавшим свою преданность посткоммунистическому режиму. Про себя Арчеладзе называл их комиссарами и болезненно переживал, если получал незаслуженную выволочку или не мог убедить по вопросам, понятным любому специалисту. Его раздражали и высокомерность, и суетливость очередного комиссара, он ненавидел их голоса, манеру одеваться, запах одеколона и даже мебель в кабинете. Все оскорбляло его профессиональные качества, опыт и самолюбие. Арчеладзе спасался от встреч с непосредственным шефом лишь благодаря тому, что имел почти полную самостоятельность работы своего отдела. Однако при этом все-таки случались моменты, когда избежать контакта с Комиссаром становилось невозможно.
Изучив результаты экспертизы партийного значка со свастикой, он немедленно запросил из архивов все касаемое исчезнувшей партийной кассы гитлеровской Германии, а также информацию и материалы по розыску Мартина Бормана. Аналитики и архивисты отдела за несколько дней перелопатили имеющиеся сведения и ничего занятного не обнаружили. Розыск золота НСДАП, по сути, прекратился в начале пятидесятых, после свержения Берии. Какое-то время им занимался Институт кладоискателей, затем о пропавшей кассе словно забыли, причем так прочно, что у аналитиков возникло подозрение в умышленности этого действия. В какой-то степени пессимизм можно было понять, ибо все материалы указывали на то, что золото из Германии вывезли либо в Южную Америку, либо в Южную Африку, где активность советской агентуры во времена «холодной войны» была ориентирована на политические проблемы. Одним словом, требовалось немедленно провести консультации по всем этим вопросам с коллегами из ЦРУ и «Интеллидженс сервис», но таким образом, чтобы не привлечь внимания к золоту компартии. Организовать подобные встречи можно было лишь через своего шефа, и Арчеладзе скрепя сердце отправился к нему на поклон. Разумеется, он должен был обосновать необходимость таких консультаций, поскольку дело было связано с зарубежными поездками и, самое главное, с большими валютными расходами: коллеги из «дружественных» разведок никакой информации бесплатно не выдавали, а произвести «товарообмен» было не на что – обменных секретов в России почти уже не оставалось. У Арчеладзе складывалась двойная задача – обмануть сначала Комиссара, не раскрывая перед ним находки – партийного значка, после чего попытаться переиграть коллег: последнее время, выгадывая свои интересы, они всюду лезли если не в долю, то, во всяком случае, требовали полной информации о проводимой «совместной» операции.
Главный «пожарный» – Комиссар выдержал его в приемной положенные двадцать минут, и когда впустил в свой кабинет, Арчеладзе был уже слегка раздражен. Шефу было сорок четыре года, однако выглядел он гораздо моложе: мудрено было износиться в кремлевских стенах, где уже лет пятьдесят не возгоралось ни одного пожара, если не считать политических. Но при этом Комиссар тонко чувствовал, когда от подчиненного уже идет дым, и тактику избирал соответствующую. Арчеладзе заготовил и документально оформил версию, по которой значка Зямщица как бы не существовало, однако были показания двух классных ювелиров, к которым обращались незнакомые им иностранцы с просьбами установить подлинность и оценить девять золотых значков НСДАП. Короче, Арчеладзе тем самым давал понять шефу, что на черном рынке золота появились вещи, составляющие партийную казну Бормана. Версия была грубоватой, но на бывшего пожарного должна произвести впечатление… Изложив ее, Арчеладзе неожиданно почувствовал полное спокойствие шефа, что вначале истолковал полной его тупостью в данном вопросе.
– Да, это рынок! – тоном поощрения сказал Комиссар. – Торгуют орденами, значками, бабушкиными золотыми десятками, военными трофеями, раскапывают могилы, чтобы снять золотые коронки… Насколько мне известно, господин полковник, вам поручено искать золото компартии. Вы партии не перепутали?
Арчеладзе чуть только не скрипнул зубами, но ответил сдержанно:
– Я ничего не перепутал.
– Вот и занимайтесь тем, что поручено.
– Ко мне стекается вся информация, связанная с золотом, алмазами и операциями с этими ценностями, – настойчиво объяснил Арчеладзе. – В нашей практике часто случается так, что ищем одно, а находим другое…
Он замолчал, не окончив своей мысли, поскольку вдруг ясно осознал, что спокойствие Комиссара – не тупость, а, напротив, отличное знание предмета.
– Это плохо, – назидательно проговорил шеф. – Вы должны находить именно то, что ищете… Господин полковник, доложите мне, куда исчез человек по прозвищу Птицелов?
В первое мгновение Арчеладзе не мог поверить в то, что Комиссар негласно контролирует его отдел и получает информацию о его деятельности не только из официальных докладов. Операцию с Птицеловом проводил узкий круг особо доверенных сотрудников, и никакой утечки не могло быть. Однако сейчас в любом случае скрывать результаты встречи на Ваганьковском кладбище не имело смысла.
– Он принял яд, – признался Арчеладзе. – В целях конспирации я был вынужден захоронить труп в его же могиле.
– И это плохо, – не изменяя тона, определил Комиссар, и Арчеладзе сокрушенно подумал, что недооценил нового шефа. – Очень грубо работаете, господин полковник. Нам сейчас важнее синица в руке, чем журавль в небе, а вы отвлекаетесь от дела. Оставьте фашистов в покое, занимайтесь коммунистами.
Только тренированное самообладание не позволило Арчеладзе сорваться.
– Вас понял, – проронил он. – Разрешите идти?
– Одну минуту, – уже без прежнего напора сказал Комиссар. – Ко мне обратился работник МИДа с жалобой, что вы третируете его больного сына. Что это такое? Оставьте его в покое!
Это было не требование, а как бы дружеская просьба, высказанная напоследок, но именно она больше всего насторожила Арчеладзе. Вернувшись в отдел, он даже не взорвался от наглости шефа, а посидев несколько минут, мысленно проанализировал результат аудиенции и вызвал помощника по спецпоручениям:
– К немедленному исполнению! Незаметно изъять значок у Зямщица. Пусть думает, что проглотил во сне. И роется потом в своем дерьме!.. Это – раз! Второе: установить наблюдение за старшим Зямщицем. Но только своими силами! Далее. Выяснить канал утечки информации о работе отдела.
– Такого не может быть, – заверил помощник.
– Утечка, слава Богу, внутренняя! – разозлился Арчеладзе. – И она есть!.. Хотя – стоп! Немедленно пришли ко мне Воробьева и… Нигрея! Сам разберусь.
Когда в очередной раз перетряхивали весь аппарат КГБ, Арчеладзе, как завзятый старьевщик, перерывал и тщательно выбирал все то, что выбрасывалось и чаще всего по политическим соображениям не годилось для службы. Он искал матерых профессионалов, и ему было наплевать, какому лидеру они симпатизируют. А бывало, таких спецов выводили за штат, такие кадры выносили «на чердак», как выносят старую мебель, что слюнки текли. Последний «пожар» устроил бывший пожарный, и Арчеладзе умудрился выхватить из огня сразу двух парней. Воробьев всю жизнь занимался контролем за секретностью оперативных действий, был давним знакомым, скорее, даже приятелем, поскольку сам отчаянный рыболов и грибник, и незаметно увлек этим делом и Арчеладзе. А Нигрей был из подразделения, которое занималось проверкой, есть ли «хвост» у того или иного объекта, то есть наблюдал за наблюдением.
Они чем-то внешне походили друг на друга – здоровые, рукастые, с переломанными и оттого горбатыми носами, бородатые и языкастые, за что их и выносили «на чердак». Арчеладзе временно приткнул их в разные группы, далекие в общем-то от их прежней службы, но их навыки применял по назначению.
Первым прибежал Воробьев и потому, что в кабинете никого не было, обращался запросто и на ты.
– Комиссарчик нас обнюхивает со всех сторон, – объяснил Арчеладзе. – Нашел какую-то дырку, тянет информацию.
– А прикидывался пожарным шлангом! Ничего, найдем и прикроем, – засмеялся Воробьев. – У нас самое слабое место – бабы, Никанорыч, я тебе говорил. У аналитиков есть машинис-точка – ити-схвати…
– Ладно, ты мне только дырку найди, но не прикрывай, – распорядился Арчеладзе. – И мы ему дезинформацию приготовим…
– С огнем не шутят! – Воробьев погрозил пальцем. – Смотри, Никанорыч, я сначала все проверю, в том числе некоторых мужичков послушаю. Лучше застрахуемся!
В это время пришел Нигрей, и разговор сразу же перешел в официальное русло, хотя полное доверие сохранилось.
– Походи за старшим Зямщицем, – приказал Арчеладзе. – Посмотри, кроме нашего «хвоста», будет кто или нет. Если заметишь кого, кровь из носу установи, чей человечек топчет.
– Будет сделано, Эдуард Никанорович! – заверил Нигрей, соскучившись по любимой работе.
– Если же старика не пасут, – продолжал полковник, – переключись на Комиссара. Он живет на даче, особых проблем нет. Погляди, кто к нему ходит.
– Опасно, товарищ полковник, – серьезно сказал Воробьев. – Он наверняка обставился наружкой…
– Наша служба и опасна и трудна, – вздохнул Арчеладзе и ткнул пальцем Воробьеву в грудь. – А ты дай Нигрею микрофончик с прилипалой. Мне обязательно надо послушать, о чем вибрируют его стекла в окнах. Понимаете, мужики, я, кажется, нащупал золотую жилку от Бормана, а Комиссарчик ее тянет к себе. А чтобы дать ему по ручкам, мне перед «папой» надо выложить факты.
– Вопросов нет, – согласился Воробьев.
Нигрей же, более спокойный по характеру, лишь завернул вислый казачий ус и скрутил его в шильце.
– Если вопросов нет – вперед! – распорядился Арчеладзе.
На следующее утро помощник по спецпоручениям встретил его в приемной с весьма озабоченным видом.
– Значок исчез, – доложил он. – Изымать нечего. Исполнитель тут, пригласить?
– Сюда его! – чуть ли не рявкнул Арчеладзе.
«Сиделка» младшего Зямщица вошел в кабинет серым и мрачным, его полные губы спеклись.
– Где значок? – спросил Арчеладзе. – Был приказ глаз не спускать!
– Не спускал, товарищ полковник, – хрипло выговорил тот. – Вечером он положил его за щеку, как всегда. Перед этим я дал двойную дозу снотворного… Полез ему в рот – нету. Наверное, в самом деле проглотил, потому что утром поднял тревогу…
– Иди и ройся в его дерьме, понял?! – не сдерживая гнева, проговорил Арчеладзе. – Но значок чтобы был! Сделай ему промывание, клизму – что угодно!
– Слушаюсь, товарищ полковник, – старомодно отозвался «сиделка». – Напарник остался там, следит за стулом…
– Со значком немедленно ко мне! Все!
Арчеладзе послал помощника узнать, поступила ли информация от наружного наблюдения за старшим Зямщицем, а сам повалился в кресло, отпыхиваясь от этого раскаленного утра. В это время заглянул секретарь-телефонист и сообщил, что со вчерашнего дня полковника домогается гражданин Носырев с какой-то якобы интересной и полезной для Арчеладзе информацией. Это был так называемый самотек, которым занимался один из помощников, однако настойчивый гражданин требовал встречи с руководством. Арчеладзе отмахнулся бы, но секретарь сообщил, что Носырев – бывший сотрудник Института кладоискателей и бывший работник фирмы «Валькирия».
– Давай бывшего, – согласился Арчеладзе. – Через двадцать минут.
Сначала он дождался результатов наблюдения за «мидаком». Тот после работы вышел из здания на Смоленской площади, сел в личный автомобиль «вольво» черного цвета. Он сначала заехал в коммерческий магазин, купил там сыр, печенье и баранки, после чего отправился в Химки, в реабилитационный центр, где пробыл около сорока минут. Оттуда вышел без пакета со свертками и отправился по Кольцевой дороге в сторону Ленинградского шоссе. По пути он подсадил двух девушек (занимался частным извозом!), которые рассчитались с ним и вышли из машины на Ленинградском шоссе возле бензоколонки. После чего объект тут же посадил женщину с трехлетним ребенком, отвез их к Белорусскому вокзалу, а там то ли кого-то ждал, то ли подыскивал безопасного пассажира двадцать семь минут. Наконец привел пожилого человека с двумя чемоданами и повез его в Шереметьево. Высадив клиента, объект загнал машину на стоянку и четырнадцать минут расхаживал возле коммерческих палаток, потом вернулся к машине, переложил из внутреннего кармана в боковой пистолет – предположительно девятимиллиметровый газовый «вальтер» – и простоял возле переднего бампера пятнадцать минут. Дважды к нему подходили молодые люди, по всей вероятности, сутенеры, что-то спрашивали – объект отрицательно мотал головой. В двадцать один час тридцать семь минут к «мидаку» подошел молодой человек с сиреневой дорожной сумкой, – судя по артикуляции, они заговорили по-английски, представились друг другу, после чего объект усадил иностранца в «вольво» и поехал в Москву. На втором километре возле дорожного указателя машина остановилась, пассажир помочился, спрятавшись за низкоустановленный рекламный транспарант, и потом они ехали без остановок, исключая светофорные, до дома номер тринадцать по улице Восьмого марта. Объект здесь был впервые – ехал медленно, искал дом. Во дворе они вышли из машины и сели за доминошный столик возле хоккейной коробки. Говорили по-английски, очень тихо, но беседе помешали четверо пьяниц из близстоящих домов, которые согнали чужаков и сели распивать спиртные напитки. Объект в сдержанной форме простился с иностранцем и, оставив его у подъезда номер три на скамеечке, поехал к себе на квартиру. Иностранец же в течение восьми минут находился возле подъезда, из которого скоро вышел бородатый, мощный мужчина в казачьей фуражке и с плетью в руке. За несколько секунд он разогнал пьяниц за столиком, которые вели себя очень шумно. Мужчина пошел в свой подъезд, но в это время к нему выскочила женщина, вероятно, жена, – дородная, степенная красавица, сказала иностранцу: «А ты что здесь торчишь, рожа? Пошел вон, подкидыш!» Иностранец понимал русский язык и торопливо ушел к соседнему подъезду. Мужчина с плетью и его жена поднялись на третий этаж в квартиру номер восемьдесят и заперли дверь. Иностранец же вновь вернулся к подъезду номер три, а через четыре минуты к нему вышла молодая женщина в кожаной куртке, поцеловала в щеку и подвела к белому «жигуленку» шестой модели, стоящему во дворе. Они сели и поехали на улицу Рокотова, где остановились возле дома номер семь и вошли в квартиру номер тридцать пять. Женщина отпирала дверь своими ключами. До восьми часов текущего дня из этой квартиры никто не выходил. Наблюдение оставлено. «Мидак» же тоже всю ночь оставался дома и в семь часов сорок три минуты поехал на работу в здание на Смоленской площади.
Арчеладзе подчеркнул красным карандашом место, где говорилось о встрече с иностранцем и обо всех последующих их действиях, передал помощнику донесение.
– Установить иностранца и женщину на улице Рокотова, – приказал он. – Отслеживать обоих. Телефоны Зямщица контролировать с записью.
Секретарь доложил, что гражданин Носырев в приемной. Арчеладзе приказал впустить и попросил срочно отыскать номер телефона в палате Зямщица-младшего. Посетитель представлял собой невысокого, утлого человечишку с нездоровыми глазами и редкими, гниющими зубами. Неопрятный его вид сразу разочаровал полковника, однако было уже поздно.
– Слушаю вас, – холодно сказал он.
Этот неказистый информатор заговорил неожиданно густым, раскатистым басом и вел себя непринужденно, двигался размашисто, стреляя по сторонам острыми, блестящими глазами.
– Очень приятно, господин полковник! Много слышал о вас, да!.. Я сяду!.. Конечно, мне следовало прийти раньше, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда!
Арчеладзе заметил его любопытствующий взгляд, скользнувший по бумагам на столе. Требовалось ставить посетителя на его место.
– Говорите быстро и конкретно: кто, откуда, цель?
– Носырев Олег Семенович, парапсихолог, занимаюсь частной практикой, – отчеканил тот. – Разумеется, после того как развалился Институт и фирма «Валькирия». В Институте работали несколько экстрасенсов, которые сотрудничали с КГБ. Но я пришел со стороны и потому к службе не причастен. В списках стукачей, так сказать, не значусь.
– Пожалуйста, короче!
– Мне стало известно, что вы занимаетесь человеком по фамилии Зямщиц, – начал было парапсихолог, однако Арчеладзе прервал:
– Откуда известно?
– Я знаю гражданина Зямщица лично по работе в фирме «Валькирия», – пробасил Носырев. – Принимал участие в поисках, когда он потерялся. Навестил бедолагу в клинике, там разговорились…
– О чем?
– О его приключениях. Как парапсихолог, должен сказать вам: случай уникальный и весьма перспективный. – Он вальяжно развалился в кресле, однако все равно выглядел маленьким задрипанным щенком. – У него провалы памяти, потеря ориентации во времени и пространстве.
– А вы хорошо владеете ориентацией? – съязвил Арчеладзе, однако гость не понял намека.
– Владею! По моим прогнозам раскрыты десятки преступлений, найдены исчезнувшие люди…
– Что вы предлагаете?
– Я берусь восстановить утраченные фрагменты его памяти. Разумеется, с его помощью. – Носырев сделал паузу, ожидая реакции, но ее не последовало. – То есть мы выезжаем на Урал. Допустим, я, Зямщиц и вы. Лишние люди нам могут повредить. Я ввожу его в состояние прострации, то есть он становится медиумом. И ведет нас по пути, который прошел сам в бессознательном, я бы сказал, диком состоянии.
– Вы уверены в успехе?
– Безусловно!
– А я – нет! – отрезал жестко Арчеладзе. – Потому что вы… Вы просто шарлатаны и авантюристы. Откуда вы вообще взялись? Из каких нор повылазили? Колдуны, чародеи, экстрасенсы, кашпировские, чумаки! Просто чума какая-то!
– Хорошо, – невозмутимо прогудел Носырев. – Ставлю эксперимент.
– Не хочу никаких экспериментов! Все! Вы свободны!
Парапсихолог даже не шелохнулся.
– Спокойно, не напрягайте затылок. Расслабьте плечи… Так, уже хорошо.
Арчеладзе ощутил, как у него плечи сами по себе опустились, размякла кожа на затылке и вдруг улеглось раздражение. И человечишка этот выглядел не таким уж мерзким, а просто неопрятным.
– По вашему желанию я расскажу, как пройдет ваш сегодняшний день.
– Но я не желаю этого знать!
– Хорошо, говорите, что вам больше всего хочется, – предложил парапсихолог и остановил свой болезненный взгляд чуть выше переносицы Арчеладзе.
– Хочу, чтобы на моей голове выросли волосы! – не без издевки сказал полковник.
– Вырастут, – спокойно вымолвил тот. – Только обнаружите это через семь дней, когда оживленные корни вытолкнут волоски сквозь кожу. У вас будет хороший, густой ежик. Почти как у Зямщица.
– Да-а, – многозначительно протянул Арчеладзе. – Ну-ну.
– Ждать неделю очень долго, – слегка поспешил парапсихолог. – Прогноз на сегодняшний день… С утра у вас была неприятность. В вашей ауре черный круг… Так! Еще одна неприятность… нет, даже мощное разочарование ожидает вскоре после моего ухода. Внезапное известие, отрицательная реакция… Так, будет невосполнимая потеря и переживание, гнев до самого вечера. Вам захочется убить человека!.. У вас есть серьезный противник. Он сильнее вас, потому что кто-то постоянно очищает его ауру и выправляет перекос поля. Сегодня опасайтесь его! Поздно вечером на вас возможно покушение, организованное противником… А ночью будет еще одно неожиданное известие.
– Ну довольно! – оборвал Арчеладзе. – Там землетрясения не ожидается? Потопа, извержения вулкана?.. Все, идите!
Парапсихолог не шевелился, вытянутое лицо его окостенело, по щекам из-под длинных, в сосульках, волос обильно побежал пот.
– Завтра я вам позвоню, – усталым голосом сказал он. – Дадите ответ на мое предложение. Сами понимаете, что я профессионал высокого класса и безвозмездно не работаю. Об условиях оплаты договоримся.
Носырев резко встал и стремительно вышел из кабинета, оставив Арчеладзе в некотором замешательстве.
– Шаман! Мать его… – беззлобно выругался он и, встряхнув головой, машинально огладил голое темя. – Вырастут!.. Если бы кто посеял!.. – Ткнул кнопку на селекторе, сказал внушительно: – Этого полудурка… который сейчас выскочил… не впускать больше и по телефону не отвечать!
– Есть! – отозвался секретарь. – Поступила информация от Нигрея.
– Ко мне!
Секретарь принес несколько листков, напечатанных на принтере. Всевидящий и вездесущий Нигрей сообщал, что наблюдение за объектом осуществлялось службой отдела от здания МИДа и до дома номер тринадцать по улице Восьмого марта, где наружка вынуждена была разделиться и наблюдать два объекта по отдельности. Когда машина Зямщица выехала со двора этого дома в сопровождении службы, следом за ним увязался «Москвич» последней модели зеленого цвета. Наблюдал ли он объект раньше, установить было невозможно. Через несколько минут на «Москвиче» заработал радиотелефон, но параллельно с защитой от прослушивания, поэтому перехват осуществить не удалось. Однако установили номер абонента, с которым связывались из «Москвича». Неизвестный наблюдатель двигался следом за объектом до Безбожного переулка к дому номер шестнадцать, где живет Зямщиц. Там остановился за бывшим магазином «Березка», из кабины вышел человек и в цепочке прохожих дошел до автостоянки во дворе вышеозначенного дома, где объект припарковал машину. Там он выждал, когда Зямщиц войдет в подъезд, и, вернувшись в свою машину, снова связался по радиотелефону со своим абонентом. Перехвачено: «Не волнуйся, дорогая, все в порядке, скоро буду». После этого «Москвич» покружился по центру, затем направился через Садовое кольцо в сторону Ленинградского шоссе. На пересечении с Волоколамским шоссе он первый раз ушел из-под наблюдения, однако Нигрей настиг его уже возле дорожной развязки с Кольцевой дорогой. «Москвич» свернул на Московскую улицу, но недалеко от реабилитационного центра неожиданно исчез из поля зрения Нигрея. Розыск его по трассе ничего не дал. Нигрей проник на территорию центра, осмотрел все стоянки автомобилей, затем до трех часов утра наблюдал за входом в корпус, где находился Зямщиц. В двадцать три часа десять минут дверь заперли изнутри, и больше оттуда никто не выходил.
К донесению была приложена справка, что государственный номер «Москвича» на самом деле принадлежит автомобилю «Нива», зарегистрированному в ГАИ города Люберцы. А телефон, по которому связывался наблюдатель из «Москвича», установлен в ювелирном магазине на Кузнецком мосту, причем в торговом зале, который опечатывается и сдается под охрану в двадцать часов. Кроме того, в фойе всю ночь дежурит милиционер…
Арчеладзе не смутило, что наблюдатель ушел от Нигрея и установить его не удалось. Пока живы оба Зямщица, он обязательно даст о себе знать. Информация ему нравилась: начиналась какая-то интересная игра вокруг «мидака» с сыном и участвовали в ней от безвестного иностранца до Комиссара. Он предчувствовал раскрутку событий в самое ближайшее время. Поэтому подчеркнул в донесении нужные места и приказал помощнику немедленно выяснить, кто владелец «Нивы» в Люберцах, а также проверить распределительный телефонный ящик и кабель у ювелирного магазина: штука была известная – подключай свой телефон с помощью «крокодильчиков» и жди звонка…
Потом рассмотрел фотографии наблюдателя, приложенные к донесению Нигрея. Мужчина лет тридцати пяти, открытое лицо, большие глаза, прямой нос – глазу зацепиться не за что. Но и это не снизило его душевного подъема и азарта. Он велел секретарю доложить немедленно, если объявится Нигрей, и вызвал Воробьева.
– Сегодня у меня был парапсихолог, – признался он. – Предсказал бурю. Ты готов, если заштормит?
– Как пионер! – засмеялся Воробьев, радуясь хорошему настроению шефа. – Я провел тут литерные мероприятия, обставил как следует все предполагаемые дырки. Правда, от машинистки пока слышен один треск, а видны ручки и… ножки. А в лаборатории сильно гудит холодильник. Они его пивом перегрузили, баночным по шестьсот рублей…
– Мне нужны такие же мероприятия у Зямщица, – сказал Арчеладзе. – «Мидаки» нашими службами изучены достаточно, поищи материалы и сегодня же насади «клопов» в пиджаки, галстуки – куда влезут. Но смотри, он в нашем ведомстве тертый, поэтому «клопы» должны быть импортные.
– Мало импортных-то, – пожаловался Воробьев. – Не поставляют…
– Всади украинских, прибалтийских. Только не наших.
– Да понял, – вздохнул тот. – А кому выпарывать потом?
– Кто садит, тот и выводит! – улыбнулся Арчеладзе и включил селектор. – В Химки звонил?
– Звонил, – откликнулся секретарь. – Стула пока нет!
– Пусть дадут слабительное!
– Говорят, дали. Все равно нет. Клиент в панике.
– Ничего, скорее пронесет, – пробубнил Арчеладзе, выключая селектор. – На чем я остановился?
– «Клопов» потом мне выводить…
– Это не все, – продолжил полковник. – Срочно гони своих подручных на улицу Рокотова. И чтобы хоть один был со знанием английского! Все писать у вас опять пленки не хватит… Пусть послушают стеклышки. За ними там две пташки сидят со вчерашнего вечера.
– Понял, Никанорыч. Что, клюнуло?
– Тьфу-тьфу-тьфу! Поплавок повело.
– Когда Птицелова нашли, тоже повело, – отчего-то затосковал Воробьев. – Но тут сердечко прихватило…
– Вперед на мины! – приказал Арчеладзе. – Воспоминаниями поделишься, когда по грибы пойдем. Да! Снабди электроникой Нигрея, когда появится. Дай, чего ни попросит. А то он вчера хорошего леща упустил.
После ухода Воробьева Арчеладзе взял второй экземпляр донесений и стал перечитывать. Получалось, что наблюдатель из «Москвича» знал, что «мидак» окажется во дворе на улице Восьмого марта. Именно там он «взял» свой объект. А если Зямщиц, как показалось наружной слежке, искал нужный адрес, то каким же образом «наблюдатель» очутился у трамвайной остановки? Значит, либо Нигрей проглядел слежку, что была раньше, либо иностранец каким-то образом предупредил «наблюдателя», с какого места «взять» Зямщица. Картина складывалась любопытная!
– Товарищ полковник? – послышался насмешливый голос секретаря. – Свершилось. Клиента пронесло, значок нашли. Везут сюда.
– С облегчением его! – усмехнулся Арчеладзе.
Вошел помощник и доложил, что владелицу белого «жигуленка», бывшего во дворе дома номер тринадцать по улице Восьмого марта, пока установить не удалось. В какой квартире этого дома она была – тоже, однако по адресу на Рокотова живет Галина Васильевна Жуго 1966 года рождения, и «Жигули» с указанным в донесении номером принадлежат ей же. А служит она в секретной части фирмы «Валькирия»!
– Сегодня только слышал, что эта фирма развалилась, – сказал Арчеладзе.
– Шатается, но стоит, – сообщил помощник. – Все наши заштатные кадры ушли, поэтому добыть точную информацию об истинном состоянии дел трудно.
– Нужно добыть! Проработай это в оперативной группе.
– Хорошо, Эдуард Никанорович.
– Что с иностранцем?
– Фотография наружной службы очень низкого качества, – признался помощник. – Ни пограничники, ни таможня не опознали. Работаем с бортпроводницами. В районе двадцати одного часа было два рейса – из Канады прямой и из Испании с посадкой в Кельне. Оба нашей авиакомпании.
– Хорошо, пусть трясут пассажиров, пилотов, багажное отделение. Если наружка не научилась снимать, пусть составят фоторобот!
Время было ровно тринадцать часов – секретарь внес в кабинет поднос с обедом. Помощник тут же удалился, никто не мог нарушить обеденный перерыв шефа. Арчеладзе снял пиджак, вымыл руки в личном туалете и сел за журнальный столик в комнате отдыха. Секретарь налил ему бокал красного вина, к которому полковник привык в Чернобыле, снял пластмассовые крышки с тарелок и вышел. Арчеладзе отпил вина и откинулся в мягком плавающем кресле. Вдруг ему стало грустно. Как только на службе у него начинали клеиться дела, намечался какой-то успех, он остро ощущал приступы одиночества. Особенно когда садился за стол: не с кем было поговорить – не о деле, а просто так, ни о чем. Может быть, о белых грибах, о погоде, о кулинарных секретах. Есть в одиночку и молча становилось невмоготу, пропадал аппетит. Конечно, ничего не стоит позвать секретаря, любого подчиненного и усадить за свой стол. Воробьев бы прибежал с радостью… Однако он не хотел кого-то выделять и приближать к себе, к тому же отчетливо представлял, что этой нужной, ожидаемой непринужденной беседы никогда не получится. Он знал истинную природу этой грусти, но всячески задавливал в себе даже мысль о ней. На самом деле он всего лишь нуждался в женском обществе. Однако после Чернобыля он ненавидел и презирал прекрасную половину человечества. Об этом подчиненные в отделе хорошо знали и никогда, ни под какими предлогами не впускали женщин в кабинет шефа. Таким образом они и щадили его, и потворствовали подобным всплескам ощущений грустного одиночества.
Арчеладзе допил вино, когда на приставном столике тихо зажурчал телефон «неотложных мероприятий»: в редких случаях по нему звонили резиденты со срочной информацией. Полковник снял трубку.
– Доставили значок, товарищ полковник, – сообщил секретарь. – Исполнитель говорит…
– Давай его сюда! – распорядился Арчеладзе, двигая к себе тарелку с салатом.
«Сиделка» на сей раз торжествовал:
– Приятного аппетита, товарищ полковник!
– Принес?
– Так точно! – Он разжал кулак и развернул носовой платок. – Вот, изъял незаметно. Пациент считает, что значок застрял в животе, боится, что будут резать…
Он хотел положить находку прямо на стол, однако Арчеладзе брезгливо замахал руками:
– Убери! Ты его мыл? Ты что мне тащишь?..
– Нет, – растерялся «сиделка», – не успел. Выхватил, и скорее…
– Иди в туалет, – приказал полковник. – Вымой с мылом и протри одеколоном. Одеколону не жалей!
– Есть! – «Сиделка» поспешил в туалет.
Обед и слабый, едва живой аппетит были испорчены. Арчеладзе выпил кофе и налил еще один стакан вина.
– Помыл! – возвращаясь, сообщил «сиделка». – Хлорку нашел, так еще хлоркой обработал.
– Молодец.
– Куда его? – Он опасался теперь класть значок на стол.
Взгляд Арчеладзе остановился на пиджаке, висящем на спинке стула.
– Прикрути в петлицу. И свободен.
«Сиделка» навесил значок со свастикой на пиджак шефа и полюбовался от двери.
– Вы теперь как Кальтенбруннер, – пошутил он. – Вам идет, товарищ полковник.
– Возвращайся назад, – не принял юмора Арчеладзе. – Пациента следует убедить, что значок рассосался в его кишечнике. Договорись с врачами, пусть сделают рентген через некоторое время, покажут ему снимки. Он должен поверить. Внушите, что золото в организме полезно.
– Есть!
Оставшись один, Арчеладзе ощутил, что та мимолетная грусть прошла и что все внимание его теперь приковано к значку. Партийной кассой Бормана тем более следовало заниматься вплотную, поскольку Комиссар проявляет к ней интерес. А он, вечно держащий руку на пульсе, знает за что браться: кремлевское чувство конъюнктуры. Об этом значке шеф наверняка знает, и теперь, когда золото «растворилось» в утробе Зямщица, начнется ажиотаж. Если зарубежное отделение быстро сработает и подтвердит убеждение Арчеладзе, что значок всплыл из глубин российской земли, то он уже станет убедительным доказательством потрясающей версии: золото НСДАП находится где-то в пределах Северного Урала.
По крайней мере за два года работы отдела по поиску золота КПСС не было найдено ни одного грамма, не выявлено ни одного перспективного района, и Арчеладзе все больше склонялся к мысли, пока еще тайной, что пропавшая часть золотого запаса никуда не исчезала. Не перебрасывалась она в зарубежные банки, не вывозилась для захоронения в бывшие соцстраны и тем более не пряталась на территории России. Золото находится там же, в хранилищах, в железобетонных бункерах, обнесенных противоподкопными галереями, упакованное в стандартные ящики с войлочной подстилкой по два тридцатикилограммовых слитка. Оно исчезло по бумагам! Контрольно-ревизионная служба выдала ту цифру, которую запросили свыше. Похоже, не один год и не одним человеком готовилась хорошо продуманная операция, государственная тайна посткоммунистической России. Создавалось параллельное прикрытие ее в виде фактов ввоза на территорию объектов Третьего спецотдела той же ртути, множества дополнительных упаковочных ящиков. Одним словом, всякому, кто бы взялся разыскивать золотой запас, было за что зацепиться. Эх, если бы удалось расколоть Птицелова! Но его смерть, как и смерть других, причастных к этой тайне, была уже заложена в план создания мифа об утраченной золотой казне. По разумению Арчеладзе, миф творился с двумя целями: если СССР распадется на суверенные республики, которые потребуют свою долю золотого запаса, то получат ее, исходя из существующего объема казны. И вторая цель, не менее важная, – прикинуться бедными, пойти по миру с протянутой рукой, выпрашивая денежки и совершенно не рискуя своим далеко спрятанным и туго набитым кошельком.
Чем больше Арчеладзе думал об этой версии, тем меньше оставалось пыла и азарта искать то, чего не теряли. А вот партийная касса НСДАП действительно исчезла! И вывезти ее из Германии, окруженной и гибнущей, было не так-то просто ни в Южную Америку, ни в Африку.
Сокровища Третьего рейха, безусловно, вывезли вместе с Борманом, только не на Запад, а на Восток, в Россию – единственную страну, за железным занавесом которой можно было спрятать что угодно. Другой вопрос: кто и каким образом? Но это уже сейчас не имеет значения, когда перед тобой висит собственный пиджак, украшенный партийным значком НСДАП из партийной казны.
Только бы сработало зарубежное отделение!
Арчеладзе снял пиджак, широким взмахом насадил его на крепкие плечи и посмотрел в зеркало. И лишь в отражении увидел… нет, скорее почувствовал, что значок со свастикой – не золотой.
Это была отлично выполненная подделка, если говорить о внешнем виде. Весом же – в два раза меньше: что-то вроде анодированной меди или бронзы. Арчеладзе ощутил, как у него спекаются губы и напрягается затылок. Он снял трубку внутреннего телефона, чтобы позвонить в лабораторию, однако вовремя остановился: если Воробьев провел там литерные мероприятия, значит, подозревает кого-то из экспертов. Полковник тоже не считал их чекистами, ибо в лаборатории работали химики, физики, радиоинженеры, медики и еще черт знает кто, обряженный в погоны. В эту среду можно вживить кого угодно, что Комиссаришка и сделал наверняка. И он же совершил подмену! Только когда? Через кого? О поддельном значке никто не должен знать! Даже самые близкие. Пусть Комиссар – если это его шутка – остается в неведении. Никакой реакции не последует. В конце концов, он, Арчеладзе, держал в руках настоящий значок, есть акт экспертизы, и надо продолжать действовать – разве что более интенсивно – и вместе с тем немедленно установить, кто совершил подмену. Нужно вычистить отдел от всех осведомителей и информаторов Комиссара!
Он вызвал по селектору секретаря и приказал немедленно связаться с Воробьевым. Пока того вызванивали, Арчеладзе стало еще хуже. Он вдруг подумал, что с каждым днем его версия об «исчезновении» золота становится тверже. И если она подтвердится хотя бы одним прямым фактом, значит, уже два года полковника вместе с его суперотделом держат за идиота. Значит, все это продолжение той долгосрочной операции по сотворению мифа. Арчеладзе выполняет роль горчичника, отвлекающего боль всех трех властей, а с ними четвертой власти – прессы, которая время от времени сообщает населению, что государством принимаются все меры по розыску утраченной части золотого запаса. Истину же не знает ни одна власть; истина известна лишь ограниченному кругу лиц.
Ему не хотелось даже играть идиота, да дело требовало этого.
Наконец связали с Воробьевым. Он говорил из автомобиля по радиотелефону, пыхал в трубку, словно только что пробежал стометровку.
– Чем занимаешься? – не выдавая чувств, спросил Арчеладзе.
– Кота ловим!
– Какого кота? Ты мне срочно нужен!
– Не могу, Никанорыч, – борясь с одышкой, заговорил Воробьев. – Все шло по маслу… Вошли спокойно… В квартире пусто… Открыли дверь, оттуда выскочил котяра… По лестнице вниз, во двор…
– Понял… Лови кота! Не поймаешь – убью! Зарежу! – тяжелым шепотом проговорил Арчеладзе и бросил трубку.
Воробьев прокололся по-глупому. Если бы «клопов» собирались запускать объекту, не сведущему в оперативной деятельности, выпущенный на волю кот из запертой квартиры не вызвал бы особого подозрения. Но Зямщиц мгновенно бы насторожился. И вспорол бы все костюмы, разобрал бы все радиоприборы, а то и обои содрал со стен.
За выпущенного кота Воробьева можно было смело гнать с работы…
Мысль прервал секретарь. Помощник доложил, что владелец «Нивы», с чьими номерами катался вчера «Москвич», имеет полное алиби. Номера не снимались с автомобиля более трех лет, о чем говорят ржавые болты. Арчеладзе тут же отдал распоряжение через опергруппу, чтобы ГАИ разыскала «Москвич», проверила документы, но задержала бы всего на несколько минут, чтобы наружка успела взять его под наблюдение и при удобном случае засадила в бампер радиомаяк. Напоминание о странном филере Зямщица слегка отвлекло ноющий гнев в затылке и плечах. Он тут же велел связать его с Нигреем. Тот откликнулся очень скоро и сразу же начал докладывать обстановку. В обеденный перерыв Зямщиц поехал на «вольво» от здания МИДа и проследовал в музей Константина Васильева. Наружная служба отслеживала его с начала пути. На перекрестке Садового кольца и Олимпийского проспекта была пробка, автомобиль объекта и наружки сблизились, и в этот момент Нигрей увидел в правом от Зямщица ряду «Москвич» последней модели, только уже вишневого цвета, за рулем которого сидел вчерашний наблюдатель. Сделал фотосъемку. Этот «Москвич» выехал из-под моста с Цветного бульвара, «взял» объект и сопровождал его потом до музея. Там наблюдатель оставил машину между жилых домов, но в пределах видимости «вольво», и через три минуты вошел в музей. Нигрей последовал за ними, пропустив вперед человека из наружной службы.
Контакта между «мидаком» и объектом не было. Последний держался весьма профессионально и выгодно отличался от сотрудников наружки. Наблюдатель прошел всю экспозицию картин художника и сосредоточил внимание на тех полотнах, которые заинтересовали Зямщица. В четырнадцать часов пятьдесят пять минут «мидак» вышел из музея, сел в машину и двадцать две минуты сидел очень сосредоточенный и слегка нервный. Наблюдатель был в своем «Москвиче», скорее всего, видел Зямщица через оптику. Потом передал по радиотелефону одну фразу: «Милая, еду домой!» Наконец «мидак» поехал в обратный путь и на первом же перекрестке чуть не совершил аварию, не пропустив автомобиль справа. Когда выехал на шоссе, то отчего-то вел себя как «чайник» – пилил на малой скорости в правом крайнем, и наружка вынуждена была уйти вперед. «Москвич» же очень умело «вел» свой объект, не приближаясь к нему. В пятнадцать часов двадцать восемь минут Зямщиц перестроился во второй ряд и прибавил скорость. Однако, обгоняя автобус, не заметил автокран в третьем ряду, водитель которого побоялся помять дорогую машину, и шарахнулся в левый крайний ряд, в результате чего ударил машину наружной службы. Зямщиц же, напротив, попытался вернуться в свой ряд, прижался к автобусу и ободрал себе всю правую сторону. Движение застопорилось. Наблюдатель в «Москвиче» передал фразу: «Дорогая, очень скучаю», объехал пробку по тротуару и двинулся к Садовому кольцу. С Садового он свернул на Ново-Басманную, остановился и вошел в здание военной комендатуры, где находится до сих пор. Войти туда Нигрей не может – нет документов прикрытия.
Арчеладзе приказал Нигрею установить радиомаяк на «Москвиче», дальнейшее наблюдение передать наружной службе, а самому немедленно прибыть к нему. Своему помощнику дал задание выяснить, чей «Москвич» и с кем наблюдатель связывался по телефону. А через минуту помощник по оперативной работе докладывал, что в квартире на улице Рокотова, где находятся вчерашний иностранец и гражданка Жуго, никаких интересных разговоров не ведется, если не считать возгласов и шепота, характерных для любовников. Иностранца зовут Кристофер, говорит он только по-английски, а Жуго этим языком вообще не владеет. Сейчас устанавливается, сколько Кристоферов прилетело в Москву на вечерних рейсах.
– Этим мальчикам, что торчат под окном, накрути хвоста! – приказал полковник. – Пусть не отвлекаются на возгласы, а работают!
Чужая любовь его не просто раздражала – приводила в бешенство.
Минут через десять прибыл Нигрей, спокойный и хладнокровный, только усы чуть вздыблены.
– Побрейся немедленно! – сам не ожидая того, закричал Арчеладзе, ибо чужое спокойствие его тоже бесило. – В зеркало посмотрись! Как с такой… физиономией работать? Да тебя раз увидишь – до смерти запомнишь!
– Есть, – невозмутимо проронил Нигрей.
– Пойми, мы затеваем очень опасную игру, – успокаиваясь, сказал полковник. – И точно не знаем, кто наш противник. Но противник есть, и очень серьезный. А тут один кота выпустил, другой как Тарас Бульба… Начинай отрабатывать цель номер два. Запомни: этот Комиссар не чета тем, что были. Теперь сомневаюсь, что он был пожарным.
Он поднялся с кресла, сутулясь, промерил шагами кабинет. Потом остановился за спиной Нигрея, положил руку на плечо.
– Однажды я тебя выручил. Отплати мне тем же, Виктор Романович.
– Я все помню, – с прежним спокойствием вымолвил тот.
– Будь осторожен… Понимаешь, о чем я говорю?
– Понимаю. В случае провала моя версия: наблюдал по собственной инициативе с целью мести за то, что отстранил от любимой работы и хотел вывести за штат.
– «Любимая работа» – это романтика сопливых юнцов, Виктор Романович, – не согласился Арчеладзе. – И версия твоя никуда не годится. В случае провала тебя никто не должен опознать.
Нигрей подумал, расправил усы:
– У кого получить «мочалку»?
– Свою дам. – Арчеладзе открыл сейф. – Только вернешь в целости и сохранности.
– Все понял, – едва улыбнулся Нигрей и принял из рук шефа небольшую записную книжку. – Я чужих вещей обычно не присваиваю.
«Мочалкой» ее называли потому, что после взрыва от человека оставалось мочало. И еще потому, что когда она лежала в кармане, то промывала мозги и заставляла действовать осмотрительно и инициативно. Арчеладзе сам это испытал несколько раз.
Теперь следовало взорвать обстановку, сломать спланированный ход игры, изменить ее условия, чтобы диктовать свои. Напрасно Комиссар пошутил со значком, если, конечно, это его выдумка. Как и положено, после взрыва противник забегает, станет делать ошибки и проявит себя. Арчеладзе набрал номер рабочего телефона Зямщица.
«Мидак», старый сослуживец, отвечал приятным тенором.
– Здорово, старина! – весело сказал полковник, используя давнее обращение, чтобы быть узнанным. – Ты еще торчишь в этой высотке? А я все время думал, давно живешь где-нибудь на вилле в Сан-Франциско.
– Простите, кто это? – все-таки не признал Зямщиц, видимо, по причине сильной взволнованности и от посещения музея, и от аварии.
– Спасибо, старик, богатый буду, если не узнал! – засмеялся Арчеладзе. – Помнишь анекдот: «Гогия, ты памидоры любишь? Кушать – да, а так – нэт». – Полковник говорил с грузинским акцентом.
– Никанорыч, говорят, у тебя голова стала как коленка! – обрадовался «мидак». – Сколько лет, сколько зим…
Это было на руку, что его звонок вызвал у Зямщица положительные эмоции.
– Надо бы повидаться срочно, – перешел к делу Арчеладзе. – Сможешь подъехать сейчас на одну мою квартирку?
– Не на чем подъехать, – возмущенно отозвался Зямщиц. – Попал сегодня в аварию, только что из ГАИ приехал. Правую бочину изжевало.
– Ой-ой-ой! – пожалел полковник. – У тебя какая машина-то?
– «Вольво». Теперь ремонт встанет!..
– Да уж! Ну ладно, давай я тебя прихвачу, где мы с тобой однажды в краске вымазались.
«Мидак» помедлил, размышляя.
– А что за срочность? – неуверенно спросил он.
– Так тебе все и скажи!
– Хорошо, – наконец согласился без охоты. – Через двадцать минут.
Через двадцать минут Арчеладзе стоял в условленном месте. Он умышленно называл по телефону лишь известный им двоим перекресток. Если Комиссар держит под наблюдением Зямщица либо тот сообщит ему о встрече, то старый сослуживец примчится с «хвостом». Наружка, следующая за полковником, проверит. Зямщиц неожиданно вынырнул из вереницы прохожих, точно оценил обстановку и сразу сел в машину Арчеладзе, хотя никогда ее не видел.
– Только я на твои эти квартиры не пойду, – сразу заявил он. – Давай отъедем и поговорим в машине. У меня очень мало времени.
– Как скажешь, – мгновенно согласился полковник и вывел машину в транспортный поток. – Дело такое… Меня достал мой новый шеф. Дернул к себе на ковер и сделал вливание.
– День сегодня ужасно неудачный, – пожаловался Зямщиц. – Магнитные бури, что ли…
– Бури, старина, – вздохнул Арчеладзе. – И знаешь из-за кого мне чуб рвали? Из-за тебя!
– Из-за меня?!
– Ты накатал жалобу, что я третирую твоего сына.
Зямщиц сразу же посмурнел, тяжело вздохнул:
– Это было… Правда, я не катал жалобу, а позвонил. Но я не знал, что это ты дернул моего сына. Он обрисовал мне – лысый, плечистый… Откуда я знал, что ты уже лысый? – «Мидак» поднял горестный взгляд. – Пойми меня как отца. У меня такое несчастье с сыном, а тут еще КГБ треплет… Потом узнаю – Арчеладзе.
– МБ, – поправил полковник.
– Одна контора… Состояние тяжелое, любое напоминание о его злоключениях вызывает бред. Заговаривается. – Он сделал паузу, точно такую же, как по телефону, когда договаривались о встрече. – Сегодня опять новость… По недосмотру проглотил значок.
– Какой значок? – удивился Арчеладзе.
– Маленький такой, золотой, – будто бы отвлеченный переживаниями, сказал бывший сослуживец. – С детства увлекался нумизматикой…
– Зачем же ему давать значки? – возмутился полковник. – В таком-то состоянии?
– Он же сейчас как ребенок! – страдальчески воскликнул Зямщиц. – Взял из коллекции, надел… Попробуй отними… Сегодня же забираю его домой!
– Давно бы надо было!
– Ухаживать некому. Нужен толковый врач, а не нянька. И чтобы круглые сутки находился рядом. Сейчас вроде договорился. Поедем вечером и заберем… Ты мне скажи откровенно, Никанорыч, зачем… встречался с моим сыном? Ты чем сейчас занимаешься?
– Золотом, – признался Арчеладзе недовольно. – Зачем встречался… Ты же сам знаешь механику: пошла оперативная информация на твоего сына. Рассказывает о каком-то золоте.
– Он же бредит! Навязчивые идеи!
– Это сейчас я понимаю! Если он золотые значки глотает…
– Ты меня извини, – вдруг попросил «мидак». – Знал бы, что ты, так позвонил бы тебе, и разобрались.
– А теперь позвони моему шефу, – жестковато предложил Арчеладзе. – Чтобы он больше меня не ел. Ты же знаешь, как нашу контору трясут. До пенсии хрен усидишь…
– Обязательно позвоню! – заверил Зямщиц. – Не обижайся на меня.
– Да я все понимаю…
– Извини, у меня больше нет времени, – заторопился старый сослуживец. – Не мешало бы встретиться достойно, посидеть, выпить… Давай созвонимся? На будущей неделе?
– Ладно, давай! – Арчеладзе поднял руку. – У меня тоже времени в обрез.
На обратном пути в отдел полковник сделал небезосновательный вывод, что Зямщиц кем-то информирован о деятельности Арчеладзе и проявляет к ней интерес. Правда, этот интерес как бы подневольный. Возможно, кто-то использует «мидака», не исключено, что Комиссар. Хотя наружка и доложила, что слежка за встречей не производилась, Арчеладзе был уверен, что Зямщиц пришел хорошо проинструктированным. И получалось, они не разговаривали, а щупали друг друга и оба говорили только полуправду. У старого сослуживца существовала главная задача этой встречи – сказать полковнику, что золотой значок появился из коллекции сына. Арчеладзе же сейчас убедился, что подмена значка совершена кем-то неизвестным и ни Комиссар, ни Зямщиц к ней не причастны. Мало того, они еще не знают об этой подмене. Иначе бы «мидак» убеждал его, что неразумный сын проглотил простой значок.
Одновременно с этим Арчеладзе понял, что их неожиданная встреча взрыва не произведет. Небольшую суету, движение, консультации, и все. А требовался взрыв! Стремительное развитие качественно новых событий. Размышляя, он слегка отвлекся и не успел перестроиться, чтобы повернуть с Колхозной площади на Сретенку, и пришлось выжидать «дырки» в колонне машин, поворачивающих вправо под зеленую стрелку. Все произошло мгновенно: он видел вишневый «Москвич» и лишь успел отметить это, как водитель с расстояния в полметра метнул гранату в салон машины Арчеладзе.
Тяжелая граната «Ф-1» стукнулась о спинку пассажирского сиденья и упала у задней дверцы. Предохранительная скоба отлетела уже в кабине…
Он резко обернулся, машинально потянулся рукой и понял, что достать гранату не успеет. Из запала вырывался свист и резкая струйка дыма – горел замедлитель…
Вдруг он ощутил полное спокойствие и состояние, похожее на дрему, – не хотелось двигаться и отгонять ее…
Потом раздался хлопок, похожий на пистолетный выстрел, граната подпрыгнула на резиновом коврике и покатилась к его краю, стуча рубчатым кожухом. Из запала курился синий дымок.
Дрема отходила медленно, и ощущение времени, утраченное, пока горел замедлитель, возвращалось вместе с реальностью. Сзади сигналили, мимо, обтекая его, мчался поток машин. Арчеладзе ткнул кнопку аварийной остановки, перегибаясь через спинку сиденья, поднял теплую чугунную «лимонку». Разорвавшийся запал не выкручивался. Он положил гранату на сиденье рядом и огляделся: вишневый «Москвич», разумеется, давно унесся в веренице машин, повернувших на Сретенку. Службы наблюдения на сером «жигуленке» тоже не было… Арчеладзе вынул из кармана рацию и вдруг понял, что забыл позывной наружки.
– Где находитесь? – спросил он. – Вас не вижу.
Его узнали по голосу.
– На Сретенке, стоим у булочной.
– Ждите, подъеду…
Он внаглую перестроился в правый ряд и, не дожидаясь светофора, выехал на Сретенку. У булочной остановился, чуть не уткнувшись в задний бампер «жигуленка». Не спеша вышел из машины. Старший группы выскочил навстречу.
– Заметил что-нибудь сейчас на перекрестке? – спросил Арчеладзе.
– Нет, – краснея, выдавил тот. – Мы повернули… А вы…
Арчеладзе не помнил фамилии старшего группы, да и не должен был помнить. Взял его за рукав, подвел к своей машине, ткнул пальцем:
– На, смотри.
Парень побледнел, кадык на его тонком горле двинулся, как челнок, и замер.
– Какой у тебя позывной?
– Двадцать второй…
Он не ожидал удара и потому кувырком покатился по тротуару. Арчеладзе подождал, когда старший группы встанет на четвереньки, и пнул его голову, как футбольный мяч. Парень опрокинулся на бок и снова начал подниматься…
И тут полковник понял, что если не остановится в это мгновение, то убьет его.
Прохожие шарахнулись в стороны. До ушей донеслось:
– Мафиозные разборки!..
Арчеладзе спокойно сел в свою машину и медленно поехал в отдел.
Гранату он принес в свой кабинет и положил на стол. Рука потянулась к кнопке селекторной связи с лабораторией, однако он нажал другую – вызвал помощника.
– Доложи обстановку, – сдерживаясь, попросил он.
– Воробьев задание выполнил, направляется в отдел…
– Кому Нигрей передал наблюдение за вишневым «Москвичом»? – перебил его полковник.
– Группе Локтионова.
– Немедленно свяжись, выясни, что у них…
– Есть!
– Погоди. Что на Рокотова?
– Все по-прежнему.
– Иностранца установили?
– Пока нет, работают.
– В гранатах разбираешься?
– В этой разберусь. – Помощник кивнул на гранату.
– Возьми и сам проверь, пустая она или заряженная, – приказал Арчеладзе. – Мне пока этого хватит. Только сам. Доложишь мне домой, по телефону спецсвязи. И обстановку доложишь… Я поехал домой.
– Воробьев хотел к вам, товарищ полковник.
– Пошли его на… кошкодава, – меланхолично сказал Арчеладзе. – У кого позывной «Двадцать два» из наружки?
– У группы Редутинского.
– Подготовь документы на увольнение всей группы. Профнепригодность.
– Есть.
Полковник забывчиво похлопал по карманам, затем, вспомнив, взял пистолет ПСМ из ящика стола.
– Хотя нет, погоди… Пусть еще поработают. Все, я – домой.
…А дома было пусто, пыльно и тихо. У Зямщица в пустой квартире сидел хоть кот; тут же, кроме нескольких осенних мух на кухонном окне, ни души…
Полковник принял душ, после которого обрядился в пижаму и стал готовить ужин. С женой он разошелся еще до Чернобыля, как только на подобные вещи в КГБ стали смотреть сквозь пальцы и это перестало отражаться на карьере. А после Чернобыля женщины вообще не бывали в этом доме. Полковник давно привык все делать сам, хотя на службе любил быть барином. Он, как профессиональная повариха, нарезал мерзлого мяса тонкими ломтиками, бросил в жир на сковородку и принялся чистить крупные головки лука. В его русско-украинско-мордовской крови бродили остатки грузинской крови: он любил готовить и есть острые мясные блюда. Лук был злой, ядреный и начал драть глаза, как слезоточивый газ «Черемуха». Полковник намочил под краном нож и луковицы, но на сей раз это не помогло. Слезы продолжали течь и скоро пробили влажную дорожку до верхней губы. Он ощутил их соль, бросил нож и некоторое время сидел сгорбившись на кухонной табуретке, ощущая на губах горечь. Иногда дома ему становилось особенно грустно и одиноко. Почему-то вспомнился Птицелов, который тоже был один и жил примерно так же, как полковник. Правда, в его квартире было много птиц…
Мышление, привыкшее к постоянному анализу, неожиданно соединило три судьбы разных людей в одну, и он не ощутил странности, что жизни Зямщица, Птицелова и его, полковника МБ, так похожи. Пожалуй, «мидак» лишь чуть счастливее – все-таки есть сын. Но теперь – несчастнее всех…
Золото как бы соединяло всех и одновременно становилось причиной одиночества. И суть тут не в самом металле, а в том поле, которое образовывалось вокруг него. Всякий оказавшийся в нем отчего-то испытывает это тягостное чувство…
И полускрытную жизнь, и несвободу, и сумасшествие.
Через несколько минут полковник умылся холодной водой, включил телефон спецсвязи и, не уронив ни единой слезы, напластал целую миску лука. В доме сразу запахло живым – острой мужской пищей.
«Гогия, ты памидоры любишь? Кушать – да, а так – нэт…»
Он не хотел думать о службе и, пока жарилось мясо, сервировал стол, молол кофе ручной «мельницей», убирал тряпкой воду из-под холодильника. Позвонил помощник, доложил, что граната учебная, но запал боевой. Полковник выслушал и тут же забыл об этом. Собственная жизнь и ее безопасность волновали его, но не до такой степени, чтобы думать, даже когда вытираешь пол. Вот если бы сообщили, что установлен водитель «Москвича», бросивший гранату, выявлены его связи с Комиссаром или получены разведданные из Германии положительного характера, полковник, возможно, и встрепенулся бы…
Ужин начал, как и обед, со стакана красного вина, которое выводит стронций из организма. Ему нравилась собственная кухня: когда во рту полыхает жар от перца и приправ, сердце становится холодным и спокойным.
Помощник проинформировал: иностранца зовут Кристофер Фрич, двадцати трех лет, прибыл из Канады, цель – частная поездка. До сих пор отдыхает на улице Рокотова у секретчицы фирмы «Валькирия».
Полковник принял к сведению и стал домывать посуду.
Еще через четверть часа поступило сообщение, что Зямщиц и с ним врач Масайтис, занимающийся частной практикой, несмотря на протесты заведующего отделением реабилитационного центра в Химках, забрали Зямщица-младшего и отвезли в Безбожный переулок, в дом № 16. Полковник велел звонить лишь в экстренных случаях, разобрал постель и лег спать. В ранней молодости полковник был впечатлительным и, бывало, после трудных лейтенантских дней не мог уснуть до утра, заново переживая и перемалывая в воображении все события. Тогда бы ему эта граната со свистящим запалом снилась и виделась не одну неделю. Но уже в майорах он научился спать без сновидений.
Звонок телефона спецсвязи разбудил его в двадцать три часа семнадцать минут: это была давняя привычка – при любом повороте событий отмечать время. Полковник встрепенулся и сел, ощущая зуд кожи на голове.
– Эдуард Никанорович? – услышал он незнакомый голос.
Никто не должен был, да в общем-то и не мог ему звонить в это время по спецсвязи.
– Да…
– Нам необходимо встретиться сейчас же, – заявил незнакомец, по голосу человек в возрасте. – Приеду куда скажете.
– Кто вы? – спросил Арчеладзе.
– Объясню при встрече. Можете взять с собой охрану, хотя вам нечего опасаться.
– Причина встречи? Предмет разговора?
– Сведения о золотом запасе СССР.
Если этот человек имел доступ к системе спецсвязи, возможно, что-то мог знать и о золоте. При условии, что он – не человек Комиссара.
– Насколько вы сами оцениваете объективность информации? – Голову раздирал зуд.
– Птицелов велел кланяться, – вместо ответа намекнул тот.
– А вы с того света звоните?
– Пока с этого, – был ответ. – Но я уже стар.
– Хорошо, – согласился Арчеладзе. – Через сорок минут у кинотеатра «Форум». Серая «Волга», госномер 23-71.
Это был одновременный сигнал дежурному помощнику, по которому на место встречи высылалась усиленная группа обеспечения, имеющая в своем составе двух снайперов.
4
Возле машины они проговорили несколько минут, после чего Августа села за руль, а Петр Григорьевич торопливо направился в дом. Русинов на заплетающихся ногах вернулся к столу.
Пчеловод вошел озабоченный и решительный.
– Тебе придется сейчас же уехать. Сними этот камуфляж – Он кивнул на халат. – Попробую тебя одеть. И бороду сбрей!
– С кем ехать? – Русинов покосился на окно. – С ней?
– Да. Эту женщину зовут Августа.
– Я знаю! – дерзко ответил Русинов. – И еще знаю, что она служит у шведов в качестве «постельной разведки».
– Кому она служит, ты знать не можешь! – отрезал Петр Григорьевич. – И постарайся не задавать ей вопросов. Выполняй все, что она скажет.
– Так, – медленно сказал он. – Понимаю… Пора бы уже привыкнуть к превращениям…
– Пора бы! – согласился пчеловод и достал из шкафа поношенный костюм. – Одевайся, Августе приходится спешить.
– Я не могу уехать… Я должен дождаться Ольгу!
– Запомни, Мамонт: ждут только женщины. Ожидающий мужчина – это несерьезно, правда? – Он подал ножницы и бритвенный прибор. – Мыло и помазок возле умывальника.
На месте бороды и усов осталась белая, незагоревшая кожа. Непривычное ощущение голого лица вызывало чувство незащищенности…
Вместо тесного пиджака пришлось надеть свитер и просторную куртку. Хорошо, кроссовки остались целыми, хотя сильно потрепанными. На улице вякнула сирена «БМВ», однако Петр Григорьевич присел у порога.
– Перед дальней дорогой…
От его слов на душе похолодело и непонятная обида защемила скулы. Он хотел попросить старика спасти, защитить волосы Валькирии и тут же поймал себя на мысли, что начинает бредить ими, как Авега. На улице Русинов глянул в сторону берега – может, в последнее мгновение увидит летящий к нему парус?.. Нет, пусто, лишь отблеск багрового закатного солнца…
Петр Григорьевич проводил до машины, на прощание легонько стукнул в солнечное сплетение:
– Ура! – И, не оборачиваясь, пошел к дому.
Августа приоткрыла дверцу, откликнулась негромко:
– Ура!
Русинов сел на заднее сиденье и нехотя проронил:
– Здравствуйте…
Августа круто и умело развернула тяжелую машину и погнала ее прямо на вечернее зарево. Огненные сосны замелькали по обочинам лесовозной дороги, красные листья искрами посыпались из-под колес.
– Здравствуйте, – не глядя, бросила она. – Возьмите под сумкой оружие. Ехать придется всю ночь, на дорогах люди генерала Тарасова.
Русинов приподнял большую, мягкую сумку и вытащил короткоствольный автомат иностранного производства. Отыскал предохранитель, чуть оттянул затвор, проверяя, заряжен ли, положил на колени. Он заметил в зеркале заднего обзора ее сосредоточенное лицо, взгляд, устремленный на дорогу. Тогда, из окна домика Любови Николаевны, он видел Августу веселой, нарядной и женственной – было чем искушаться Ивану Сергеевичу. Тут же стянутая черным шелковым платком голова и строгий бордовый костюм производили впечатление скорби и деловитой решительности. Она ни разу не обернулась к Русинову, кажется, и рассмотреть-то толком не могла, но неожиданно сказала:
– Вы настоящий Мамонт… Наконец-то я увидела вас.
Русинов не поддержал разговора. Наверное, Августе можно было доверять все, если он, по настоянию пчеловода, доверил ей сейчас свою жизнь и дальнейшую судьбу; похоже, она могла как-то прояснить, куда они едут и зачем, но неприязнь, неприятие «постельной разведки», как черная краска, не стирались в сознании дочиста.
– Иван Сергеевич все время переживал за вас, – продолжала она с паузами. – А я пыталась успокоить его, потому что знала каждый ваш шаг… Мне приятно, что я участвую в вашей судьбе…
Он вдруг понял, что под тончайшей тканью платка нет волос, что их попросту невозможно под ним упрятать, а помнится, были! Иван не любил стриженых…
– Где ваши волосы? – помимо воли спросил Русинов.
– Я сделала стрижку, – бросила она и, оставив на секунду руль, подтянула концы платка на затылке. – Вижу, вам не хочется уезжать отсюда? О да! Нет лучше места!.. Однажды мы сидели и мечтали построить домик и родить много детей. Мое сердце навсегда здесь, и мои дети здесь, и домик стоит… О да! Только невидимый, светлый, как память.
Машина катилась под гору и вступала в ночную темноту, хотя плоские вершины лесистых гор на горизонте были еще залиты солнцем. Автоматически включились габаритные огни, а потом и фары. Августа выключила свет, хотя ехать без него по захламленной камнями и деревьями дороге становилось опасно. Лица ее уже было не различить в зеркале, остались лишь голос и тонкий профиль.
– О да! Я знаю, мне больше никогда-никогда не вернуться сюда. Еду без оглядки. В России есть поверье: оглянешься – тосковать станешь. И чужая земля никогда не приютит душу.
Русинов машинально оглянулся назад и ничего, кроме густых сумерек и дальних светло-розовых гор, не увидел.
«Постельная разведка» была не такой уж примитивной, как представлялось раньше. Видимо, Иван Сергеевич оценил это и потому подпустил к себе. Не мог же он знать, кто она на самом деле, если даже Петр Григорьевич не догадывается о ее роли в среде хранителей «сокровищ Вар-Вар». Кто она? Авега? Варга? Страга? Или Валькирия? Не потому ли она лишилась волос и теперь едет неведомо куда?
Некоторое время они ехали молча, в темноте, однако машина ни разу не зацепила пень на обочине, не громыхнул камень под днищем. Что могла видеть Августа, если Русинов, обладая великолепным зрением, ощущал желание вытянуть вперед руки, чтобы не удариться о сосну или глыбу, внезапно встающие на дороге?
– Может быть, включить свет? – нерешительно спросил он. – Вроде бы все спокойно…
– С любой горы нас заметят очень далеко, – посожалела Августа. – Боюсь, меня засекли, когда ехала туда. Не хочу неприятностей, а мне нужно привезти Мамонта. Настоящего, живого Мамонта. – Показалось, она улыбнулась в темноте. – Не беспокойтесь, я ночью вижу как кошка.
Еще через десять минут горы погрузились в непроглядный осенний мрак. Дорога же становилась лучше, и Августа лишь прибавляла скорости. Где-то впереди, внизу, замелькали огоньки Ныроба, и у Русинова отлегло от сердца: опасаться было некого. Но вдруг она выключила двигатель и плавно затормозила, съехав на покатую обочину.
– Впереди две машины. Стоят с потушенными фарами. Мне не нравится.
Сколько бы ни вглядывался Русинов в темноту, ничего, кроме белесого пятна гравийки за капотом, не увидел. Августа что-то подала ему.
– Возьмите… До них триста метров. Попробуйте сосчитать людей.
Он нащупал в темноте предмет и понял, что это водительский прибор ночного видения армейского образца. Неизвестно, кем она была на самом деле, но профессиональный разведчик – несомненно. Русинов приник к наглазникам и натянул на голову резиновый ремень. Тьма сразу раскрасилась зеленью, четко обрисовались деревья, камни, дорожная лента, уходящая вниз, и два ярких салатных автомобиля на обочинах друг против друга: горячие двигатели источали тепло…
Между ними двигался человек.
– Вижу одного, ходит как часовой.
– Остальные в машинах, – предположила Августа и тихо рассмеялась: – Ищут Мамонта! А Мамонт сидит в моей машине.
Ему было неловко спрашивать женщину, что они будут делать, хотя он имел на это право, ибо приказали выполнять ее волю. В голове сидело лишь две мысли – прорваться с боем либо вернуться назад, на пасеку: Ольга наверняка пришла, может быть, в таком же шелковом платке, стягивающем «стрижку».
– Тебя нет в машине, – вдруг сказала Августа, обращаясь на ты. – Мамонт бродит где-то в горах. Я еду одна.
– Мне выйти? – спросил Русинов.
– Нет, – жестко проговорила она. – Сиди спокойно, расслабь руки… Тебя нет здесь. Ты в горах… Нет! Ты сейчас с Валькирией. Думай о ней! Думай только о ней! Она же прекрасна, правда? Ты берешь ее волосы и расчесываешь гребнем… Думай! Закрой глаза. Опасности нет! Потому что ты рядом с Валькирией. Пожалуйста, Мамонт, думай и не прерви думы своей, пока я не скажу тебе. Тебя здесь нет… Они слепые, и я отведу им глаза.
Русинов откинул голову на высокую спинку, разжал кисти рук, скованные на автомате. Возрождать образ Валькирии не было нужды: он все время стоял перед взором и притягивал мысли. Ему почудилось, будто пальцы снова скованы золотым гребнем и между ними мягко струятся невесомые пряди. Реальность воспринималась как фон, как некая бегущая мимо картина чужого бытия, с которой не было никакой связи. Ему стало безразлично, что взревел мотор, включился яркий свет и машина понеслась вперед. Это его не касалось и не волновало, потому что никто не мог нарушить их уединения и высшего ощущения близости. Где-то в другом мире перед капотом очутился рослый инспектор ГАИ в бронежилете, каске и с автоматом у живота. За его спиной маячили еще какие-то неясные фигуры. Послышалась шведская речь, затем английская: кто-то задавал вопросы, кто-то отвечал, потом салон осветили фонарями, но свет их не мог достать той выси, в которой они, оторвавшись от земли, парили сейчас только вдвоем. За тридевять земель, внизу, хлопнула крышка багажника, в боковом стекле обозначилось улыбающееся лицо в тяжелой каске до глаз, и машина вновь зашуршала колесами по земной хляби. Он же с замирающим дыханием возносил руку над плывущими в воздухе волосами и проводил гребнем, насыщая их сверкающим горным светом.
– Довольно, довольно, Мамонт! – услышал он насмешливый голос, и легкий удар в солнечное сплетение мгновенно вернул его на землю: руки оказались скованными стальным, тяжелым автоматом.
Машина летела по асфальту с зажженными фарами, перед глазами роилась зелень приборов на панели.
– У вас неплохие способности, – похвалила Августа. – И подходящий возраст… Я знаю, вам хочется добывать соль в пещерах. Всякий, кто прикоснулся к «сокровищам Вар-Вар», будет вечно стремиться к ним… Но не спешите, Мамонт. Соль Вещей Книги горька в молодости. Вам бы научиться ходить по земле, чтобы нести эту соль на реки.
– Однажды Авега сказал мне: твой рок – добывать соль, – признался Русинов.
– О да! Рок всякого гоя – добывать соль, – согласилась Августа. – Золото добывают лишь изгои, и потому оно мертвая часть сокровищ. Человек может жить без золота, но труднее ему без соли. Люди давно уже бредут в сумерках, без пути и цели… Я не знаю, что уготовил вам Стратиг, но послушайте моего совета: если к вам явится Атенон, просите его, чтобы отпустил на реку Ура.
Русинов подался вперед и едва сдержался, чтобы не выплеснуть своего жгучего интереса. Путь экспедиции Пилицина начинался по знаменитому пути из Варяг в Греки, затем неизвестно почему резко повернул на север и далее продолжался по реке Ура, от истока до устья. И с реки Ура он морем отправился в устье Печоры, а затем на Урал. Много раз Русинов проходил этим путем, ползая по картам, но, кроме созвучия однокоренных слов названий, ничего не находил. А на его карте «перекрестков Путей» это пространство представляло собой белое пятно. Магнитная съемка по реке Ура и прилегающей к ней территории либо не проводилась, либо была строго засекречена.
– Что же там, на этой реке? – справившись с эмоциями, спросил он.
– О, как забилось ваше сердце! – засмеялась Августа. – Вы – путник, а кто любит ходить по земле, тому и открываются дороги… В истоке реки Ура стоят три горы, три Тариги, три звездные лодки. Взойдешь на одну – откроются все пути на восток, взойдешь на другую – видны пути на запад. А с третьей Тариги открываются страны полуденные. Между этих гор лежит озеро Ура. Если построить лодку, то можно земным путем доплыть в страну полунощную. Иди на все четыре стороны! О да! Вы счастливый человек, Мамонт! Избранный Валькирией! Все пути перед вами… Но мне неизвестно, чего хочет Стратиг.
Последнюю фразу она произнесла с беспокойством.
– Впервые слышу это имя, – чтобы не задавать вопросы, сказал Русинов.
– Ах, лучше бы вам не слышать! – доверительно проронила Августа. – Он бывает несправедлив, когда задает урок… Но не думайте о нем! Ему никогда не изменить вашей судьбы, пока стоит над вами обережный круг Валькирии.
Музей забытых вещей помещался в старом дворянском особняке на высоком берегу Волхова. Окруженный с трех сторон могучим липовым парком, он был виден лишь с реки, да и то просматривались только лепной портик с белыми колоннами и зеленая крыша. Музейные залы занимали два нижних этажа; в третьем же располагалась администрация, реставрационный цех и квартира директора. Туристические автобусы останавливались на площадке перед массивными, литого чугуна, воротами, далее экскурсанты шли пешком через парк и попадали в здание черным ходом. Парадный, от реки, был намертво закрыт изнутри, высокие дубовые двери закрашены толстым слоем огненного сурика вместе с бронзовыми ручками и стеклами смотровых щелей.
Дом напоминал старый корабль, навечно причаленный к пристани, и якорные цепи, ограждавшие парковую дорожку, дополняли эту картину. Мимо пролегал путь «из варяг в греки»…
Вместе с туристами – скучающими, случайно собранными людьми – он добросовестно обошел все музейные экспозиции, представляющие собой изящные, высокохудожественные бытовые вещи дворянских семей, и в последнем зале ступил за Августой через порог неприметной двери. Они поднялись по лестнице на третий этаж и очутились в огромной гостиной, обставленной той же старинной мебелью, разве что без запретных цепочек и бечевок. Кругом были живые цветы в вазах, словно здесь готовились к торжеству и приему гостей, под ногами поблескивал однотонный зеленый ковер, напоминающий росную лесную поляну. На бордовой атласной драпировке стен в дорогих рамах висели картины – от небольших портретов до огромных полотен, отблескивающих в косом свете и потому как бы скрытых от глаз только что вошедшего.
За матовым стеклом филенчатой перегородки искрился приглушенный свет, похожий на свет тихого морозного утра.
Августа указала ему на мягкий стул у шахматного столика, сама же, бросив зонт и сумочку на клетчатую доску, направилась к стеклянной двери. По пути не удержалась, на мгновение приникла лицом к белым розам в вазе черного стекла и легко вздохнула.
Оставшись один, Русинов осмотрелся и неожиданно ощутил, что за спиной есть какое-то окно, проем или ход из этого аристократического мира в мир совершенно иной, величественный и тревожный. Оттуда чувствовалось излучение грозового света, дуновение сурового ветра, огня и дыма, и во всем этом царило некое живое существо с цепенящим взглядом.
Ему хотелось обернуться, и ничто не мешало сделать это! Но скованная чьим-то оком воля оказалась слабой и беззащитной. Русинов стиснул кулаки и зубы. На забинтованных запястьях выступила кровь. Ему удалось лишь повернуть голову и глянуть из-за своего плеча…
На дальней стене висел огромный холст: на черной скале в багряных отблесках сидел грозный сокол с распущенными крыльями. А за ним полыхало пожарище, охватившее всю землю, и черный дым, вместе с черным вороньем, застилал небо над головой сокола.
Он очень хорошо знал эту картину, как и все другие картины художника Константина Васильева. Но висящее перед ним полотно потрясало воображение размерами и каким-то жестким излучением тревоги, света и взора. Даже неожиданный выстрел в спину произвел бы меньшее впечатление, ибо прозвучал бы коротко и результат его уже невозможно было осмыслить. Тут же изливался лавовый поток, будоражащий, бесконечный и неотвратимый, как стихия всякого огня, сосредоточенного на полотне, сведенного в единую точку соколиного ока.
Русинов отступил перед ним, и движение раскрепостило его, сжатые кулаки сосредоточили волю и отдали ее биению крови. Он приблизился к холсту и стал на широко расставленных ногах. Картина была подлинная, с неподдельными инициалами и, вероятно, написана специально для этого аристократического зала. Она как бы взрывала его, вдыхала жестокую реальность и одновременно находилась в полной гармонии. В другом месте ее невозможно было представить. Утверждение мира и покоя заключалось в его отрицании, и в этом противоречии угадывался великий смысл бытия.
Он не слышал, как в гостиную вошел человек, а снова почувствовал, что кто-то рассматривает его, причем откровенно и с превосходством. На фоне зимних стекол перегородки стоял крупный мужчина в волчьей дохе, наброшенной на плечи. Свет был за его спиной и скрадывал лицо.
– Здравствуйте, – проронил Русинов, оставаясь на месте.
– Здравствуй, Мамонт, – не сразу отозвался человек и небрежно отворил дверь. – Входи.
За стеклянной перегородкой оказался большой зал с окнами на Волхов. Обстановка разительно отличалась от гостиной: грубая, невероятно массивная дубовая мебель, звериные шкуры на стенах, полу и жестких креслах, напоминающих царские троны. В глубине зала топился камин, возле которого на шкуре полулежала Августа. Русинов остался стоять у порога, а Стратиг – по всей вероятности, это был он – отошел к камину, поднимая ветер длиннополой дохой.
– Пора, Дара, – вымолвил он негромко. Он обращался к Августе, хотя на нее не глядел. Возможно, это было ее истинное имя – Дара, и звучало оно с каким-то завораживающим оттенком древности.
– Позволь мне погреться, – попросила она. – Теперь я долго не увижу живого огня…
– Ступай! – взглянув через плечо, резковато бросил Стратиг.
– Могу я попросить тебя об одолжении?.. – Она смутилась и встала.
– Проси, – позволил он.
– Не изменяй судьбы Мамонта…
Стратиг не дал ей договорить, в его возмущенном тоне звучала обида:
– Почему все считают, что я меняю судьбы гоев? Откуда это пошло? Почему решили, что я поступаю вопреки воле рока? Всем известно: я совершаю то, что сейчас необходимо и важно. Кто может это оспорить?
– Никто, Стратиг, – вздохнула Августа-Дара. – Но я вижу рок Мамонта. И это не то, что ты ему уготовил.
– Мамонт исполнит тот урок, который ему отпущен судьбой, – жестко проговорил Стратиг. – И я ничуть не поступаюсь гармонией.
Они говорили так, словно Русинова здесь не было. Тем более показалось, что речь идет вовсе не о конкретной его судьбе; происходил принципиальный идеологический спор, видимо, возникающий уже не первый раз. Чувствовалось, что Августа-Дара не имеет права оспаривать что-либо из решений Стратига, тем более за кого-то заступаться или просить, однако ее отвага довольно легко прощалась грозным начальником, как показалось Русинову, по причине его глубокой симпатии к дерзкой спорщице.
– Прости, Стратиг. – Она опустила голову. – Но я помню твой урок Птицелову. И чувствую ответственность за него, потому что сама привезла его к тебе.
– Птицелов совершил подвиг, – через плечо бросил Стратиг. – Он исполнил свое предназначение. Ты знаешь: даже Владыка не может остановить, если человек очень хочет умереть… Все! Ступай! Ура!
– Ура! – откликнулась она и направилась к выходу. Возле Русинова на секунду остановилась, посмотрела в глаза. Иван Сергеевич не знал, кто она на самом деле, но как старый знаток женской психологии очень точно уловил истинную женственность ее души.
– Повинуйся ему, – сказала Августа-Дара и коснулась рукой его солнечного сплетения. – Валькирия спасет тебя.
Стеклянная дверь с морозным узором бесшумно затворилась за ней, однако некоторое время Русинов ощущал ее присутствие в этом зале и прикосновение руки. Стратиг стоял у окна и смотрел на реку, словно забыв, что в зале, у порога, кто-то есть. Волчья доха сползла с одного плеча, и обнажилась мощная, мускулистая шея, будто пень, вросшая в широкие плечи. Прошло несколько минут, прежде чем он обернулся и глянул пронзительным взором из-под нависших бровей.
– Ты знал человека по имени Авега?
– Да…
– Каким образом тебе удалось открыть его подлинное имя? – Стратиг отвернулся к окну. – Почему он тебе открылся?
– Я показал ему картины Константина Васильева, – сказал Русинов. – Авега был возбужден… И упомянул «сокровища Вар-Вар».
– Кто подсказал тебе? Кто посоветовал это сделать?
– Никто. Я сам пришел к этой мысли.
Стратиг поправил на плечах доху и сел к камину в тронное кресло. Русинов оставался у порога.
– Изгои после этого заметили тебя, предложили работу?
– Да, это определило мою судьбу…
– Ты был доволен ею?
– Несколько лет был доволен…
Он снова взглянул из-за плеча.
– А ты сам не мог прийти к мысли, что соприкоснулся с миром, который не можешь понять и объяснить? Тебя не одолевали сомнения? Душа твоя не протестовала? Не возникало чувство, что совершаешь неправедное дело, что приносишь вред?
– Я был слепым, как все изгои, – признался Русинов. – Довлела страсть к поиску. Хотел объяснить необъяснимое…
– Страсть к поиску, – проворчал Стратиг, грея руки у камина. – Весь мир одержим лишь страстью… Кто вселил эту болезнь? Кто свел с ума человечество?.. Надеюсь, теперь ты осознал, что это дурная болезнь, приводящая к слепоте разума и сердца?
– Да, Стратиг…
– А осознал ли ты, Мамонт, что погубил художника, Авегу и, наконец, Страгу Севера? – медленно проговорил он.
Русинов ощутил внутренний протест против такого обвинения: по крайней мере Страга погиб из-за того, что Русинов притащил за собой к заповедному камню бандитов генерала Тарасова. В остальных случаях его вина все-таки была косвенной…
Но ответил покорно:
– Осознал.
Стратиг сделал длинную паузу, нахохлившись в своем троне, как дремлющий орел.
– Ты искал золото… По моей воле тебе показали металл, и ты дал слово покинуть Урал. Почему же ты нарушил свою клятву?
– Мне стало ясно, что истинные «сокровища Вар-Вар» – не золото и алмазы.
– Кто тебе подсказал это?
– Никто.
– Ты пришел сам к такой мысли?
– Да, Стратиг. Было бы слишком просто, если бы суть «сокровищ Вар-Вар» заключалась в драгоценностях. Я понял, что ты брал слово, чтобы избавиться от изгоя. И ты прав: изгой, одержимый страстью, может принести только вред. Это дурак.
– Это не всегда дурак, – заметил Стратиг. – Кощей – тот же страстный и истеричный изгой, но владеющий рассудком… И все-таки ты искал золото?
– Я жил в мире изгоев и искал то, что ищут все, – ответил Русинов. – И когда нашел – почувствовал отвращение к этому металлу. Я словно заболел. Казалось, жизнь кончилась… Меня утешало лишь то, что я видел изделия из золота, принадлежащие высочайшей культуре. Культуре, которая презирала, попирала ногами материальные сокровища. Значит, у нее были другие ценности…
– Простая логика, – задумчиво проронил Стратиг и указал на кресло с другой стороны камина. – Садись, Мамонт.
Русинов поправил медвежью шкуру на спинке и сел. Кажется, допрос закончился.
– Должно быть, ты понимаешь, что обязан понести суровое наказание, – глядя в огонь, сказал Стратиг. – Изгой, хотя бы приблизившийся к тайне «сокровищ Вар-Вар», либо должен умереть, либо стать безумцем. Тысячу лет назад нас не случайно называли варварами. Мы мстили за каждую попытку изгоев отыскать золотое руно. И я бы покарал тебя, Мамонт. Если тебе удалось выбраться из Кошгары, нашел бы другую ловушку… Но не могу покарать, не имею силы, потому что тебя… Ты избран Валькирией.
Он замолчал, исполненный тяжелым гневом, но не выказывал своего бессилия. В сравнении с Ольгой он казался титаном, всемогущим властителем судеб, однако и перед ним стоял непреодолимый барьер в виде женской воли. Похоже, здесь сталкивалась космическая предопределенность мужского и женского начала, их единство и противоположность.
Через минуту он справился со своими чувствами, стал рассудительным и справедливым.
– Женщине открыт космос, и потому только она имеет право выбора. Так устроен мир, и огорчаться бессмысленно. Ты себе хорошо представляешь, Мамонт: это ровным счетом ничего не значит. Мы живем на земле и повинуемся голосу разума.
В это время на одном из кресел зазвонил невидимый телефон. Стратиг выждал и недовольно пошел к столу. Скинул волчью шкуру с кресла, взял трубку.
– Слушаю!.. Нет, мы можем принять лишь три экскурсии в день. У нас до сих пор не дали отопления, в залах очень холодно, и экскурсоводы отказываются работать… Мне наплевать на валюту. Три, и не больше!
Он бросил трубку и брезгливо выдернул шнур из розетки.
– Конечно, жаль, – сказал он сам себе, – нужно показывать людям забытые вещи… На меня обижаются, говорят, я все время хочу разрушить гармонию и изменить чью-то судьбу. Это же несправедливо! Даже если бы я захотел, ничего бы не изменил… Надеюсь, Мамонт, ты так не думаешь?
– Нет, Стратиг, – заверил Русинов. – Я согласен: чужую судьбу никто не может изменить.
– Ты уверен? – Он перекосил брови. – А Валькирии? Разве твоя судьба не изменилась?.. Да оставим это.
Он положил три березовых полешка в огонь, голой рукой забросил вылетевшие из камина горящие угольки, а один, самый яркий, положил на ладонь и задумчиво подул на него.
– Теперь слушай, зачем я позвал тебя, – сказал Стратиг непререкаемым тоном. – Ты специалист по поиску… кладов. Твоя профессия очень странная и напоминает обыкновенное воровство… Но сейчас я говорю не о моральной стороне дела. Тем более что не хочу пускаться в дискуссии. Некоторые твои способности могут послужить сегодня во благо. Четыре года назад мы потеряли контроль над золотым запасом России. В этот же период официальные власти заявили, что в казне осталось двести сорок тонн золота. Куда исчезла тысяча? Что это значит, я думаю, ты догадываешься. В очередной раз российские сокровища перетекут в банки Запада и Востока, оживят их экономику и усилят вращательный момент горизонтали. Вертикаль же север – юг будет испытывать мощный дисбаланс, а значит, упадок жизненного уровня и, как следствие, нравственную деградацию.
Стратиг перекинул уголек с ладони на ладонь, затем бросил его в камин.
– В двадцатых годах нам удалось сдержать натиск горизонтали, – продолжал он, расхаживая по залу и создавая ветер. – Тогда мы устроили примитивный экономический кризис и изъяли большую часть золота, вывезенного из России. Но это не метод борьбы. В конечном итоге от кризиса пострадали родственные нам народы. Получилось, что мы сами возбудили нездоровый интерес к наживе, к жажде материальных благ в ущерб духовным. Кроме того, всякий кризис не обнажает уродство кощеев, напротив, скрадывает его, отрицательные качества становятся привлекательными для темных изгоев. В результате появились два монстра, столкнувшие родственные народы в дикой войне. Тогда мы выступили на стороне России. Гитлер своим явлением порочил Северную цивилизацию, по сути, уничтожал ее, отвращал народы от самой идеи арийского братства. Когда мы остановили его на севере, он двинулся на юг. Этот кощей знал пути, но потому он и был предсказуем…
Он приблизился к огню и долго смотрел на его плавное колыхание, стоя спиной к Русинову. Затем резко, будто на выстрел, обернулся, сказал через плечо:
– Запад не опасен, Мамонт! Ни тогда, ни сейчас… Опасен непредсказуемый Восток. Россия не защищена с востока, ибо там восходит солнце… Мы можем вмешиваться в исторические процессы лишь в исключительных случаях, потому что не вправе изменять судьбу народов. Однако зная будущее развитие событий, можно довольно легко устранить причину, которая повлечет за собой опасные последствия. Исчезновение золота из государственной казны – сигнал тревоги. Ты помнишь, Мамонт, сразу после ажиотажа вокруг золотого запаса одна американская сыскная фирма подрядилась отыскать утраченные драгоценности. Но умолкла вскоре, даже не приступив к работе. Ее дернули, поскольку никто не должен найти этого золота. В Министерстве безопасности существует специальный отдел, который занимается золотом компартии, однако и это блеф. У меня есть точные данные, что золото пока находится на территории России. И есть основание предполагать, что две трети его уйдет на Восток и одна – на Запад. Территориальные претензии Востока от теории очень легко перейдут к практике. Запомни, Мамонт: золото – металл символический. Он как кровь противника, как его печень, съедая которую воин получает силу и мужество врага.
Стратиг остановился за спиной Русинова, и тот ощутил непреодолимое желание обернуться. Сжал кулаки и сдержался.
– Мне нравится твое спокойствие, – через минуту ответил Стратиг и впервые за все время беседы встал перед ним открыто. – И упорство твое нравится. Но не обольщайся, при всем этом ты бы никогда не нашел золото варваров. Я велел показать тебе сокровища… Теперь же ты обязан найти утраченный золотой запас России. Я не пытаюсь изменить твою судьбу. Ты ведь когда-то сам избрал себе эту долю – искать клады?
– Да, Стратиг, – ответил Русинов. – Тогда я не подозревал о существовании других сокровищ… Не знал, что такое соль, которую добывают в пещерах и носят на реки мира…
– Мне нужно золото, а не соль! – резко оборвал Стратиг. – Что принадлежит России, должно принадлежать только ей. Либо – никому. Довольно питать своей кровью иные цивилизации. Твоя соль будет никому не нужна.
– Я повинуюсь, Стратиг, – будто подписывая себе приговор, вымолвил Русинов.
– Этого мало! Я презираю слепое повиновение! Ненавижу, когда принуждают! Все это удел изгоев.
– Золото России будет принадлежать России.
Немигающий взор из-под низких бровей был тяжелым, как свинцовая печать. Стратиг медленно снял со своих плеч волчью доху, бросил на плечи Мамонта:
– Владей, Мамонт.
В Москве он оказался в полном одиночестве, будто бы только что родившийся первый человек на пустой земле. Впрочем, так оно и было: Мамонт носил теперь другое имя, и оно как бы навсегда лишило его привычного круга знакомых, собственной квартиры и даже сына Алеши, с которым предстояло встретиться в ближайшие дни после возвращения. Было жаль расставаться с прошлым, но при этом он ощущал горделиво-спокойное чувство полного обновления. Он не мыслил себя богатым духоборцем, имеющим двойное гражданство и приехавшим в Россию вместе со своими капиталами, – это требовалось лишь для документов, лежащих в кармане. Он никогда не был в Канаде и духоборов, отправленных туда еще Львом Толстым, не видел, а потому легенда мало что значила. Однако и тем прежним Русиновым он не осознавал себя и думал о нем как о старом друге, хотя новый, перевоплощенный, унаследовал его «я».
«Я» относилось к Мамонту: прозвище уже давно вросло в сознание и было, по сути, неизменным, переходящим именем.
В глубине дворов на Большой Полянке для Мамонта был куплен особняк усадебной застройки, с двором, высоким решетчатым забором и старыми липами.
Следовало привыкнуть и к своему новому состоянию, к обстановке в доме, освоиться в пространстве, и на это была отпущена целая неделя. В первые дни его не покидало ощущение, что он вернулся из космического полета и теперь проходит процесс адаптации на земле. Больше всего угнетало одиночество в пустом доме, и он с утра до вечера не выключал телевизор, чтобы хоть чей-то голос звучал в этих стенах. Кто занимался покупкой и обстановкой особняка – все очень хорошо продумал: тут было все, что может иметь привыкший к роскоши русский канадец. Все, кроме книг, если не считать телефонных и банковских справочников, товарных каталогов и рекламных журналов. У богатых свои привычки…
Через четыре дня вечером Мамонт услышал, как во двор въехала какая-то машина, и скоро в замке входной двери ворохнулся ключ. Нащупав в кармане рукоятку пистолета, он отвернул предохранитель и стал в дверном проеме передней. Один замок открылся, ключ скрипнул во втором, затем сработал третий, кодовый, и на пороге оказалась женщина лет тридцати. Она по-хозяйски сняла шляпу, расстегнула плащ.
– Здравствуй, Мамонт! Будем знакомиться: я твоя жена.
– Наконец-то! – вздохнул Мамонт.
– Ты скучал без меня? – засмеялась она, вешая одежду.
– Надоела холостяцкая жизнь, – разглядывая «жену», сказал он. – Но ты должна была позвонить…
– В Москве не работают автоматы!.. Ты ужинал?
– Нет еще…
– Сейчас я что-нибудь приготовлю, а ты загони машину в гараж.
Раньше Мамонт видел ее лишь на фотографиях, знал ее имя из свидетельства о браке – Надежда Петровна, урожденная Грушенкова, но сейчас неожиданно уловил сходство «жены» с Августой-Дарой. Внешне они были совершенно разные: Надежда больше напоминала смугловатую, темноволосую цыганку, однако манера держаться и какой-то пронзительный, останавливающий взгляд выдавали их родство. Было известно, что она родилась в провинции Британская Колумбия, в городе Кастлгар, принадлежала к общине духоборов и выехала из Канады вместе с мужем, в чем Мамонт сильно сомневался.
Надежда пригнала их машину – темно-серый «линкольн». Мамонт сел в кабину и минут десять разбирался в управлении, прежде чем запустил двигатель и включил свет. После «уазика» в этом агрегате казалось так много лишнего, но что делать, если у богатых свои привычки.
С первого же вечера пустынный дом ожил: как и полагается в состоятельной семье, жена не работала и занималась домашним хозяйством. Неизвестно, откуда она явилась и какие уроки исполняла прежде, ясно было, что создана она блюстительницей домашнего очага. По крайней мере ей нравилось быть женой.
Перед сном она заглянула к нему в кабинет, пожелала спокойной ночи и тем самым как бы сразу вернула его на землю. Мамонт действительно ощутил спокойствие и способность работать.
Институт кладоискателей потому и назывался институтом, что там отрабатывались научные версии, методики поисков и их теоретическое обоснование. Академический подход к любой проблеме подтолкнул Мамонта начать именно с этого, поскольку в его распоряжении не было ни готовых версий, ни мало-мальски основательных предположений. Пожалуй, он бы долго еще не испытывал особого интереса к «уроку», если бы вдруг не вспомнил странное исчезновение хазарского золота из могил со дна будущего Цимлянского водохранилища. И сразу почувствовал – горячо! Иван Сергеевич все-таки успел точно установить, что к Цимлянску причастен неистребимо вечный Интернационал. Если для него в ту пору не существовало «железного занавеса», то из нынешней, открытой всем ветрам России можно вытащить все, что угодно – от танковых колонн и меди до урана и красной ртути. Тем более Интернационал, перевитый и скрещенный с основой компартии, наверняка считает золотой запас России своим стратегическим запасом и теперь, когда пришло время, попросту изъял «причитающуюся» ему долю. Идея мировой революции не исчезла вместе с Троцким; ее не убьешь ледорубом, не отменишь указом либо реформой. Она сама способна реформировать какую угодно систему, в нужный момент перестроиться, обрести новую форму, сохраняя старое содержание. Как только компартия СССР перестала спонсировать Интернационал – а это случилось совсем недавно, – последний немедленно предъявил счет. И он был также немедленно оплачен золотой казной.
«То, что принадлежит России, должно принадлежать только ей. Либо никому».
Вот почему материальные и духовные «сокровища Вар-Вар» лежат мертвым капиталом. Они принадлежат будущему цивилизации! А значит, сегодня никому…
Мамонт набросил на плечи волчью шубу – в Москве тоже еще не дали отопления, и в доме было прохладно. Княжеский подарок Стратига оказался кстати…
Что же это такое – Интернационал? «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Голодные и рабы – это изгои. Интересно, кто написал слова? Определение очень точное… Да, похоже, Интернационал – это организация не изгоев: голодных можно накормить, рабов – освободить, и вопрос ликвидирован вместе с задачей самого Интернационала. Его нет, и он есть одновременно. И если он блестяще проделывает операции по изъятию золота из могил и хранилищ государственной казны, то эта организация очень серьезная, по структуре и незримой деятельности чем-то напоминающая существование хранителей «сокровищ Вар-Вар». Что это за сила, способная экспортировать революции, распоряжаться золотым запасом России?
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем…» Да, и к тому же с Интернационалом воспрянет род людской! Это что, еще одна цивилизация будущего? Одна, общемировая, в которой смешаются все стороны света? Еще одно вавилонское столпотворение? Что станет, если практичный Запад слить с лукавым и созерцательным Востоком? Все равно что скрестить ужа и ежа…
В любом случае, в каком бы виде ни существовал Интернационал, за ним стоят люди, причем конкретные личности. А человек – это ключ даже к самой сложной задаче. Не явился бы Авега – не открылся бы мир гоев…
Надо искать сейчас не золото, а людей, принадлежащих к Интернационалу. На лбу у них не написано, однако точно можно сказать, что они не голодные и не рабы. Они – сильные мира сего, может быть, пока не владеющие им, но влияющие на его развитие. На лбу не написано, и все-таки должны быть какие-то предметы, знаки, приметы. Авега нес с собой в котомке хлеб и соль – символы земли и солнца. Что эти носят в своих котомках? Прокламации и воззвания? Или деньги на закупку оружия для революции?
Доха с «княжеского» плеча грела хорошо, порой даже становилось жарковато… Кто финансировал революцию в России? И Февральскую, и Октябрьскую? Кто оплачивал эмиграцию, полчища профессиональных революционеров, выпуск газет, опломбированный вагон? Конкретные банки, принадлежащие Интернационалу? Или деньги поступали от таких, как Савва Морозов, оплативших собственную гибель?
Странно, что об этом ничего не известно в нынешней реформированной демократической России. Должен бы сработать инстинкт самозащиты, должна включиться иммунная система, уничтожающая революционный вирус в обновленной крови. Да и здравая логика подсказывает необходимость развенчать Интернационал как основной носитель тяжкой болезни. В конечном итоге революции делают не люди, а идеи и деньги, отпущенные на их реализацию. Да, видимо, наложено табу. Тайну вклада гарантируем…
На отдельном листке Мамонт написал одно слово – «Интернационал»: это была первая версия. Он спустился вниз, осторожно пробрался на кухню и поставил чайник на конфорку. Теперь следовало забыть все, что относилось к первой версии, и заново осмыслить ситуацию, оперируя иными исходными данными. Внимание притягивало одно обстоятельство, которому не находилось более или менее серьезного объяснения. Еще тогда, после августа девяносто первого года, его поразило, с какой стремительностью и легкостью рухнул и обратился в прах железобетонный колосс – компартия, давно и прочно сросшаяся со всеми видами власти и государственным аппаратом. А следом за ним, с такой же тотальной неизбежностью, развалился и раскатился в разные стороны СССР. Оказавшиеся у власти в России бывшие партийные деятели, а с ними официальная пресса уверяли народ, что колосс этот был на глиняных ногах, что все давно прогнило, сопрело, превратилось в труху и неизвестно за счет чего держалось. Однако параллельно, то ли по недомыслию, то ли по недосмотру, обрушился шквал исповедальных откровений потерпевших от коммунистического режима, которые утверждали обратное: компартия, слитая с ее карательным органом КГБ, – стальная безжалостная машина, способная растереть в порошок всякого инакомыслящего. Этот бульдозер не знает ни страха, ни смущения или стыда за свои действия, движется направленно, целеустремленно и неотвратимо. А спаявшись с государственным аппаратом, компартия была рукой дающей и отнимающей, гладила по шерстке и против, хлопала по плечу и давала пощечину.
Можно было понять новых идеологов и журналистов: они обеспечивали закономерность и причины смены режимов, разъясняя, умиротворяли «народные массы», «голодных и рабов». Можно было объяснить крайность суждений пострадавших – чтобы герою стать героем, следует возвеличить противника, показать его мощь и жестокость. Но если даже все разделить на «шестнадцать», явственно усматривался «командирский приказ». Не нашлось ни одного члена Политбюро, ни одного секретаря обкома, кто бы возмутился происшедшим, вышел на площадь, крикнул, призвал, напротив, большинство дружно начали жечь свои партбилеты. Привыкшие к приказам, они не умели даже лукавить. И лишь рядовые, брошенные командирами на произвол судьбы и находясь в полном неведении, буянили и орали на площадях.
В восемьдесят девятом году была полностью заменена контрольно-ревизионная служба Третьего спецотдела, и тогда же человек по прозвищу Птицелов оказался на пенсии и под чужой фамилией, после чего Стратиг потерял контроль над состоянием золотого запаса. По всей вероятности, именно в этот год часть государственной казны была изъята из хранилищ. Сделать это могла только высшая партийная элита, одновременно являющаяся высшими государственными чиновниками. Командиры пониже рангом получали не золотом, но валютой и родными миллионами рублей, которые в спешном порядке вкладывались в банки либо в свое дело.
Судя по уголовным делам Средней Азии, у партийных кощеев была необузданная тяга к золоту и драгоценным камням. Они даже не понимали, зачем это им нужно в коммунистической стране. Однако те, кто получил свой «пай» из государственной казны, наоборот, великолепно знали будущее, ибо сами спланировали его и обеспечили золотом. Только уникальная, хорошо скоррумпированная организация могла произвести подобную операцию и только в СССР. А потом выполнить команду на погружение…
Вторую версию можно было условно назвать «Коррупция».
Мамонт отыскал заварку, залил ее кипятком прямо в большой фаянсовой кружке и накрыл блюдцем. В тот же миг услышал мягкий, но с менторским оттенком голос:
– Дорогой, никогда не делай больше так. Пожалуйста.
«Жена» стояла в дверном проеме кухни, обернувшись пуховым одеялом. Застигнутый врасплох, Мамонт развел руками:
– Интересно… Я еще ничего не сделал.
– Если ты станешь заваривать чай, как распоследний бомж, кто же поверит, что ты – современный аристократ? В тебе сразу признают Мамонта.
– Так, – усмехнулся он, – первый семейный скандал… А если я привык? Мне кажется, так вкуснее!
– Отвыкай, милый. Приготовлю и подам. – Надежда принялась собирать чайные приборы на подносе. – Из бытовых мелочей складывается манера поведения. Незаметные, второстепенные детали накладывают отпечаток и на характер, и на образ мышления. Поэтому важно все. Дипломатические обеды с пресловутой сложной сервировкой и приборами делаются не ради того, чтобы показать изысканность стола. Есть можно и руками, и с газеты… Сложность обыденных бытовых вещей незаметно начинает диктовать и направление застольных разговоров, и поиск компромиссных решений. Ты же станешь искать специальный нож, чтобы взять масло, и не будешь резать им отбивную…
– Спасибо за блестящую лекцию! – засмеялся Мамонт. – Извини, я Смольного института не заканчивал. Можно, в последний раз попью чай, как бич?
– Нет, нельзя. – Она хладнокровно выплеснула уже заварившийся чай. – Сейчас приготовлю.
– Да! Жена попалась с характером!
– Что делать? Браки творятся на небесах… – Ей, кажется, стало чуть грустно – потемнели карие глаза. – Увы, я не Валькирия и не могу избирать: не владею космической стихией. Но я – Дара! И мне подвластны стихии земные… О! Ты еще не знаешь, какая я коварная! Женщина Дара – это змея. Вползу куда угодно, притворюсь мертвой, зачарую-заворожу. Мой яд убивает и исцеляет. Люблю греться за пазухой или на солнышке… потому что сама – холодная. Притронься к моей руке.
Мамонт послушно притронулся – кожа действительно была ледяная.
– Это потому, что нет отопления в доме, – сказал он.
– Нет, Мамонт, не потому, – многозначительно сказала она и рассмеялась. – Ну что, страшно?
– Страшно, – признался он. – С детства боюсь змей.
– Чай готов, – вдруг объявила она служебным тоном. – Я подам в кабинет.
– Давай вместе попьем здесь? – предложил Мамонт.
– Увы, не стану больше мешать. Я уползаю!
Она, как профессиональная официантка, взяла поднос на пальцы поднятой руки и понесла по лестнице на второй этаж.
– Спасибо, Дара! – сказал он вслед.
– Нужно говорить – спасибо, дорогая, – на ходу поправила Надежда. – Завтра займемся твоим английским. Произношение у тебя наверняка не годится для жителя Канады.
Мамонт вспомнил Даренку из сказки «Серебряное копытце». Видимо, Бажов слышал о женщинах Дарах либо встречал сам. Это был непростой сказочник…
Он поднялся в кабинет и, сломив свое самолюбие, признал, что чай, приготовленный Дарой, на самом деле вкуснее, чем бичовский, «купеческий». И еще понял, что ее появление среди ночи, лекции о правилах хорошего тона и рассказы о змеях не случайные, что она за несколько минут отключила его от размышлений и как бы проветрила разум. Владение тонкой психологией – это такой же талант, как живопись или музыка.
Некоторое время Мамонт пил чай и улыбался, сам не зная отчего, пока на глаза не попали два листа с условными названиями версий. Третий был чистым…
Он размашисто написал: «Залог».
Неумолимый бульдозер партийного государственного управления был хорош внутри страны, населенной «голодными и рабами». Однако становился совершенно непригодным для тактики и стратегии геополитики. Он катастрофически терял свое главное достоинство – уважение со стороны государств соцлагеря и страх в капиталистических державах. Тем более из-за своей неповоротливости он увяз в Афганистане, и это стало последней каплей. Следовало списывать его в металлолом и покупать либо строить новую машину. И тогда возник термин – новое мышление. Строить было некогда: предчувствуя успех, Запад начал мощное давление, предлагая готовую, отлаженную и проверенную систему государственного управления. Разумеется, эта машина не годилась для российских дорог, да и не было обученных водителей, однако Запад обещал сервисное обслуживание и кое-какую гарантию. Кроме того, машина была радиоуправляема, и, имея под руками кнопки, можно было всегда подкорректировать движение. Одновременно Запад не верил ни в «новое мышление», ни в слово, даваемое в переговорах с глазу на глаз, поскольку хорошо себе представлял известное российское отношение к чужим новоизобретениям: либо ее начнут переделывать с помощью лома, либо установят танковый двигатель и ракетные установки. А на этой машине следовало блюсти технологические тонкости, то есть закон. И тогда появился термин – «правовое государство». Практичный Запад не поверил и этому, а потребовал залог, реальную сумму в золоте, сразу под все – под новое мышление, разоружение, «правовое государство» и под страхование инвестиций, которые должны были помочь реформировать экономику.
Таким образом, золотой запас России потек в банки Америки и Европы. И когда слитки металла перекочевали из железобетонных хранилищ в комнаты-сейфы, наступила долгая пауза, испытание нервов, проверка на вшивость. В СССР резали танки, выводили войска из Афганистана, взрывали пусковые ракетные шахты, стремительно проводили мероприятия по разделению властей, освобождению политзаключенных, однако Запад молча и отрицательно качал головой. Он хорошо представлял себе потенциал Империи, ее мобильность и способность скопом бить тятьку. Первый президент не мог совершить самоубийства, и потому следовало поменять коней. Импортная государственная машина могла заработать лишь на обломках этой Империи.
И когда наконец ее развалили и каждая республика получила по машине, стало ясно, что на ней невозможно ни придавить своих «голодных и рабов», ни кататься по мировым дорогам. Для того чтобы выполнить обещание, данное под залог, требовались десятки лет, а не пятьсот дней, как думалось некоторым. А залоговая сумма – вещь хитрая, на нее даже проценты не набегают, и ко всему прочему через условленный срок она может перейти в собственность банков и государств.
Если бы сейчас был Институт, Мамонт сформировал бы три группы и посадил на отработку версий. И каждый день на этих листках ставил бы плюсы и минусы, чтобы затем выбрать самую перспективную и начать ее реализацию. Однако он был совершенно один. «Жена» могла лишь догадываться, чем он занимается, и выполнять отдельные поручения, весьма характерные и специфические. Мамонт знал, с какой целью его женили, но ему стало неприятно от одной мысли, что Надежда будет заниматься «постельной разведкой».
Мамонт забросил листки в ящик стола: пусть отлежатся несколько дней. А пока следовало пощупать специальный отдел Министерства безопасности и его шефа – Арчеладзе. Что он накопал за два года? И одновременно выполнить отдельное и срочное поручение Стратига: проведать старого знакомого, «снежного человека», который лежал в реабилитационном центре. Пока зреют версии, нужно разведать обстановку и ввязаться в бой, чтобы заявить о себе. Любые действия всегда должны носить наступательный характер…
Он не заметил, как начало светать и сквозь прикрытые жалюзи на окнах просочилось жидкое московское утро. И одновременно на кухне послышался звон посуды, потянуло свежеобжаренным кофе. Презрев весь этикет, он спустился вниз.
– Доброе утро, милый! – весело сказала Дара. – Я должна принести кофе в постель!
– Доброе утро, дорогая, – фальшиво произнес Мамонт. – «Линкольн» мне очень понравился, но нам будет мало одной машины.
– Как скажешь, милый! – легко согласилась она. – Сколько еще нужно и каких марок?
У богатых были действительно свои привычки…
– Два новых «Москвича». Один неприятного зеленого цвета, а другой… По твоему выбору.
– Когда нужны?
Такой жены хотели бы десятки миллионов мужчин…
– Одна сегодня к обеду, другую можно завтра.
– Хорошо, дорогой!
Кроме своей «службы», она вела хозяйство, содержала дом и распоряжалась финансами…
5
Сухостойного, пришибленного старичка в темном плаще полковник заметил издалека, когда тот поднялся из подземного перехода. В руках виднелся какой-то предмет, похожий на старомодный зонт. На всякий случай Арчеладзе высветил его невидимым лазерным лучом, давая цель группе обеспечения. Старик остановился возле кинотеатра, опершись на зонт, медленно, словно гусак, поводил головой – похоже, страдал тугоподвижностью шейных позвонков. Примерно вот такие и работали возле золота: ни стати, ни вида и непременно с изъяном. А может, и становились такими – металл высасывал соки…
Старик определился в пространстве, высмотрел «Волгу» и точно направился к ней. Кажется, пришел без всякого сопровождения. Демонстративно посмотрел номер машины и согнулся, заглядывая в кабину. Полковник приспустил стекло.
– Это я звонил, – признался старик.
– Садитесь. – Арчеладзе отщелкнул кнопку двери.
Он всунул голову, неуклюже забрался в машину и повалился на сиденье, отпыхиваясь.
– Слушаю вас, – без всякой подготовки начал полковник, зная привычку этих ветеранов заговаривать издалека и с пустяков.
Старичок снял шляпу – от скатавшихся детских волос пошел пар.
– Господин полковник, – неумело произнес он непривычную приставку к званию. – Я хочу рассказать по порядку…
– Да, желательно.
– Долго искал вас… Сначала узнал фамилию, потом достал код телефона спецсвязи и вот решился, господин… полковник.
– Кстати, откуда вы звонили? – резковато спросил Арчеладзе.
– От старого приятеля, – признался старик. – Фамилии не назову! Ни за что! Не хочу подводить!.. Он абсолютно надежный человек!
– Продолжайте!
– Я знаю много секретов, связанных с золотом, – сообщил тот. – Но они сейчас как бы утратили силу. Я хотел написать книгу. Многие пишут книги, кто работал с секретной информацией и материалами. Но у меня не получается. Вернее, получается, да очень уж коротко, и книга выходит совсем как маленькая брошюрка. Видно, нет таланта расписывать.
– У вас лучше получается разговорный жанр, – не преминул съязвить Арчеладзе, но был не понят.
– Да, рассказывать я умею! Вот если бы кто с талантом записывал и не перевирал, получилась бы хорошая книга, дорогая…
– Вы работали с Птицеловом?
– Да-да! – спохватился старик. – Его звали Сергей Иванович Зайцев. Это был удивительный человек, увлеченный и чистый, кристальной честности человек! Он очень переживал за свое дело и умер от инфаркта миокарда. Сергей Иванович любил, когда свистят птицы над головой…
Следовало остановить этот художественный свист, иначе и к утру не услышишь, ради чего приехал.
– Как вас зовут? – перебил полковник.
– Юрий Алексеевич Молодцов! Я работал на ответственной работе, имел допуск к секретным материалам…
– Что же вы конкретно хотели сообщить, Юрий Алексеевич?
– Я знаю, вы ищете золото.
– Откуда вам это известно?
Старик несколько смешался.
– Часто встречаюсь со старыми сослуживцами… У нас обмен информацией… Нас нельзя списывать, мы ветераны… Коллективный разум.
– Так что вы знаете о золоте, Юрий Алексеевич? – теряя терпение, спросил Арчеладзе.
– Много чего… Например, как его вывезли с объекта «Гранитный». И куда потом направили.
– Ну-ну, продолжайте, – успокоился полковник.
Юрий Алексеевич сделал паузу, ощупывая старый нескладной зонт.
– Господин полковник… Вы понимаете, сейчас другое время. Раньше я бы сообщил вам из патриотических соображений, безвозмездно. Но сейчас рынок… Приходится платить за все.
– Ваш шеф был кристальной честности человек. – Арчеладзе поморщился. – А вы торгуетесь… Не стыдно?
– Стыдно, – проронил старик. – Очень стыдно… Но я – голодный. У меня маленькая пенсия. Я продал все, что у меня купили… А на иждивении жена и престарелая свояченица. Если бы я сумел написать книгу…
Полковнику неожиданно стало жаль старика. Он еще старался держаться с достоинством, крепился, прятал глаза. Судя по одежде, пик карьеры этого человека приходился на шестидесятые годы, и теперь он доедал, донашивал и доживал ее остатки.
– Хорошо, – согласился полковник. – Сколько вы хотите получить за информацию?
– Тысячу долларов. Положу в банк и стану жить на проценты. Сейчас платят хорошие проценты…
– Если информация меня устроит, вы получите тысячу.
– Спасибо, господин полковник… Это было в восемьдесят девятом году, в сентябре. Меня вызвал полковник Сердюк и приказал осуществлять контроль за амальгамированием. Условий на объекте не было, это же не завод… В отдельном боксе поставили четыре фрезерных станка. Слитки перегоняли в стружку, а стружку опускали в ртуть. Ртуть была в специальной таре, на которую амальгама не оседает… Производство вредное, испарение, а вентиляция едва дышала. Но работали по восемь часов, и всего два человека – токарь и женщина-лаборантка.
– Сколько золота амальгамировали?
– Под моим контролем около сорока тонн.
– А потом кто контролировал?
– Не знаю… Вернее, догадываюсь кто. – Старик помедлил. – Но точно не знаю.
– Кто?
– Должно быть, Володя Петров. Молодой даровитый шахматист.
– Где он сейчас?
– Далеко! – вздохнул старик и махнул рукой. – У него жена – еврейка, так он уехал в Израиль.
– Понятно, – вымолвил полковник. – Чем же вы занимались потом?
– Потом? – встряхнулся Юрий Алексеевич. – Потом я поехал в Ужгород, повез амальгаму. За Ужгородом, в заброшенном местечке Боровичи, есть контрольно-измерительная станция на нефтепроводе. Амальгаму привезли туда. Станция хорошо охранялась, но персонала не было, а были два человека… Я подозреваю – из КГБ. Они назывались операторами. На трубе было смонтировано специальное оборудование, чтобы переливать амальгаму в нефть. Такой перепускной клапан. В строго определенный час насосная станция в Ужгороде сбрасывала давление, и операторы сливали амальгаму. Я следил, чтобы не было утечки и тара оставалась пустой. Я боялся, что амальгама начнет золотить стенки трубопровода, но меня успокоили, что они всегда покрыты слоем парафина, который высаживается из нефти. А кто ее принимал на другом конце трубы, мне неизвестно.
