Принц Модильяни
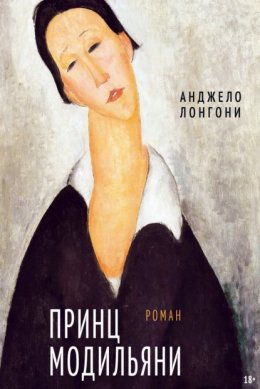
Angelo Longoni
MODIGLIANI IL PRINCIPE
© 2019 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano, www.giunti.it
© Лилия Фунтова, перевод на русский язык, 2022
© А. Ахматова, наследники, 2022
© М. Д. Яснов, наследники, перевод на русский язык, 2022
© АО «Издательский Дом Мещерякова», 2022
Евгения Гарсен
Самый любимый ребенок.
Ни одна мать не должна так думать и выделять кого-то из детей. Предпочтение – непростительно, и даже то, что я воспитываю детей одна, не может служить оправданием.
Своего мужа я никогда не любила и почти не видела. Этот человек гораздо больше увлечен своими угольными шахтами, чем нашей семьей, и способен лишь оставлять меня беременной во время своих редких наездов домой с работы на Сардинии. Семья Модильяни не существует. Я – как Модильяни – не существую.
Для всех я – Евгения Гарсен: и мужчина, и женщина в доме, одновременно отец и мать. От семьи Модильяни я ничего не ожидаю: ни помощи, ни поддержки, ни – тем более – обсуждения моих возможных ошибок.
Мой муж не подвержен риску предпочтений, потому что ему одинаково безразличны все его дети. Я же люблю их всех, но одного из них – особенно, потому что он уникальный и уязвимый.
«Самый любимый ребенок».
Семья Гарсен – французские евреи родом из Марселя. Мы вели дела в Ливорно и впоследствии перебрались туда. Мы образованные, эксцентричные, утонченные, космополитичные, свободомыслящие.
Модильяни – ортодоксальные евреи из Ливорно, богатые, но неотесанные. Семья владеет угольными шахтами, которые в прошлом были прибыльными, но теперь пришли в упадок. Когда-то они жили в особняке на виа Рома и имели слуг, – но того дома больше нет, Модильяни его потеряли. Удача часто устает сопутствовать все время одним и тем же.
Когда я рожала Амедео, четвертого и последнего ребенка, на моей кровати были нагромождены все ценные вещи, которые у нас остались, поскольку неизвестно кем придуманный стародавний закон запрещал наложение ареста на любой предмет, находящийся на кровати роженицы. Так нам удалось спасти некоторые ценности – судебные приставы пришли одновременно с родовыми схватками. Мой «любимый» супруг был не в состоянии защитить меня даже в этот деликатный и болезненный момент! Но что ему было известно о схватках, разрывах, крови и плаценте? Он был сведущ только в том, что входило, но не в том, что выходило.
Сразу после этого мой муж опять уехал на Сардинию, а я засучила рукава. Я содержала детей благодаря доходам от своей начальной школы, частных уроков французского и переводов. Разумеется, я лично занималась обучением своих детей. Я воспитывала Амедео образованным, утонченным, чувственным. Французский стал его родным языком наравне с итальянским. Я призывала его следовать своим мечтам и не бояться быть амбициозным.
В одиннадцать лет Амедео заболел плевритом. Все врачи говорили, что он не справится с болезнью.
Видеть его обессиленным было ужасно. Я бы предпочла быструю смерть, только бы не видеть его страдания: боли, хрипы, лихорадку… Никто не говорил о выздоровлении: с самого начала считалось, что он обречен.
Гарсены не особенно религиозны – мы умеренные атеисты. Точно не зная, который из богов сможет спасти жизнь одиннадцатилетнему мальчику, я молилась им всем, чтобы не ошибиться. Я приходила и к раввину, и к священнику, притворяясь верующей перед ними обоими. Я бы попросила помощи и у мусульманина, если бы таковой мне встретился, и даже у колдуна или ведьмы. Знахарка готовила мне целебное снадобье, гадалка читала мне по руке, я ставила свечи в храме и окропляла Амедео святой водой. Я читала еврейскую исцеляющую молитву «Ана эль на рефана ла», ту же, что Моисей обратил к Богу для спасения своей сестры Мириам. Я пробовала, даже зная, что я не так важна в глазах Господа, как Моисей и его сестра. Я подолгу беседовала с раввином, и он позволил мне окончательно понять причины атеизма Гарсенов.
Меня интересовала только одна проблема: мой сын. Поэтому я просила различных «богов» соединиться в едином Боге и избавить моего сына от болезни.
И случилось чудо – Дедо выздоровел. Он мучился, потел, кашлял, долгое время был при смерти – но вернулся ко мне.
Поскольку я молилась всем богам сразу, я не знала, кого из них благодарить. Но я убеждена, что произошло нечто мистическое и некие высшие силы нам все-таки помогли.
«Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Спасибо».
Спустя три года Дедо заболел тифом. Снова лихорадка и нестерпимые головные боли.
– Мама, голова… что с моей головой?.. Мама, помоги мне…
– Ничего страшного, дорогой. Вот увидишь, скоро пройдет.
Потом появились боли в животе, диарея, пятна на коже. Однажды он лишился чувств, весь обмяк – и я подумала, что он умер, задохнувшись в своей желтой рвоте.
Я начала все снова. Если один раз это сработало – то могло и еще раз. Я снова побеспокоила раввина, священника, знахарку и гадалку, я снова ставила свечи, брала святую воду и читала молитву «Ана эль на рефана ла».
Дедо преодолел и этот кризис. Все эти болезни были испытаниями для него и для меня, препятствиями, благодаря которым мы становились лучше и сильнее. Я и мой сын оказались связаны борьбой, и лишь вместе мы победили.
Врачи, которые считали его безнадежным, говорили, что произошло чудо, нечто вроде воскрешения. А я считаю, что настоящее чудо заключалось в его желании жить.
– Мама, знаешь, когда у меня был сильный жар, я видел разных людей.
– Дорогой, это был сон. Возможно, тебе приснился кошмар.
– Они были хорошие, спокойные, добрые, но грустные.
– Почему они были грустные?
– Не знаю. Они были тонкие, изящные и никогда не смеялись, лишь слегка улыбались. Но их улыбки были грустными.
Эти персонажи его болезненных снов-видений – спокойные, приятные и улыбающиеся, идеальные люди, в некоторой степени более чувствительные, красивые и утонченные, – не были счастливы, но они и не страдали. Он говорил, что они печальны, но спокойны. Возможно, это то, чего он желал для себя и для меня – спокойствия, отсутствия раздражения, возможно, и легкой грусти, но не более того, и улыбки, которая выражает принятие той судьбы, что тебе досталась.
Дедо – ребенок, который повзрослел раньше времени; он уже в детстве знал о смерти и боли. Но, несмотря на все страхи и отчаяние, смог остаться чистым и рассудительным.
Следующее испытание стало самым страшным: туберкулез, неизлечимая болезнь, от которой не существует лекарств, основная причина смертности в Европе. Болезнь то затихает, то обостряется, и длится всю жизнь. (И эта жизнь коротка.)
Кажущиеся моменты спокойствия быстро проходят, возвращаются кашель и температура. Для рецидива достаточно усталости, переохлаждения или простуды.
Темная кровь выходит из легких и подступает к горлу, ей забрызганы простыни и подушки. Потом боль затихает – но только чтобы вернуться вновь, еще с большей жестокостью.
Мне пришлось полностью посвятить себя ребенку, я забросила переводческую работу и свои обязанности в школе, которую я основала. Хорошо, что мой брат Амедео, в честь которого я и назвала сына (и он очень любит Дедо), – единственный из семьи Гарсенов, кто умеет вести дела, – предложил финансовую помощь.
Когда туберкулез немного затих, Дедо снова заболел. На этот раз – скарлатина. Сколько можно! До какой степени можно испытывать стойкость матери? Насколько жестокой может быть природа в отношении такого хрупкого и беззащитного существа, как Дедо? Если существует тот Бог, который каждый раз его излечивал, то Он же играет с нашей жизнью самым бесчеловечным образом. Я очень злилась на все те божества, к которым обращалась, и решила верить исключительно в своего сына и в его способность противостоять болезни. Конечно, я была рядом с ним и в этот раз.
– Мама, они вернулись. Эти люди, которые отличаются от нас. Они правда хорошие, и они меня любят.
– И что они тебе говорят?
– Они не говорят. Это добрые люди, они тоже страдали. У них хороший цвет лица. Они улыбаются.
– Значит, они выздоровели.
– Наверное, да. Может, они добрые, потому что выздоровели.
Как можно не обожать ребенка, способного на подобные рассуждения? Сопоставить доброту, спокойствие и безмятежность с фактом познания и преодоления боли – весьма неординарный ход мысли.
…Дедо все преодолел и в этот раз. Он выздоровел.
Учился он дома, я сама его всему обучала. Он читал поэтов, философов, изучал математику, мы постоянно говорили по-французски. Однажды он подошел ко мне и сказал с улыбкой:
– Я хочу быть художником.
Кем бы ни захотел стать Дедо, я приложила бы все силы, чтобы помочь ему реализовать свою мечту. После того, что он вытерпел, у него было особое право на жизнь.
Учителя. 1899
Для таких, как я, выросших без отца, отсутствие учителей не так важно. У меня была только одна настоящая учительница – моя мать.
Но в обучении живописи мне все-таки нужен был человек, на которого я бы мог равняться. Знакомство с Гульельмо Микели стало своего рода ответом на этот запрос.
(Позднее я понял, что необходима осмотрительность в выборе преподавателя. Никто не может тебя так разочаровать, как отец или наставник. Я был разочарован обоими.)
Гульельмо Микели родом из Ливорно, как и я. В двадцать пять он участвовал в выставке во Флоренции и в выставке изящных искусств в Риме, в тридцать основал художественную школу.
Микели умеет работать в разных техниках – маслом, акварелью, пастелью. Раньше он был бедным, а сейчас зарабатывает живописью, гравюрами и иллюстрациями. Но в его работах нет ничего впечатляющего.
Я наблюдаю за Микели, пытаясь его понять, – и чем дольше смотрю, тем сильнее хочу никогда не стать ему подобным. Другие ученики, наоборот, преданы ему и повинуются каждому его слову. Во время уроков я все делаю без энтузиазма, но стараюсь быть точным. Я никогда не проявляю неприязни или недоброжелательности, я воспитан и сдержан.
Микели был любимым учеником Джованни Фаттори, которого все считают мастером, и каждое лето Фаттори приезжает его навестить. Их картины похожи друг на друга как две капли воды. Оба пишут пейзажи, лодки, быков, лошадей. Один научил другого рисовать животных, а тот, в свою очередь, научил первого рисовать лодки. Их пейзажи и лодки оставляют меня абсолютно равнодушным. Мне нечего добавить к их дискуссиям. Я наблюдаю их за работой – и мной овладевает скука.
Фаттори – представитель художественного направления маккьяйоли[1], Микели – представитель постмаккьяйоли. Разница лишь в приставке «пост». Не понимаю, почему нужно определять себя каким-то словом. Микели говорит, что это решают другие: искусствоведы, владельцы художественных галерей, продавцы картин.
Возможно, преподавателю необходимо ощущать потребность в передаче своего искусства, но таким образом можно научить только быть себе подобными. Фаттори учит Микели, а Микели – нас. Что из этого следует? Обучение заставляет всех рисовать одинаково?
Микели женат на внучке скульптора Джованни Пагануччи, и иногда он рассказывает о скульптуре. Только это меня и увлекает. Скульптура мне интереснее живописи, особенно по сравнению с пейзажами. Скульптуры – живые, настоящие, реальные, объемные. Я бы хотел научиться ваять. Но, может быть, невозможно научиться ни живописи, ни скульптуре. Нужно делать, пробовать…
Оскар
– Амедео, ты разве не доволен?
– Не знаю. А ты?
– Я? Думаю, что да. Да, точно: я доволен.
– Оскар, тогда объясни мне, почему ты доволен. Может, и я смогу понять.
Оскар сочувственно улыбается.
У меня никогда не было друзей. Я познакомился с ним здесь, в школе Микели, и он стал моим лучшим другом. Оскар старше меня почти на восемь лет, однако он ни разу не дал мне этого почувствовать. Он никогда не соперничает, не пытается показать свое превосходство, не отказывается поговорить со мной или дать мне совет. Оскар – здравомыслящий и практичный, а мне как раз не хватает именно этих качеств.
– Амедео, я считаю так: живопись – это ремесло.
– А не искусство?
– Это тоже. Но искусство без ремесла не получится. Маэстро Микели все время говорит, что сначала нужно научиться изображать реальность. Позже, со временем, проявится искусство, если есть способности.
– И ты согласен с этим?
– Да.
По сравнению со мной Оскар – мужчина. Он через многое прошел, потерял отца, когда был еще ребенком, и с тех пор вынужден заниматься тяжелой и грязной работой, чтобы позаботиться о семье. Я сопереживаю беднякам и тем, кто зарабатывает на жизнь изнурительным трудом. Я люблю Оскара за то, что он работает в порту и иногда приходит в мастерскую Микели с порезанными руками, грязными и рассеченными ногтями, иногда от него воняет рыбой, иногда он хромает или жалуется на боли в спине. Бедность Оскара сродни моему незавидному здоровью.
– Знаешь, Оскар, когда я вижу написанные тобой фрукты или натюрморты, мне кажется, что твои картины лучше реальности. Ты используешь более насыщенные цвета. Твои яблоки краснее, они кажутся блестящими и сияющими. Я бы с бо́льшим удовольствием съел твои яблоки, а не настоящие. Потому, Оскар, твоя живопись лучше той реальности, о которой говорит Микели.
– Спасибо.
Оскар смеется, ему весело со мной. Он тоже меня любит, он единственный, кто знает все о моих болезнях. Но он умеет хранить секреты. Я попросил его никому не рассказывать про туберкулез – и он держит рот на замке. Я знаю, что могу доверять ему.
Оскару достаточно одного взгляда, чтобы понять, что я чем-то недоволен или плохо себя чувствую. Когда я кашляю, он смотрит на меня встревоженно и спрашивает глазами, не нужна ли мне помощь.
Что я такого сделал, чтобы заслужить любовь друга, который на столько лет меня старше? Не знаю. Это большая удача, потому что эта дружба позволяет мне развиваться. Оскар разговаривает со мной как со взрослым. Я завидую его опыту, а он однажды признался, что завидует моим способностям к живописи.
– Ты только посмотри на нас: сидим на природе и рисуем никому не нужные деревья.
– Деревья сложно рисовать. Амедео, однажды тебе это пригодится. Микели говорит, что сначала ты изучаешь приемы, а потом используешь их по своему усмотрению.
– Сидим на солнце, как дураки. Посмотри на остальных.
Я указываю Оскару на наших коллег, сидящих на лужайке. Более удачливые расположились в тени деревьев, остальные покрыли голову платком.
– Дедо, ты должен быть терпеливым.
– Тут много говорят об импрессионистах и маккьяйоли, но в мире есть и другие художники. Мне интересно увидеть мир.
– Увидишь. Ты все увидишь, не торопись. У тебя нет терпения.
– У меня нет времени, Оскар. Это другое.
– Не говори чепухи, меня это раздражает.
– Это не чепуха. Ты единственный, кто знает обо мне все.
Оскар становится серьезным.
– Знаешь, сколько я видел больных чахоткой? Тем не менее они работают на рыбном рынке или в порту, может даже бок о бок со мной. Люди, которые горбатятся целыми днями. И они не умерли, работают себе. Не все умирают, понимаешь? Если ты будешь хорошо питаться, не будешь шататься допоздна и напиваться, а зимой будешь тепло одеваться, то сможешь довольно долго прожить.
– Оскар…
– Ну что Оскар? Я больше не желаю слышать, что у тебя нет времени. Ясно? Слушай, я выше и крупнее тебя, и если я дам тебе оплеуху, ты это надолго запомнишь.
Я киваю, но при этом я не слишком убежден.
– Оскар, а кому ты хочешь продавать свои картины?
– Кому угодно, лишь бы платили. Что за вопрос? Уж лучше рисовать, чем разгружать ящики в порту.
Он расхохотался. Боюсь, что Оскар не понял смысла моего вопроса.
– Ты их тут хочешь продавать? В Ливорно?
– А что, разве деньги жителей Ливорно пахнут по-другому?
– Значит, ты думаешь рисовать для людей?
– Ах, ты меня спрашиваешь, хочу ли я рисовать для продавцов картин?
– Или для художественных галерей, выставок.
– Я хочу рисовать ради удовлетворения тех, кто платит.
– Получается, и для того, чтобы буржуа повесили твои картины в своих гостиных?
– Конечно! У буржуа есть деньги.
Я подшучиваю над ним:
– В воскресенье на семейном обеде гости едят каччукко[2], и один из них замечает: «Какая прекрасная картина. Кто ее написал?»
Оскар подыгрывает мне, имитируя голос воображаемого богатого покупателя:
– Кто ее написал? Гилья, художник из Ливорно, очень талантливый. Если хотите, я вам его представлю. Вы зададите ему тему, и он выполнит работу, как вы пожелаете. А потом повесите картину у себя в гостиной.
– Какая тоска.
– Нет же! Какая красота! Подумай только, если обо мне пойдет молва, я смогу продавать картины в Виареджо, Кастильончелло, а может, даже и в Пизе.
– Ты мечтаешь добраться до Пизы – а я до других стран.
– А ты знаешь, что итальянское искусство – лучшее в мире? Если хочешь уехать, поезжай во Флоренцию. Ты был во Флоренции?
– Нет. Но Флоренция совсем близко.
– Когда решаешь уехать, нужно это делать постепенно. Если ты хочешь, чтобы тебя запомнили, нужно подготовиться. И не говори мне снова эту чепуху, что у тебя нет времени! Ты должен ждать столько, сколько потребуется. Однажды мы найдем продавца картин – и будем только и делать, что наблюдать, как растут наши дети.
– Оскар…
– Замолчи! Мы будем выставлять свои работы на выставках в известных галереях, наши фотографии появятся в журналах. Люди, глядя на нас, будут говорить: «Это Гилья, художник, а это Модильяни…»
Я обрываю его:
– Чахоточный.
Оскар резко поворачивается, хватает меня за шиворот и со всей силы толкает к дереву.
– А ну, прекрати! Ты понял?
– Оскар…
Он снова встряхивает меня и прижимает к шероховатой коре дерева. Кора царапает мне спину.
– Ты понял или нет?
– Да.
– Я больше не хочу слышать, что ты чахоточный. Даже в шутку. Жизнь – серьезная штука, не стоит отпускать глупые реплики. Знаешь, что я могу умереть раньше тебя? Если я упаду с подмостков на верфи или меня придавит грузом в порту, думаешь, будет разница? Откуда ты знаешь, что я проживу дольше тебя?
– Хорошо, я понял.
Оскар не отпускает меня.
– Мой отец умер молодым. Думаешь, он знал об этом заранее? Ты болен, но ты не знаешь, когда придет смерть. Так что перестань молоть ерунду и просто живи!
Оскар наконец отпускает меня и возвращается к своему мольберту под палящим солнцем. В этом его жестоком поведении я почувствовал ту же любовь, что проявляла мама возле моей кровати, когда я болел. Нет на свете двух других настолько разных людей – и все же они похожи в своем желании прекратить повторение моих навязчивых мыслей. Ласка моей матери и гнев Оскара – все это проявления любви, столь необходимой мне.
Семья
Когда я захожу домой, моя сестра Маргерита даже не здоровается со мной. Она бросает на меня презрительный взгляд и удаляется в гостиную. Я слышу, как она намеренно повышает голос, обращаясь к матери:
– Синьорино изволил вернуться.
Повисает пауза, тишину нарушает мамин вздох. Я слышу ее голос:
– Дедо.
Я захожу в гостиную и чувствую напряжение. Маргерита с суровым лицом стоит рядом с маминым креслом.
– Что такое?
Мама мне слегка улыбается, но тут же становится серьезной. Маргерита определенно еще больше раздражена.
– Что случилось?
Маргерите не терпится заговорить, но она уважительно молчит, ожидая маминых слов.
– Дедо, это правда, что говорят об Оскаре Гилья, с которым ты общаешься?
– Правда – что?
Маргерита возмущена: по ее мнению, мама начала слишком издалека, – и она решает вмешаться.
– Конечно, это правда. Думаешь, он тебе все расскажет?
– Оскар учится вместе со мной у маэстро Микели.
Маргерита уточняет:
– Он на восемь лет тебя старше.
– Да, и что с того?
Мама ходит вокруг да около.
– Дедо, когда ты решил бросить учебу в лицее ради живописи, мы нашли тебе лучшего преподавателя в Ливорно.
– Мама, Микели – единственный преподаватель в Ливорно.
– Вместо того чтобы ходить в школу со своими сверстниками и изучать латынь, ты получил эту свободу, но теперь ты ею злоупотребляешь.
– О чем ты говоришь?
Маргерита взрывается:
– Этот Оскар – мужчина, а ты – мальчишка, и не можешь делать то, что делают мужчины. Особенно если об этом узнаёт весь город.
Мама взглядом просит Маргериту успокоиться.
– Дедо, в твоем возрасте не посещают определенные места.
Она замолкает – и, кажется, она больше смущена, чем рассержена.
– Какие места?
Маргерита замечает колебание матери и переходит к делу:
– В твоем возрасте нельзя посещать бордель! Как минимум дважды ты заходил туда со своим дружком. Кроме того, ты курил! Тебя видели с сигаретой во рту.
– Вот именно, Дедо, – мама пытается вставить хоть слово, – учитывая твою болезнь, ты просто потерял рассудок.
Маргерита снова вмешивается.
– Кроме того, тебе не стыдно общаться с этим… этим…
Она уже произнесла слово «бордель» – и теперь хотела бы найти более вульгарное слово, но ее ежедневно практикуемая самоцензура явно мешает. В ее лексиконе нет ругательств, и уж тем более она никогда не произнесет сло́ва, хоть сколько-нибудь, пусть и очень отдаленно, связанного с половым актом. Моя сестра одинока, ее тело не знает ни радости, ни желаний. Ее никогда не видели с мужчинами. Все ее амбиции – быть «девушкой из хорошей семьи» и моралисткой.
– Общаться с этим… убогим.
Это самое сильное оскорбление в отношении Оскара.
– Убогий? Интересно ты судишь о людях. Может, ты забыла, что ты сестра представителя социалистов? И кто из нас двоих хуже? Я, потому что хожу в бордель, или ты, потому что называешь «убогим» работягу, который к тому же проявляет упорство в учебе? Могла бы найти более подходящее оскорбление для Оскара. Потаскун, бабник, кобель…
Маргерита оборачивается к матери:
– Мама, ты ничего не хочешь сказать?
Маме становится смешно, но она сдерживается. А я продолжаю цеплять Маргериту:
– Не можешь, верно? Твоя буржуазная мораль подавляет вульгарность. Разве не так? Оскар – бедный, и он готов браться за любую, даже самую тяжелую и грязную работу, только чтобы иметь возможность учиться и рисовать. Что плохого в том, что после этого он идет в бордель, чтобы немного расслабиться?
– Оскар пусть делает что угодно, но ты – не должен водить дружбу с тем, кто водит тебя к публичным женщинам.
– К проституткам, Маргерита. Мы их называем проститутками, или – шлюхами, потаскухами, путанами… Публичная женщина – это слишком приличное слово.
Маргерита собирается ответить, но мама прерывает нашу перебранку:
– Дедо! Послушай меня, пожалуйста. Ты знаешь, как опасна твоя болезнь…
– Мама, сейчас я прекрасно себя чувствую.
– Дедо, и все-таки не нужно подвергать свой организм испытаниям.
– У меня больные легкие, а не то, что ниже.
Маргерита в негодовании оборачивается к матери:
– Ты слышишь? Слышишь, как он разговаривает с матерью и сестрой?..
– Да, я был в борделе, и что?
Мама по-прежнему сохраняет доброжелательный тон:
– Дедо, тебе не следует курить. Это плохо для тебя, доктор ясно сказал об этом.
При этих словах моя сестра просто взрывается:
– Мама! Получается, что проблема в курении?
– Конечно: он болен.
– А как же позор на нашу семью из-за того, что этот мальчишка посещает дома терпимости? Это не в счет?
– Ты боишься, что из-за меня не найдешь мужа?
Эта фраза – словно пощечина для Маргериты.
– Что ты себе позволяешь? После всего того, что для тебя делается, ты не можешь так со мной разговаривать.
– Знаешь, публичные женщины, как ты их называешь, – очень приятные и человечные. Уверен, что ты их представляешь себе порочными. Это не так. Может, тебе самой сходить в бордель? Станешь менее черствой…
– Мама, ты должна вмешаться! Скажи ему!
– Дедо, как ты разговариваешь со своей сестрой?
– Все совсем не так, как вы себе это представляете. Если думать только о культуре, переводах и детях – настоящую жизнь не узнаешь.
Маргерите хочется выцарапать мне глаза.
– Значит, настоящую жизнь можно узнать в таких местах? Слова великого человека, который познал жизнь! Ты должен быть благодарен, что вообще жив. Многие умерли из-за подобных болезней.
– Спасибо, что напомнила, сестренка. Но, знаешь, есть много разных способов умереть. Один из них – не понимать мир. Ты думаешь, что проститутки хуже нас?
– Разумеется.
– А вот и нет. Они знают о мире гораздо больше тебя и способны разговаривать без криков и заносчивости.
– Конечно, крики они берегут для клиентов.
– По крайней мере, они не такие непреклонные, как ты.
Маргерита пытается дать мне пощечину, но я успеваю сделать шаг назад и увильнуть.
– То, что ты болен, не дает тебе право говорить все, что ты думаешь!
– Дедо, тут Маргерита права.
– Ты позоришь наш дом!
– Маргерита, не преувеличивай… – Мама пытается смягчить, но сестра продолжает:
– У тебя что, нет чувства стыда?
– Нет.
– Хватит ругаться! Разве нельзя разговаривать спокойно?
– С этим идиотом, у которого еще молоко на губах не обсохло?
Мама не слушает ее и терпеливо обращается ко мне:
– Дедо, ты должен пообещать, что больше не будешь курить.
Маргерита снова взрывается:
– Хорошо, я поняла: проблема в курении! Испорченная репутация не считается.
– Какая испорченная репутация?
– Тебя все видели! Ты даже не можешь вести себя осторожно.
– Ах, теперь проблема в осторожности? Делать, но чтоб никто не видел?
– Да, так тоже можно.
– Лицемерка! Все были в борделе. Кто там не был, тот ничего не знает о жизни.
– Ты пару раз спустил штаны – и уже знаешь, как устроен мир?
– Можно подумать, что ты знаешь, – выглядывая из-под маминой юбки и желая, чтоб все тебя называли синьориной.
Маргерита снова подходит ко мне, чтобы ударить. На этот раз она предвидит мой маневр, и я получаю по полной. В ответ я начинаю смеяться.
– Знаешь, синьоринами называют и проституток, а не только незамужних девушек.
Она впечатывает мне еще одну пощечину, но я даже не чувствую боли. Мама встает с кресла и вмешивается:
– Вы меня утомили. Я не хочу присутствовать при этих сценах, понятно? Дедо, мне неинтересно, что думают люди. Я знаю, что мужчины посещают эти места с той же легкостью, с которой идут в церковь или синагогу. По какой-то причине, которую я никогда не смогу понять, этих синьорин…
Я не даю ей закончить: это слишком заманчивый момент. Я поворачиваюсь к Маргерите:
– Видишь? Даже мама их называет синьоринами.
Маргерита не успевает ответить. Мама продолжает:
– Не знаю, почему их посещают, но они всех привлекают, и я не хочу знать, что они делают. Меня пугает, Дедо, что в таких местах можно заболеть. А неоправданных рисков необходимо избегать. И тебе не следует курить. У тебя слишком слабые легкие. Ты не такой, как твой друг. Некоторые вещи ты не можешь себе позволить. Уверена, что ты еще и пил.
– Нет.
– Не лги.
– Бокал вина.
– Тебе нельзя даже бокал вина, ты должен это понять. И я хочу кое-что сказать по поводу нравственности.
– Ну наконец-то! – Маргерита ликует.
– Я знаю, что в такие места ходят все мужчины, и не исключаю, что твой отец делает то же самое на Сардинии.
– Мама!
– Маргерита, не перебивай меня! Самое страшное – эти девушки добрые и любезные с клиентами, потому что обязаны такими быть. Проституток используют, и если б они могли, то не занимались бы этим. Ты слишком образованный, чтобы не замечать социальную несправедливость. Знаешь, что говорит Эмануэле? Что буржуа используют женщин пролетариата в том числе и для того, чтобы они раздвигали ноги.
– Женщине платят, как платят рабочему. Понимаешь? – Я не могу упустить шанс уколоть Маргериту.
– Все мужчины, которые посещают такие места, – невозмутимо продолжает мама, – делают вид, что этого не знают, а потом, за пределами борделя, презирают этих женщин, и чем больше их презирают – тем с большей легкостью их посещают. Никто не должен покупать тело. Я знаю, ты молодой и следуешь своим инстинктам. Сладострастие препятствует размышлениям, но сейчас самое время задуматься об этом. Тебе все понятно?
– Да, мама.
– Ты должен позаботиться о своем теле, оно у тебя одно и уже многое испытало. Пообещай, что будешь держаться подальше от таких мест.
– Обещаю.
Безмятежность
Пока я слушаю чужие разговоры, молоденькая Виви расстегивает мне ширинку. Я чувствую, как ее легкая, изящная рука плавно двигается и ласкает меня через трусы.
Я разглядываю ее зеленые глаза и ее белую кожу, которая кажется ненастоящей, лунной из-за бледности.
Она такая легкая, нежная, ласковая… Сложно поверить, что ее энтузиазм основан исключительно на строгих инструкциях хозяйки. Ее каштановые волосы спадают мне на плечо, выражение ее лица – мечтательное и романтичное. На ней кружевная комбинация цвета слоновой кости, она без бюстгальтера и без трусиков. Одна бретелька упала с плеча, обнажая безупречную грудь – чуть большего размера, чем можно было бы представить, исходя из ее худощавого телосложения.
Два прошлых раза я платил за Оскара, а сегодня решил заплатить он – и привел меня в особенный, очень элегантный бордель. Красный бархат, портьеры цвета охры, столы из ценных пород дерева, стулья с мягкими сиденьями, дорогие предметы интерьера… Тут есть даже небольшой бар, откуда девушки или мадам могут принести напитки. Неподалеку от меня Оскар что-то шепчет на ухо блондинке с голубыми глазами и менее романтичным выражением лица, чем у моей Виви.
Элегантный мужчина лет пятидесяти развлекает нас игрой на фортепиано. В его репертуаре – ноктюрны Шопена, «Лунная соната» Бетховена, прелюдии Рахманинова и Баха. Он настолько привык играть каждый вечер одно и то же, что может спокойно разговаривать с нами, пока играет.
– А ты точно достиг того возраста, чтобы находиться тут?
Оскар перестает шептать своей девушке на ухо и обращается к пианисту тоном, не допускающим возражений:
– Он со мной, я ручаюсь за него. Это мой кузен; он кажется юным, но это не так.
Тот улыбается и обращается к Виви:
– А ты что скажешь, Виви? Как он? Юнец?
Виви поднимает взгляд на пианиста, любезно и лукаво улыбается.
– Я бы так не сказала.
Оскар разражается смехом.
– Вот видите? Я же говорил.
Его блондинка говорит мне с ласковой улыбкой:
– Синьор Манфредо обязан осведомляться. Знаешь, он это со всеми делает, так что не обижайся.
– Я не обижаюсь.
– А вообще заметно, что у тебя озорной взгляд; ты точно не ребенок.
Виви меланхолично улыбается, шевеля рукой в моих штанах.
Манфредо смотрит на меня серьезно.
– Если придет проверка, это будет крайне нежелательно. Штрафы очень высокие. – Манфредо обращается к блондинке Оскара: – Верно, Болоньезе?
– Верно.
– Болоньезе? – задаю я Манфредо наивный вопрос.
– Это ее творческий псевдоним.
– Ах, а то я подумал, что вы называете ее по фамилии.
Блондинка заливается смехом на пару с Оскаром. Манфредо смотрит на меня с подозрением.
– Эй, парень, тебе точно есть восемнадцать?
– А что?
– «Болоньезе» называют тех, кто обладает высшим мастерством.
– Ах да! – Я притворяюсь, что понял.
Болоньезе приходит мне на помощь. Она смотрит мне прямо в глаза, открывает рот и начинает быстро вращать языком, имитируя причмокивание и засасывание. Теперь я действительно понял.
– Это мастерство родом из Болоньи, как и тортеллини[3].
Рядом с баром находится мадам Жюли, на вид ей около семидесяти. Она безучастно наблюдает за происходящим, поглядывает на часы с кукушкой, висящие на стене, и порой поторапливает гостей, приглашая подняться в комнаты.
В действительности же все знают, что это предвкушение, праздность, алкоголь, сигары и беседы – самая сладкая часть борделя, его суть. Я наслаждаюсь этим чудесным моментом, в то время как прекрасная Виви медленно и нежно ласкает меня между ног.
Мысль о ранней смерти побуждает меня отчаянно прожигать свою жизнь. Я жаден до всего, потому что боюсь, что мне не хватит времени насытиться вдоволь. Я хочу познавать, пробовать, экспериментировать. Это касается и живописи, и разных удовольствий. Я чувствую необходимость ускользнуть от смерти, пусть даже таким «безнравственным» способом. Бордель дает мне иллюзию, что я нахожусь в обществе ангелов, похожих на меня: падших, больных, слабых.
Я не знаю, действительно ли красавица Виви рада быть в моей компании. Возможно, ею просто движет инстинкт самосохранения. Мной же движет убеждение, что у меня нет времени. Наше отчаяние похоже.
Эти девушки – затворницы, им запрещено выходить за пределы борделя. Они живут вместе, разделяют обед, вместе спят и, может быть, даже вместе молятся.
В этот момент, глядя на клиентов и девушек, я не вижу ничего развратного. Никто из клиентов не торопится подняться в комнату и освободиться от своих жидкостей – они лишь хотят питать иллюзии, что есть молодая девушка, которой они нравятся.
Мужчина неподалеку курит сигару, наполняя пространство терпким и приятным ароматом. Ему около сорока, у него мягкие манеры, он очень элегантен. Его девушка массирует ему плечи. У него отсутствующее выражение лица, он больше сосредоточен на алкоголе и своей сигаре, чем на сексе, поэтому я представляю себе его печальную историю одиночества или несчастной любви. Он замечает, что я смотрю на него, и улыбается мне.
– Приятный аромат.
– У моей сигары?
– Да.
– Это обычная тосканская сигара.
– Хороша.
– Хороша против комаров, – говорит мадам Жюли с сарказмом.
Мужчина спокойно улыбается.
– Это выдержанный табак.
Мадам не упускает случая:
– Точно выдержанный… испорченный.
– Хочешь?
Его вопрос меня смущает.
– Не беспокойтесь.
Мужчина молча вытаскивает из кармана аккуратно отрезанную половину сигары и любезно протягивает ее мне:
– Возьми.
Первое, что я делаю инстинктивно, – нюхаю ее. Я чувствую запах соломы – насыщенный, горьковатый, смешанный с ароматом горького шоколада.
– Ее нужно курить спокойно, медленно. С вином или граппой.
– Спасибо.
– Не за что.
Все эти взаимные любезности раздражают мадам Жюли (у которой из французского, конечно же, только имя). С заметным венецианским акцентом она поторапливает нас:
– Господа, настало время действовать. Или вы хотите, чтоб ваш пыл остыл? Если вы пришли сюда посидеть в мужской компании, надо было идти в другое место.
Благородный мужчина, который подарил мне половину тосканской сигары, поднимается с дивана и любезно подает руку девушке, помогая ей дойти на каблуках в направлении лестницы. Как только девушка поворачивается, становятся видны ее маленькие крепкие ягодицы, которые я представлял себе более широкими и менее плотными.
Один из плюсов борделя – возможность оценить физические достоинства женщин. В обычной жизни скрытые под одеждой формы девушек выглядят обманчиво, и бывает непросто определить, какая в реальности у них фигура. Здесь же, в борделе, девушки подчеркивают свою наготу и не вводят в заблуждение. Истинное женское тело предстает перед моими глазами как есть, без обмана. Бордель очень демократичен. Нагота восстанавливает справедливость и истину и в живописи, если только ты не вынужден всю жизнь писать лодки, деревья и лошадей.
– Господа, давайте по комнатам, смелее.
Я лежу на кровати, одетый. Виви открывает ящик и показывает мне коробку с леденцами. Она смеется, как маленькая девочка, жадно снимает обертку и отправляет леденец в рот.
– Хочешь? Мне их прислала тетя из Флоренции.
– Спасибо.
– Со вкусом смородины.
Она приносит красный леденец, кладет его мне в рот и ложится рядом со мной. Мы вместе грызем леденцы – молча, оба с улыбкой на лице. Я ощущаю точно такой же запах изо рта Виви, как у меня под языком. Я пробую поцеловать ее, но она меня останавливает.
– Нет, я не могу.
– Что не можешь?
– Я не могу целоваться. Это запрещено. Можешь делать все, что хочешь, но никаких поцелуев.
– Почему?
– Потому что через поцелуй можно заразиться.
– Больше, чем через…
Я указываю вниз.
– Конечно, больше. К нам каждый месяц приходит врач, осматривает нас и всегда говорит, чтобы мы не целовались; это из-за туберкулеза.
Мое сердце начинает биться чаще.
– Многие болеют. Некоторые даже не знают об этом. Знаешь, достаточно немного слюны. Даже если совсем чуть-чуть.
Я чувствую себя разоблаченным, хотя Виви, конечно, не знает о том, что я болен.
– Знаешь, что это неизлечимо? – в ее голосе слышится искреннее сострадание к больным.
– Да, я что-то слышал…
– Это ужасная жизнь, часто они умирают молодыми… Тебе нравится леденец?
– Очень.
Повисает пауза, и Виви засовывает руку мне в штаны, как она уже делала это в гостиной. Затем она задает мне традиционный вопрос:
– Чего ты хочешь?
– Не знаю, а ты?
– Мне все равно. Что я могу для тебя сделать?
– А мы можем не решать это заранее? Давай делать то, что чувствуем, без необходимости решать.
– Хочешь сюрприз?
– Да, пожалуй.
– Еще леденец?
– Нет, если только потом.
– Некоторые потом курят.
– Леденец подойдет.
– Амедео, тебе ведь нет восемнадцати, верно?
Я не отвечаю; сердце снова бьется сильнее. Она смеется.
– Нет, тебе максимум шестнадцать. Но это неважно, мне тоже нет восемнадцати.
– Правда?
– Никто не должен этого знать. То есть клиенты не должны это знать. Мадам Жюли боится слежки.
– Понимаю. Ты из Флоренции?
– Да. Ты был во Флоренции?
– Пока нет.
– А чем ты занимаешься?
– Я художник.
– Если хочешь стать художником, тебе нужно увидеть все шедевры в Галерее Уффици.
– Я знаю; ты была там?
– Нет, некому было меня туда сводить. Отца я никогда не знала, а мама все время работала. Так ты решил, чего ты хочешь? Мне кажется, что ты готов. Даже очень готов…
Она смеется и сжимает руку, которой меня ласкает.
– Давай сначала немного поговорим.
– Знаешь, многие хотят просто поговорить. Неизвестно только, зачем они приходят сюда. Если хочешь просто поговорить, можно же поговорить с женой, правильно?
– Я не женат. И что они тебе говорят?
– Они жалуются – на работу, детей, женщин. Вы, мужчины, постоянно жалуетесь. Однако те, которые хотят поговорить, оставляют больше чаевых. В конечном счете это неплохо: работаешь меньше, зарабатываешь больше.
– Виви, ты самая красивая.
– Спасибо.
– Ты бы могла заниматься чем-то другим.
– Как моя мать? Выделывать шкуры, обрабатывать кожу и уродовать руки?
– У тебя мог бы быть жених.
– Господи, и ты о том же? Пара клиентов говорили мне, что хотят меня… как это называется? Спасти.
Она весело смеется.
– Они ненормальные. Ты посмотри – какое белье, кружево, вуаль, трусики с вышивкой…
– Виви, на тебе нет трусиков.
– Они в ящике, глупый. Меня тут кормят, поят, зимой я в тепле. Где еще есть столько удобств? И кроме прочего – врач, лекарства. Представляешь? Выйди я замуж за одного из клиентов, я рискую быть выкинутой на улицу, как только ему надоем. Я им не доверяю.
Я восхищаюсь трезвостью и практичностью Виви, ее осведомленностью в отношении человеческого рода и его несчастий. Она видит людей такими, какие они есть. Она разбирается в этом лучше меня.
Мы, мужчины, проигрываем женщинам в силе и смелости. Мы хотим, чтобы мама нам помогала и утешала нас, чтобы дочери и сестры нас понимали, невесты и жены любили и обожали, а любовницы возбуждали и удовлетворяли. У нас много коробочек, в каждой из которых спрятана частичка женского мира. Каждой коробочке должна соответствовать женщина, подходящая для текущей потребности.
Неужели я тоже стану таким? Боюсь, что да. В сущности, я всего лишь сын своего отца. Он приезжает к семье, только когда ему необходимо открыть коробочку с надписью «обязательства». Потому что это тоже потребность, одна из основных потребностей мужчины. Исполнение обязательств вызывает уважение у окружающих. Однако по приезде в Ливорно человек, который произвел меня на свет, становится невнимательным, как будто забывает, кто его семья. Он никогда не сидел у моего изголовья; разорившись, вместе с богатством он потерял и остатки простых человеческих чувств, эмоций и привязанностей. Я представляю его себе по беспощадному описанию моей матери: в борделе Сардинии с девушками, имен которых он не знает и для которых мизерная оплата важнее удовольствия. Нас отличает то, что я еще только пытаюсь понять, что такое секс, любовь, женское тело и женские мысли, – а для него, должно быть, любой бордель уже стал ближе, чем собственный дом.
Пока я погружаюсь в свои мысли, Виви постепенно перестает меня ласкать. Она задремала, и мое возбуждение утихло.
Я разглядываю ее – и осознаю, что она действительно очень красивая. Блеск ее кожи освещает комнату, ее грудь – пышная и подтянутая, соски – маленькие и торчащие. Я бы хотел ее нарисовать. Я восхищаюсь ею, но уже без сексуального возбуждения: его сменяет спокойствие, присущее безмятежности красоты. В этой отрешенности тело соединяется с душой, и Виви кажется мне неземной. Возможно, этой девушке предстоит сложная жизнь, полная невзгод, которым ей придется покориться. Но этот момент – волшебный и необычайный. Его стоит запечатлеть. Я понимаю, что́ мне хочется рисовать в будущем: неповторимые моменты отрешенности. Никаких больше натюрмортов, лодок и лошадей. Мужчина и женщина в минуты безмятежности. Только в такие моменты возможно осознать, кто мы. Безмятежность отрезвляет нас, позволяет нам что-то понять о нас самих – и принять это без досады и тревоги.
Утешение
Снова лихорадка. Снова кашель и боли.
Я харкал кровью.
Рецидивы болезни случаются внезапно и непредсказуемо. Впрочем, доктор сказал, что этот приступ пройдет быстрее, чем предыдущие, потому что он слабее.
Мои страдания осложняются плевритом, но температура не такая высокая, и ее легче сбить.
Мама снова надела маску спокойствия. Она уверенно улыбается и уделяет мне много внимания.
Ее путь – непокорность, сопротивление смирению, и с годами она не теряет запала. Если она перестанет быть для всех полезной и всем помогать, то начнет медленно умирать. Моя мать – живой пример тому, что святость достигается ежедневным трудом, а не обращением к Богу.
Ожидание скорой смерти в моем возрасте порождает ежедневную душевную боль. Слегка успокоить ее удается только с приходом сна. Как только наступает ночь, я ищу убежища в кровати с одной лишь надеждой – поспать.
К сожалению, у меня никогда не получается быстро уснуть. Я лежу под одеялом, читаю, думаю, но практически никогда не засыпаю сразу, как мне того хотелось бы. С недавнего времени мама готовит для меня настои трав в надежде преодолеть мою бессонницу, но мне хочется чего-то более сильного. Если бы мой сон не прерывался, мне было бы проще переносить дни.
Но и во сне иногда случаются приступы удушья, дыхание прерывается, и я просыпаюсь. Врач не связывает эти приступы с туберкулезом. Возможно, я просто боюсь умереть во сне.
Я тайком провел эксперимент – это сработало, – и теперь я довольно часто его повторяю. Перед сном я иду на кухню, наливаю себе бокал вина и выпиваю залпом. Это дарит недолгое успокоение. У меня немного кружится голова, когда я касаюсь подушки, – но если я выдерживаю, то сплю хорошо.
Не думаю, что мама одобрила бы мое поведение, если б узнала. Она говорит: чтобы вылечить туберкулез, нужно хорошо есть и избегать всего, что отнимает силы. Поэтому алкоголь запрещен, и будет лучше, если никто не узнает, что я тайком выпиваю, иначе вина мне больше не видать. Но я убежден, что туберкулезу наплевать на все эти предосторожности.
Мама поняла, что живопись может отвлечь от терзающих меня мыслей (хотя в то же время она знает, что живопись может и принести мне страдания, особенно если обнаружится, что у меня нет таланта).
– Дедо, мне нужно во Флоренцию – подписать контракт с моим издателем. Ты мог бы поехать со мной. Хочешь?
– Очень!
– Скажешь маэстро Микели, что тебя не будет несколько дней. Попроси у него совета, что посмотреть во Флоренции.
– Лодки и лошадей.
Мама улыбается, улавливает мой сарказм, но не отвечает.
– Я сам знаю, что посмотреть во Флоренции. Мне не нужно у него спрашивать.
Флоренция. 1901
– Синьора! Тот, кто снес часть городской стены, – просто сумасшедший.
В гостинице, где мы сняли комнату, портье изливает душу моей матери.
Оказывается, когда-то Флоренция была столицей Италии; я не знал об этом. Недолго, но была[4]. В те годы здесь затеяли масштабные работы по перепланировке[5] старого города: сносили целые кварталы, прокладывали новые улицы. Флорентинцы говорят, что раньше было лучше, – но, как известно, люди всегда предпочитают, чтобы ничего не менялось.
– Наш город был таким красивым!..
– Он и сейчас красивый.
– Флорентинцы так любили городские стены и Меркато Веккьо![6] Не было никакой необходимости перестраивать город, как это сделал Поджи.
– А кто это?
– Архитектор, точнее – «градостроитель», как он сам себя называет… Его все ненавидят.
– Я не могу оценить разницу между «до» и «после» этого Поджи. Но во Флоренцию приезжает много людей, и для владельцев гостиниц современный и обновленный город – это же хорошо?
– Нас и так много, а из-за туристов стало вообще не продохнуть! Знаете, сколько нас? Только флорентинцев – около пятидесяти тысяч. Плюс иностранцы, которые приезжают в отпуск, плюс те, кто сюда переехал насовсем из-за красоты города, и те, кто живет в окрестностях. Особенно много англичан, скоро тут будут одни англичане…
Мы не спеша прогуливаемся, наблюдая за жизнью флорентинцев, и не находим подтверждения словам портье в том, что видим вокруг: люди – мирные, трудолюбивые, спокойные. Рабочие в синей или коричневой спецодежде спешат на фабрики и стройки, мебельщики выставляют посреди улицы свои столы и шкафы для посуды. Мама говорит, что особенно славятся своим мастерством флорентийские портные и те, кто работает с кожей. В каждом квартале – свои ремесленники: например, ювелиры располагаются на Понте-Веккьо[7], а плотники – на виа Маджо.
Мужчины и женщины здесь интереснее и привлекательнее, чем в Ливорно. Дам сопровождают внимательные и деликатные спутники, открывающие перед ними двери и подающие руку с искренним уважением. Я озираюсь по сторонам – как провинциал, который всему изумляется.
– Мама, мне здесь все нравится!
– Ты еще ничего не видел, – смеется она. – А теперь пойдем есть десерт.
Мы идем в кафе Delle Colonne. Его так назвали, потому что богато украшенный потолок подпирают четыре пилястры. Здесь чудесная, полная жизни атмосфера.
И у меня еще ни разу не случился приступ кашля. Может быть, средство для излечения чахотки – это красота?
Я чувствую запах тосканских сигар – тот же аромат, что у сигары, которую мне подарил утонченный синьор в том роскошном борделе. Мне очень нравится этот запах – это все равно что курить шоколад.
Мне хочется курить. Но я не скажу об этом маме; я никогда никому не расскажу об этом.
Следующее кафе – Paszkowski[8], в стиле парижских и венских кофеен. Освещение масляными лампами и табачный дым создают теплую атмосферу с золотистым свечением. Здесь делают отменные десерты и мороженое с множеством вкусов. Я наедаюсь до отвала.
Мама постоянно смеется, ей весело; я очень давно не видел ее такой спокойной. Для нее важно, чтобы я съел как можно больше. Она считает, что туберкулез лечится едой. Я не очень-то верю в это, потому что, когда я переедаю, у меня вздувается живот – и мне тяжело дышать. Но мама настаивает, и если для ее счастья я должен есть – то буду есть, пока не лопну.
– Дедо, давай вернемся в гостиницу, я хочу спать. Твоя мама уже не девочка.
– Моя мама – настоящий генерал! Во сколько ты завтра встречаешься с издателем?
– Я могу прийти в любое время.
– Можно я погуляю, пока у тебя будет встреча?
– Если только в центре.
– Да, конечно, я буду в центре.
– А после обеда пойдем в Галерею Уффици – так что ты не должен быть уставшим, хорошо?
Слышу мамино тяжелое дыхание, она похрапывает. Я, как обычно, не могу заснуть. Кроме того, я переел и все еще возбужден тем, что увидел за день.
Я должен выпить. Если я не выпью, я не усну и буду фантазировать до самого утра. Не представляю, как это сделать. Дома все просто – я тихо проскальзываю на кухню, пью и возвращаюсь в постель. А тут что мне делать?
Я поднимаюсь, тихонько подхожу к двери, отпираю замок и медленно, бесшумно открываю дверь. Мама спит. Я выхожу из номера, спускаюсь по лестнице и подхожу к стойке. Там сидит портье, который нас заселял, и что-то пишет в регистрационном журнале. Он поднимает взгляд и замечает меня.
– Чем могу помочь?
– Я не могу уснуть.
– А твоя мама?
– Она спит, везет ей.
– А ты почему не спишь?
– Я объелся.
– Хочешь воды?
– Да, спасибо.
Портье поднимается, исчезает на пару секунд за шторкой и вновь появляется с бутылкой воды и стаканом.
– Вот.
У меня нет никакого желания пить воду, но я делаю над собой усилие.
– А вы не будете пить?
– Я? – Он улыбается и указывает на стоящий рядом с журналом, в котором он делает записи, стакан с янтарным напитком.
– Что это такое?
– Это французская вещь. Все, что произведено во Франции, – просто отличное. Это называется арманьяк.
– Похоже на имя мушкетера.
– Кого?
– Атос, Портос, Арамис и Арманьяк… Знаете «Трех мушкетеров»? Французский роман Александра Дюма.
– Ты шутишь?
– Нет. Первые три – это настоящие имена. И еще есть Д’Артаньян.
– О нем я слышал.
Я улыбаюсь и смотрю на его стакан.
– Арманьяк вкусный?
– Отличный, легко пьется, просто чудо.
Он делает глоток и испускает глубокий вздох.
– Крепкий?
– Да.
– Какой у него вкус?
– Вкус арманьяка. Вкус, который есть только у него.
– Можно мне понюхать?
Он протягивает мне стакан, я подношу его к носу и вдыхаю аромат. Это что-то похожее на смесь лакрицы, шоколада, табачного дыма, дерева и меда.
– Здорово…
– Когда вырастешь, тоже будешь пить арманьяк. – Он забирает стакан и отхлебывает еще, а я стою молча и не ухожу.
– Можно я останусь здесь? Составлю вам компанию.
– Мне нужно закончить работу. Много расчетов, а я не так уж хорошо справляюсь с цифрами.
– А я – да. Я могу вам помочь.
– Правда? Спасибо.
Он улыбается и дает мне взглянуть на тетрадь с расчетами.
– Доходы и расходы. Это отчетность для хозяина, она ему нужна завтра утром.
– Я могу сделать, если хотите.
– Нет, я не могу тебе это доверить… Если ты ошибешься, хозяин мне завтра глаза выцарапает.
– Давайте тогда я посчитаю, а вы проверите?
– Да, так, пожалуй, будет проще… Раз уж ты в этом понимаешь.
Я склоняюсь над тетрадью и протягиваю руку за стаканом воды, делаю глоток и ставлю стакан рядом с арманьяком.
– Давайте начнем с расходов. У вас есть карандаш?
Пока он отворачивается, чтобы взять карандаш, я притворяюсь, что тянусь за стаканом воды, в действительности же быстро хватаю арманьяк и делаю большой глоток. Спустя мгновение будто тысяча иголок впивается в меня. Я кашляю, внутри вспыхивает пожар. Я не ожидал ничего подобного.
– Ты водой поперхнулся?
– …Да.
– Я всегда говорил, что от воды нет пользы.
– Тогда… дайте мне арманьяк?
– Что?.. Об этом не может быть и речи.
Он передает мне карандаш. Я подсчитываю и записываю число в конце столбца.
– Готово.
– Уже сделал? Какой ты шустрый.
– Перейдем к другой колонке?
Мы с портье подружились – и вскоре стаканов с арманьяком уже два. Я обнаружил ошибки в предыдущих расчетах, и теперь он считает меня своим персональным героем.
Наконец мы заканчиваем подсчеты. Я выпил достаточное количество алкоголя и уже могу вернуться в комнату с надеждой уснуть, – но почему-то медлю, не ухожу и продолжаю слушать портье, который пьет и говорит без остановки. Он довольно пьян и погружен в себя, налил мне арманьяк три раза, даже не обращая внимания на это, – он как река, вышедшая из берегов.
– Завтра утром я буду гулять один в центре.
– А твоя мама?
– У нее встреча по работе.
– Только не ходи по ту сторону Арно. Не переходи через мосты. Если окажешься в квартале Сан-Фредиано, можешь попасть в беду.
– Сан-Фредиано?
– Да, это по соседству с большим кварталом Санто-Спирито. Его называют «темным» районом. Держись от него подальше. Мама тебе не говорила об этом?
– Нет. Это опасное место?
– Очень опасное. Это самый проклятый район Флоренции. Полон преступников, настоящий гадючник. Представляешь, даже полиция не может за ними уследить. О «темном» районе не надо было бы рассказывать приезжим, потому что у всех возникает непреодолимое желание отправиться туда. Особенно у англичан, которые убеждены, что их ничем не удивишь. В Сан-Фредиано идет война: с одной стороны спекулянты, которые хотят все снести и выгнать жителей, чтобы реконструировать квартал, а с другой – живущие там люди, которые обороняются от нападок собственников строительных компаний.
– Они против собственников? Значит, они социалисты, как мой брат.
– Командуют анархисты в черных рубашках и красных платках. Если там появятся социалисты, их прогонят дубинками.
– Но социалисты тоже против собственников.
– На словах. В этом районе недостаточно быть социалистом, нужно быть бунтарем. Пятая часть населения стоит на учете в полиции.
– А вы откуда всё это знаете?
– Я из этого района, я там родился и вырос. Знаешь, что они делают с такими, как ты? Избивают, забирают одежду, а если человек умирает – прячут тело. Полиция может вмешаться, только если отправит туда десятки агентов; если их будет слишком мало, их просто уничтожат.
Он подливает себе арманьяк и, не задумываясь, хочет наполнить и мой стакан.
– Нет, спасибо, мне достаточно.
Охваченный возбуждением, он продолжает рассказывать:
– Как только приближается полиция, сотни разъяренных вооруженных мужчин и женщин выходят на улицу, они блокируют улицы.
– А кто там живет?
– Воры и убийцы. Беспринципные люди, но хорошо организованные. Могут ускользнуть от любого надзора благодаря тайным переходам и убежищам.
Я смотрю на него, восхищенный и околдованный этой историей преступного мира.
– Все крыши соединены, и преступники их используют, чтобы скрыться.
– Вы сказали, что выросли там, но вы не похожи на жителя этого района…
– Я порядочный человек! Но я не всегда был таким. И кое-кто не должен меня там видеть, иначе мне перережут глотку. Я могу приходить только инкогнито.
– У вас там остались родственники?
– Только тетя; она колдунья.
Это слово еще больше возбуждает мою фантазию! Колдунья может многое, даже предсказывать будущее.
– Колдунья? Настоящая колдунья?
– Единственная во Флоренции, кто умеет предсказывать судьбу; она никогда не ошибается.
– И она – ваша тетя?..
– Тетя моего отца. Она очень старая.
– И она угадывает?
– Всегда. Дотрагивается до тебя – и уже все о тебе знает.
– Я хочу с ней встретиться.
Он лишь смеется в ответ:
– Твоя мама тебе не разрешит.
– Тогда я пойду с ней.
– С кем? С мамой?
Снова громкий смех.
– Нет, вы слишком добропорядочные, рискуете плохо кончить.
– Пойдемте вместе? Я и вы.
– Мы вдвоем? Нет, это опасно. Я тебе говорил, что ко мне там… неблагосклонны.
– Ваша тетя на самом деле предсказывает судьбу?
– Конечно.
– Я должен ее увидеть. Мне непременно нужно знать.
– Что знать? Ты еще сопляк.
– Я не сопляк!
– Ты мальчишка.
– Нет!
Я закричал – и он смотрит на меня ошеломленно.
Я чувствую нестерпимый жар в висках, спина и лоб покрываются потом, глаза наполняются слезами. Во взгляде портье появляется встревоженость.
– Тебе плохо?
– Да, мне плохо. Мне очень плохо. Вы не представляете себе насколько!
Я плачу и с трудом дышу, начинается кашель. Со мной происходит что-то непонятное, это меня пугает. Он пытается меня успокоить.
– Ничего страшного. Это из-за арманьяка, мне не нужно было тебе наливать, я болван. Если твоя мать узнает, она сделает все, чтоб меня уволили.
– Я плохо себя чувствую. Помогите!
– Не кричи, ты так всех разбудишь!
– Я боюсь.
– Ты не должен бояться. Ложись на диван.
Я кашляю и плачу, теряю равновесие, у меня кружится голова. Арманьяк дает другой эффект в отличие от вина, которое я пью дома. Одно дело – выпить бокал вина, чтобы уснуть, и другое – совершенно опьянеть. Я встаю, шатаюсь, хватаюсь за все, что мне попадается на пути, роняю стул. Портье подходит ко мне, поддерживает и сажает на диван рядом со стойкой.
– Ложись потихоньку.
Я падаю плашмя, чувствую, как меня швыряет вперед и назад. Все вокруг меня кружится, на меня падает стена, я кричу. Я закрываю глаза – но мне кажется, что я перемещаюсь по воздуху, я парю.
– Мне плохо! Все двигается.
– Нет, ничего не двигается, ты лежишь неподвижно. Сейчас все пройдет.
– Я боюсь.
– Подожди немного, потерпи.
– Я хочу к маме!
– Твоя мама спит. Тише.
– Разбудите ее! Я умираю.
– Бедная женщина, не надо ее будить. Ты просто немного пьян. Скоро все пройдет. Если ты сейчас успокоишься, завтра утром я отведу тебя к своей тете, договорились?
– Нет, это обман.
– Это правда. Только если ты никому не скажешь об этом.
– Я вам не верю! Я хочу к маме!
Я начинаю плакать навзрыд, безудержно.
– Давай без глупостей, если твоя мать узнает, что я тебя напоил, я потеряю работу.
– Я сейчас умру.
– Из-за арманьяка не умирают, поверь.
– Меня сейчас вырвет…
– Прямо сейчас?
– Меня сейчас вырвет…
– Подожди.
– Мне нужно это сделать немедленно…
Я чувствую позыв к рвоте и кашляю. Портье бежит за стойку, возвращается с металлическим ведром. Еще один рвотный позыв. Он подносит ведро.
– Я умираю…
– Нет, тебя просто вырвет.
С третьей попытки из меня выходят арманьяк, мороженое, обед и все остальное, что я съел за день.
– Вот так, молодец. Сейчас тебе станет лучше.
– Господи, мне плохо, я умираю…
Четвертый рвотный позыв оказался действительно освобождающим. Внезапно я ощутил легкость, без стеснения в груди. Я падаю на диван, обливаюсь потом, но чувствую себя лучше.
– А теперь будь умницей. Успокойся.
Если быть пьяным – это вот так, то я не понимаю, как люди могут добровольно доводить себя до такого состояния.
– Я хочу к маме.
– Нет, подожди.
– Я сказал, что хочу к маме!
– Завтра я тебя возьму с собой. Обещаю. А сейчас веди себя хорошо и успокойся. Договорились?
Я смотрю в одну точку на потолке; если я фиксирую взгляд, то стены перестают шевелиться. Лицо портье побагровело, его редкие волосы встали дыбом. Он разглядывает меня, как будто увидел покойника.
– Вот видишь? Видишь, что тебе стало лучше?
После этого все погружается во тьму.
– Дедо, Дедо…
Слышу мамин голос, который доносится словно из глубокой пещеры в моей голове.
Открываю глаза и вижу, что мама склонилась надо мной. Я все еще лежу на диване напротив стойки портье. Я накрыт шерстяным одеялом, под головой у меня подушка.
– Дедо, я проснулась и не увидела тебя… Я чуть не умерла от страха. Почему ты здесь?
Портье появляется за спиной мамы, он выглядит свежим и отдохнувшим, улыбается, как будто хорошо выспался.
– Мальчик хотел пить, я дал ему воды; он присел на диван – и уснул. Мне не хотелось его будить. Я накрыл его одеялом и положил ему подушку под голову. Я был здесь всю ночь рядом с ним, он спокойно спал. Как ты, парень?
Портье подмигивает мне, напоминая о нашем уговоре. Я потихоньку поднимаюсь и пытаюсь поставить ноги на пол.
– Все хорошо.
Я начинаю кашлять, мама садится рядом со мной.
– Ты кашлял ночью?
– Он кашлянул пару раз, а потом заснул.
– Вы должны были меня позвать, – мама обращается к портье твердым тоном. – Вы не должны себе позволять такие вольности.
– Да, синьора. Прошу прощения.
– Мама, он тут ни при чем.
– Я сейчас иду на встречу, а ты поднимайся в комнату и поспи еще.
– Но я уже проснулся! Я хотел погулять.
– Об этом не может быть и речи.
– Мама, я же не спать приехал во Флоренцию!
К счастью, мама находится не так близко – и не чувствует исходящий от меня запах алкоголя. Я ей ангельски улыбаюсь.
– Ну хорошо. Тогда увидимся здесь в полдень. И если пойдешь гулять, будь поблизости, ладно?
– Конечно! Я лишь немного прогуляюсь в центре.
Рассказы портье слишком сильно привлекли меня ночью – но теперь я об этом уже жалею.
Наконец-то он мне представился: его зовут Лоренцо, но для меня – просто Энцо. Чтобы сопроводить меня в «темный» район, он притворится мясником, который должен отнести пожилой синьоре завернутый в газету кусок мяса.
Он надвигает берет на глаза и поднимает воротник куртки. Во рту – частично выкуренная тосканская сигара, которая искривляет его лицо. Должен сказать, что я с трудом бы узнал в нем вчерашнего портье. Он напряжен, обеспокоен и опускает глаза всякий раз, встречаясь с кем-то взглядом. Что же он сделал такого ужасного, что так боится нападения? Теперь, когда мы оказались здесь, его страх передается и мне.
Это место по ту сторону Арно хуже любого рассказа и любой фантазии. «Темный» район – это клубок узких улочек, переполненных сомнительными типами. Тут отвратительно воняет протухшей рыбой и прочими отходами. Повсюду столы, лавки, расстеленные прямо на земле простыни, на которых выставлены различные бытовые предметы, ножи, канаты, рабочие инструменты; местами виднеется оружие – винтовка, штык, кастет. По всей видимости, торгуют украденным, и скупщики находятся начеку: их лица напряжены и осторожны, глаза контролируют каждое движение.
Меня переполняют физические ощущения: учащенно бьется сердце, выступает пот, дрожат руки. Хотя у меня и нет никакого желания принадлежать этому миру, я им очарован, как будто живу в приключенческом романе. Меня все привлекает, это ощущение мерзости и опасности лишь подстегивает мое любопытство.
Я бросаю взгляд внутрь одного из домов. Дверь открыта, я вижу обнаженного старика на кровати в компании двух очень молоденьких, тоже обнаженных, девушек. Эта мимолетная сцена отпечатывается у меня в голове; гнусное и отвратительное зрелище. Чуть дальше мужчина ругается с женщиной, за долю секунды появляется лезвие ножа… Я даже не успеваю понять, кто из них схватился за нож, как Лоренцо меня одергивает:
– Ты слишком много смотришь по сторонам. Ты слишком любопытен. Тут так нельзя.
Он поправляет куртку и проверяет, чтобы воротник был поднят как можно выше.
Двое полураздетых детей играют в луже. Женщина с красными губами подмигивает мне, улыбается и обнажает наполовину гнилые зубы. Рядом с ней стоит другая, помоложе, она поднимает широкую красную юбку, демонстрируя свои мощные ноги. Другие женщины, на редкость безобразные, продают себя у дверей своего дома и одновременно готовят еду. Мне показалось, что я увидел на столе зубчатый капкан, который используют для охоты на оленей и кабанов. По дороге катится несколько бочек под контролем подростков. Цирюльник стрижет волосы прямо посреди улицы. Повсюду безнадежные люди, воинственно настроенные, за гранью закона. Мужчина опустился на колени перед сидящей на стуле женщиной; он залез к ней под юбку и ритмично двигается; ее лицо выражает безразличие. Девушка сидит на корточках и мочится прямо на дороге. Собаки свободно бродят и едят остатки пищи, курицы и другие домашние животные роются в земле. Никто не обращает внимания на зловоние. Мужчина зашивает рану над глазом мальчика.
Я нахожусь в кругу ада.
Здесь у людей другие заботы и потребности. Страдания воспринимаются не так, как в нашей жизни.
Повсюду слышны приступы кашля и стоны, хоть и не видно, кто их издает. У меня ощущение, что тут я могу заразиться любой болезнью; здесь чахотка – это самая незначительная зараза, которую можно подхватить.
Группа мужчин разговаривает между собой. На них черные рубашки, на шее повязаны красные платки; они соответствуют описанию анархистов, о которых говорил Лоренцо.
– Не смотри на них.
Я отвожу взгляд – и замечаю, как мальчик вырывает из пасти собаки жирный кусок мяса, чтобы его съесть. Я с трудом сдерживаю рвотный позыв. Лоренцо бросает на меня укоряющий взгляд.
– Спокойно… Мы пришли.
Лоренцо сворачивает в переулок и подходит к двери с открытой створкой, занавешенной армейским одеялом. Мы заходим внутрь.
Дом небольшой; закопченная скудная деревянная мебель, кухня пропитана запахом фасоли и лука.
На стуле сидит уродливая, высохшая, улыбающаяся старуха. Я никогда не встречал настолько старого человека. На вид ей минимум сто лет, но у нее живой взгляд, и она абсолютно в своем уме. Лоренцо приветствует ее:
– Тетя, как вы?
– Хорошо. Я тебя ждала.
– Я принес вам мясо.
– Положи его в кастрюлю.
Лоренцо вынимает из газеты кусок мяса весом в пару килограммов и опускает его в большой котел, стоящий на огне. После этого он пытается представить меня тете.
– Я привел мальчика…
– Я вижу.
– Тетя, он хотел с вами познакомиться.
– Я знаю.
У старухи, похоже, нет проблем ни со зрением, ни со слухом, ни с пониманием. Она смотрит на меня и делает знак рукой, чтобы я подошел поближе. Я хочу уйти из этого места: тут ужасно воняет, мне сложно дышать из-за высокой влажности – исходящий от котла пар заполняет комнату. Старуха наводит на меня страх, несмотря на ее улыбку. Она безобразна.
– Я уродливая, да?
Она читает мои мысли. Мне не хватает смелости ответить: я не хочу показаться невежливым, но и врать тоже не могу, и не хочу признаваться, что я напуган. Она поворачивается к племяннику.
– Твой друг боится.
– Он не привык.
– Я не боюсь.
– Конечно, боишься; все боятся.
Отрицать бесполезно.
– Иди сюда. Садись.
Старуха указывает мне на табуретку, я присаживаюсь без возражений. Она протягивает свою тощую узловатую руку и берет мою.
– Люди больше боятся безобразного, чем красивого, правда?
Я уверен, что любой мой ответ будет неправильным, поэтому молчу. Она продолжает.
– Тем не менее красота не вечна. А вот уродство – да. Оно вечно. Ты не думал об этом?
Я смотрю на нее и не знаю, что ответить.
– Красивое – уродливо, а уродливое – красиво. Так даже поэт сказал[9].
Она разглядывает меня, сжимает мою руку – и я чувствую, как ее обломанные грязные ногти врезаются в мою кожу.
– То, что снаружи, не делает красивой или уродливой душу. Знаешь, что делает вещи красивыми или уродливыми?
– Нет.
– Воображение и слова. Достаточно сделать небольшое усилие – и уродливое становится красивым.
Она улыбается мне и ласково гладит мои волосы.
– Ты обрезанный.
Она произносит эту фразу так, как будто заметила что-то очевидное для всех, неопровержимое. Как если бы сказала: ты блондин, у тебя борода, ты низкорослый.
– Да. Откуда вы знаете?
– Я вижу людей обнаженными.
Она смеется – ее забавляет мое напуганное лицо.
– Не то чтобы они мне нравились обнаженными… Я их вижу без защиты. Все носят бесполезную одежду, которая их скрывает. Ты тоже.
– А вы правда видите будущее?
Она вдруг становится серьезной.
– Не позволяй жить той, которая практикует магию. Так написано.
Она заливается смехом, и я пугаюсь еще больше.
– Колдуны, ведьмы, гадалки. Они на всех наводили страх, не только на священников. Нас сжигали на костре, потому что мы заменяли Бога. Но это неправда. Проблема была в том, что мы заменяли их, священников. Вы, евреи, тоже им не уступали.
Я молча киваю в знак согласия.
– Ты так молод, но так обеспокоен. Не лучше ли просто жить?
– Я не знаю, могу ли…
Она меня прерывает.
– Жить? О, конечно же, можешь. Ты не знаешь, сколько проживешь. Но никто этого не знает. Ты ничем не отличаешься от других.
– Я…
– Да, я знаю. Знаю.
Что она обо мне знает? Она не дала мне даже сказать.
– Я тоже могу умереть, но я сижу здесь и разговариваю с тобой.
– Это не одно и то же.
– Потому что ты молодой, а я старая?
У меня не хватает смелости ответить «да».
– У меня стоит кипящая кастрюля на огне. Что это означает?
– Что вы голодны?
– Нет. Это значит, что я буду есть. В будущем. У меня запланирован ужин. У тебя есть планы на ужин?
– Не знаю.
– Я могу умереть, но я не думаю об этом.
– Вы не больны.
– Нож убийцы тоже может стать болезнью. Я знаю, что умру, – но я готовлю ужин.
– Я еще молодой и…
Старухе не нужно слышать фразу целиком, она с двух слов понимает, что я хочу сказать.
Она поднимает глаза на племянника и улыбается ему. Я понимаю, что этот полный нежности взгляд относится не к Лоренцо, а ко мне. Как если бы она хотела сказать, что я ей нравлюсь и вызываю симпатию.
– Моя дверь всегда открыта. Видишь?
Она указывает мне на вход, занавешенный одеялом.
– В этом и состоит секрет. А твоя дверь – открыта?
Очевидно, что теперь она говорит о символической двери. Я поражен ее манерой речи. Если бы она не погрязла в этой вони и нищете, если бы не была такой старой, костлявой и безобразной, одетой в лохмотья, то могла бы показаться начитанным ученым человеком.
– В эту дверь может зайти любой, даже смерть.
Чувствую, как ее рука все крепче сжимает мою, ее острые неровные ногти впиваются мне в ладонь.
– Ты должен ожидать неожиданного. Хорошо смотри по сторонам. Секреты спрятаны. Если ты не веришь, то не найдешь их.
– Но я…
Она меня прерывает:
– Ты хочешь знать, что тебе делать с твоими страхами. В этом твой вопрос.
– Да.
– Ты умрешь. Как и все.
– Когда?
– «Когда» – это просто слово.
– Сколько у меня времени?
– Это зависит от того, чем ты наполнишь время. «Сейчас» – это настоящее, «когда» – в том числе и бесконечность.
– Простите, но я не понимаю.
– Ты не создан для «когда». Ты создан для «навсегда». Не всем дана такая удача.
– Но вы сказали, что я умру. И когда именно – это все меняет.
– Ты меня не слушаешь… Часть тебя никогда не умрет.
– Я болен.
– Мы все больны. Однако ты – будешь жить вечно. Магия и красота заключены в тебе. Довольствуйся этим.
Старуха улыбается, обнажая верхнюю десну, полностью лишенную зубов за исключением двух потемневших обломков. Она молчит, хотя я ожидаю каких-то важных слов, – но она их не произносит. Мы молча смотрим друг на друга. Она продолжает крепко сжимать мою руку без намека ее отпустить – поэтому я предполагаю, что она хочет сказать что-то еще. Лоренцо робко пытается поторопить ее.
– Тетя…
– Помолчи.
Старуха пристально смотрит на меня, она как будто читает по глазам.
– Пользуйся легкостью. Вес легкости приводит к глубине. Почему ты хочешь быть тяжелым? Моя жизнь ничего не стоит, а твоя стоит такого богатства, которого мир еще не изобрел. К сожалению, это не то богатство, которого ты жаждешь. Ты хочешь другого. Легкость приводит к глубине – и ты должен идти туда.
– Но я не знаю, хватит ли мне времени.
– Я тебе уже ответила. Ты умрешь, как и все, и, как все, не узнаешь, когда именно. Наполни свое время так, чтобы оно стало «вечным». Это и есть твой способ не умереть.
Наконец она замолкает, оставив меня с ощущением неудовлетворенности и разочарования. Все ее слова путают и не дают мне никакой надежды. Хотя все, что она сказала, и имеет смысл, – но разговор только символами не дает мне настоящей уверенности. Этот язык слишком непонятный, слишком сложный для толкования, и я сам должен быть прорицателем, чтобы понять его тайный смысл.
Старуха внезапно отпускает мою руку, она выглядит оскорбленной.
– Я тебя разочаровала, верно? Ты хотел узнать дату, которую напишут на твоей могиле. Разочарование – это то, что многие испытают из-за тебя. Разочаровывать других станет для тебя единственным способом не предавать собственные идеи. Ты будешь причинять боль, чтобы оставаться собой. Теперь уходи!
Она впервые говорит с презрением, как будто желая показать мне, что только потеряла со мной время.
– Забирай своего друга и больше никогда не приводи его сюда.
– Да, тетя.
Лоренцо берет меня под руку и тянет к двери.
– Спасибо за мясо.
– Не за что, тетя.
Лоренцо опускает берет на глаза, поднимает воротник куртки и тащит меня за занавеску, в тот же ад, что и прежде.
Мой путь
– Дедо, почему ты молчишь?
– А что мне сказать?
– Ты побывал в Галерее Уффици, ты этого очень хотел. И ничего не сказал об этом. Ты уже два дня молчишь. Я жду какой-то знак, слово, фразу. Ты грустишь из-за того, что мы вернулись в Ливорно?
– Нет.
– Скажи мне хоть что-нибудь!
– Спасибо.
– Нет, я не это хочу от тебя услышать. Ты не должен благодарить свою мать.
Я смотрю на нее и чувствую, как внутри меня растет бесконечная грусть, – потому что от мамы я получаю намного больше, чем сам могу ей дать.
Но я в замешательстве. Я не могу объяснить маме то, что совершенно непонятно мне самому.
– Мама, ты не сможешь это понять. Я и сам не понимаю. Ты разве сама не видела?
– Что?
– Уффици. Вся эта красота заставляет меня чувствовать себя бесполезным.
Красоту нельзя объяснить, ее нужно видеть, вот и все.
Моя проблема – это несостоятельность и чувство неполноценности; эти страдания добавляются к уже существующим.
– Чтобы превратить кого-то в ничтожество, достаточно дать ему ощутить ценность других.
– Ах, я поняла, – мама улыбается. – Но ты еще ребенок, тебе нужно подождать.
– Конечно, подождать! У меня же вся жизнь впереди, правда?
Я повысил голос – и тут же пожалел об этом. Несправедливо быть нетерпимым с ней, но меня переполняет злость.
– Не разговаривай со мной так, пожалуйста.
– Мама, сколько нужно времени, чтобы вырасти? Сколько мне еще ждать? У меня нет времени.
– Ты ранишь меня каждый раз, когда это повторяешь. Несчастья, болезни и страдания позволяют вырасти быстрее – но они не превращают тебя по волшебству во взрослого человека и тем более в художника. Ты должен получить опыт, учиться, жить.
– Жить? И сколько?
– Столько, сколько потребуется; у тебя нет выбора.
– Видишь? Бесполезно разговаривать.
Я разворачиваюсь, ухожу в свою комнату и бросаюсь на кровать. Мама изменилась в лице: ее черты потеряли мягкость, она стоит на пороге моей комнаты и смотрит на меня с раздражением.
– Ты не имеешь права игнорировать меня, исключать меня из своей жизни, и не тебе решать, когда «полезно» разговаривать, а когда нет.
– Прости.
– Ты хочешь вызвать сострадание, и я тебя понимаю. Никто не поймет лучше меня, поскольку я была рядом каждую секунду твоей болезни. Так что не надо со мной так обращаться. А теперь скажи: почему красота заставляет тебя страдать?
– Я же тебе объяснил: потому что я никогда не смогу создать подобные творения.
– Ты должен дать себе время и уметь ждать.
– Время?..
Мама прерывает меня, повышая голос:
– Помолчи! Пока ты жив, смерти не существует. Ответь лучше мне на вопрос: почему искусство прекрасно?
Ее вопрос застал меня врасплох.
– Прости, но какое сейчас это имеет значение?
– Ты хочешь стать художником, так? Вот и скажи мне, почему искусство прекрасно.
Я не нахожу, что ответить, но она настаивает:
– Так почему?
Почему такой простой вопрос приводит меня в замешательство? Может, потому что мне его задала мама, человек, которого я больше всех уважаю, – а из-за моего поверхностного ответа она может посчитать меня несостоятельным еще до начала моего пути? Мне нужно подумать, сконцентрироваться, но она смотрит на меня с нетерпением.
– Искусство прекрасно, потому что вызывает эмоции.
Она продолжает наблюдать за мной и тоже размышляет. Затем парирует:
– Не только искусство вызывает эмоции – еще любовь, страх, человеческие отношения, дружба. Негативные чувства тоже вызывают эмоции: несправедливость, ненависть, обида.
– Я идиот! Это же так очевидно, эмоции – это слишком обобщенно.
Я не знаю, что еще придумать. Вдруг меня осенило.
– Искусство улучшает жизнь, потому что красота делает нас спокойнее.
Мама не торопясь обдумывает мои слова. Сейчас она, наверное, возразит, что из-за восторга перед красотой мы рискуем забыть о настоящей жизни, о борьбе за выживание, о труде, страданиях, сложностях.
– Ты прав. Мы нуждаемся в прекрасном, потому что мы угнетены проблемами, которые нас огорчают. Поэтому красота важна.
Ну надо же! Я сказал нечто здравомыслящее, и ей понравилось.
– Продолжай. Почему еще искусство прекрасно?
Она никогда не бывает удовлетворена. Это профессиональное: как преподаватель, она привыкла непрерывно задавать вопросы и требовать, чтобы люди выходили за рамки своих рассуждений.
– Искусство и красота принадлежат всем – и таким образом делают нас менее одинокими, потому что мы разделяем их с другими.
– Правильно.
– Когда мы смотрим на картину или скульптуру, мы знаем, что ими восхищались люди во все времена. Это и есть красота: умение разговаривать с разными поколениями вне времени.
Она удовлетворенно улыбается.
– Молодец. Продолжай.
– Произведения искусства говорят и о негативных чувствах: страданиях, тоске, отчаянии, которые испытывают люди во всем мире. Соответственно, искусство рассказывает нам, что боль – это нормально, она есть у всех и была во все времена.
Повисает долгое молчание. Я замечаю, как блестят ее глаза.
Она растрогана и пытается сдержать слезы.
– Мама, что случилось?
Она слегка качает головой, пытаясь скрыть волнение.
– Ты прав, Дедо, так и есть.
– То же самое происходит и в романах. Нам рассказывают истории, которые не являются нашими, – но похожи на наши.
– Молодец, Дедо! Видишь? Тебе просто нужно было время на размышление. На мой взгляд, искусство показывает нам нечто, что похоже на жизнь, но лучше жизни.
– Уж моей точно.
– Ты снова начинаешь? Твоя жизнь правда настолько плоха?
– Она ужасна.
– Если бы ты завтра выздоровел, ты был бы доволен?
– Конечно!
– Значит, это не жизнь плохая. А болезнь. Не нужно путать эти вещи.
Мне нечего возразить.
– Скажи мне, Дедо, что важнее: искусство или здоровье?
– Я думаю… здоровье.
– Конечно, без здоровья, лежа больным в кровати, невозможно создавать искусство. И есть люди, для которых искусство не является необходимым, – а здоровье необходимо всем. Ты бы умер без искусства?
– Думаю, что умерла бы часть меня.
– Ты несколько раз был на волоске от смерти – в те моменты зачем тебе нужно было искусство? Оно помогало тебе преодолеть температуру? Кашель? Боли?
– Нет.
– Значит, искусство не необходимо, чтобы выжить.
– Верно.
– Дедо, послушай меня. Настал момент, когда мы должны спуститься с небес на землю. Я поговорила с моим братом…
– С дядей Амедео?
– Да, я попросила его о помощи. Молчи! Я уже знаю, что ты скажешь.
– Опять? Ты снова попросила денег?
– Не напрямую… В этом не было необходимости. Он души в тебе не чает, очень тебя любит.
– Уж точно больше, чем мой отец.
– Твой отец практически все потерял, у него сложный период.
– Сложный? Сложнее моего? Он разрушил твою жизнь!
– Это неправда, у меня четверо детей, которых я люблю.
– А его? Его ты любила? А он тебя – любил?
– Твой отец – мужчина старых взглядов.
– И какие они, мужчины старых взглядов? Безразличные к женам и детям? Сколько дней вы провели вместе? За всю жизнь. Ты когда-нибудь считала? Ты замужем за посторонним человеком.
– Ты думаешь, если будешь это повторять, что-то изменится?
– Ты просишь помощи у моего дяди, в то время как мой отец даже не знает, жив я или умер.
– Важен результат.
– Он не мой отец!
– Он мой брат! У нас искренние отношения. Твой брат Эмануэле стал адвокатом благодаря его помощи.
– И Умберто получил инженерное образование на деньги дяди Амедео, который все время заменял отсутствующего главу семьи. Тебе нужно было выйти замуж за своего брата, то есть за настоящего мужчину!
– Перестань! Все, что ты говоришь о своем отце, больше не ранит меня. Я выше этого. Я думаю только о твоем будущем.
– И мое будущее связано с деньгами дяди Амедео?
– Да.
– Практичность моей семьи просто потрясающая. Мы притворяемся, что у нас богатая семья, благодаря дяде Амедео. Лицемерие подходит моим братьям, но не мне. Я не возьму эти деньги.
– У дяди достаточно денег.
– Повезло ему.
– Я сказала ему, что мне нужны деньги на путешествие.
А вот и цель, замысел моей матери.
– Какое путешествие?
– Мы на какое-то время уедем из Ливорно. Я хочу показать тебе Неаполь, Капри, Амальфи, Помпеи, Рим. Ты погреешься на солнце, тебе нужно хорошо питаться, отдыхать и наслаждаться прекрасным.
– На дядины деньги? Чудесно. Братьям он оплатил университет, а мне – каникулы.
Моя мать прикладывает нечеловеческие усилия, чтобы сохранить спокойствие.
– Это не каникулы, это инвестиции в твое здоровье и образование.
– Остается только надеяться, что его дела будут идти хорошо и он продолжит выигрывать в азартные игры.
Она сейчас взорвется. Я это чувствую. Еще совсем немного.
– Почему ты такой злой?
– Он не раз выигрывал и проигрывал целые состояния, сейчас, очевидно, выигрывает. Будем надеяться, что это продлится.
– Ты не можешь ему простить его единственную слабость?
Нет, мама, – я не могу не язвить, когда речь идет о дурных привычках моих родственников.
– Мама, азартные игры – это слабость аристократии. У тебя сын – социалист, который борется за права рабочих. Ах, прости, я забыл, что дядя Амедео внес свой вклад в это дело, он же оплатил обучение Эмануэле.
– Это его деньги, он их заработал честным трудом.
– Нам должны были помочь деньги моего отца.
– Твой отец не может нам помочь, смирись с этим.
Эта фраза означает окончание дискуссии. Я понимаю, что возмущаться бесполезно. Моя мать уже все решила.
– Искусство – это твой путь?
– Да.
– Тогда остальное не в счет.
Вожделение
Маэстро Микели, мой хозяин, называет его «сверхчеловеком». Я точно не знаю почему, но это не комплимент, это своего рода насмешка. Я не понимаю – и молчу, потому что я просто служанка, девушка, которая должна работать и не задавать вопросов.
Я лишь знаю, что это из-за написанного в книге, которую синьорино Дедо читает и перечитывает, философский труд. Я в этом не разбираюсь; и даже не знаю, что такое философия, но я слышала, что это что-то немецкое или вроде того. У автора сложное имя, которое читается одним образом, а пишется по-другому. Я даже не могу его повторить. Но этот немец, должно быть, очень нравится синьорино, потому что тот много об этом рассуждает.
Хозяин Микели говорит, что «сверхчеловек» не существует – есть только обычный человек и еще есть художник.
Но синьорино Дедо на самом деле не чувствует себя «сверхчеловеком», он хочет им стать в будущем; он говорит, что все мужчины должны стать «сверхмужчинами». Но когда он это говорит, остальные смеются. Никто не воспринимает его всерьез. Микели говорит Дедо, что в его возрасте мальчик даже еще не мужчина, не говоря уже о сверхмужчине.
Я задаюсь вопросом: а как же женщины? Неужели нет «сверхженщины»? Все время говорят только о мужчинах и никогда о нас, женщинах. Однако я об этом только думала, но не говорила вслух, потому что мне стыдно.
По сравнению с синьорино Дедо я просто никто: он учился, знает несколько языков, его мама – учительница, а брат – политик. О семье Модильяни много говорят в Ливорно. Не всегда хорошо, особенно об отце. Говорят, что отец был богатым, а потом разорился. О матери говорят много хорошего.
Амедео Модильяни – красивое имя. Оно звучит как музыка, похоже на название улицы или площади, на имя известного человека, на имя художника.
Я интуитивно называю его синьорино, а не Амедео, несмотря на то, что мы с ним одного возраста. Дело в том, что я простая служанка. То ли он слишком красив, то ли он по-особенному двигается и наблюдает за мной, – так или нет, но проблема в том, что я прихожу в замешательство и краснею от одного его взгляда… А он часто смотрит на меня – и улыбается.
С некоторых пор мужчины стали заглядываться на меня. У меня светлая кожа молочного оттенка, черные волосы, и все мои прелести при мне. После того как я подросла на десять сантиметров и у меня округлились бедра и грудь, мужчины как будто сговорились: внезапно все стали меня замечать.
Мне же нет дела до других. Такие, как я, всегда мечтают встретить принца.
…Друзья в шутку называют его «принципино», маленьким принцем. Маленький принц – и сверхчеловек.
Разве плохо в моем возрасте мечтать о принце?..
А он действительно красив. Из всех парней, что учатся у Микели, он самый привлекательный.
Я говорю себе: он красив, но и я недурна. Пока о моей красоте говорит только моя мама, я не сильно в это верю. Если же мужчины всячески дают мне это понять, это становится более убедительным. Они подходят ко мне, спрашивают, как дела, могут ли предложить мне выпить, нужны ли мне деньги.
Раньше я была просто служанкой, сродни бутылке воды или кофейнику, из которых утоляли жажду. Я обслуживала других – и только. Теперь я начинаю понимать, что моя красота меняет поведение мужчин. Но я должна привыкнуть, что нравлюсь мужчинам, потому что иногда я не знаю, как себя вести.
У меня есть еще одно важное преимущество – молодость; она длится недолго, но сейчас она у меня есть, и я крепко за нее держусь, потому что это дополнительное богатство. Как-то один мужчина сказал мне, что женщины должны делать все, чтобы оставаться молодыми. Я согласилась, что это отличная идея, но для таких, как я, – кто поднимается с петухами и работает без отдыха до тех пор, пока не приходит время ложиться спать, – это не так легко. Тот мужчина сказал, что секрет, помогающий оставаться молодыми, – это испытывать удовольствие как можно чаще.
Я хорошо знаю, что это означает, особенно когда это говорит мужчина. Испытывать удовольствие для мужчин имеет единственное значение, и практически всегда это удовольствие – для них.
У Амедео есть друг, Гилья, который на восемь лет его старше, и он уже мужчина. Эти двое очень привязаны друг к другу. Гилья тоже на меня смотрит, и понятно, что у него страсть к женщинам. Но он мне неинтересен. Он совсем не принц.
Синьорино Дедо всегда опрятен и хорошо одет. Я все думаю: если ты собираешься рисовать и можешь испачкаться краской – не одевайся так элегантно, ты же можешь оставить пятна на своих прекрасных пиджаках. Но, может, именно так и должны поступать принцы – быть лучше других даже со следами краски на одежде.
Когда он за мной наблюдает, меня бросает в жар; мне кажется, что я краснею, и мне становится стыдно. Я боюсь, что все это заметят, и хозяин Микели тоже. У него всегда строгое лицо, когда я приближаюсь к его ученикам. Он боится, что у них возникнут странные мысли в отношении меня. Если он заметит, что синьорино Дедо мне симпатичен, это его может разозлить. Я не могу потерять работу.
Мы, девушки, когда видим того, кто нам нравится, воображаем что-то прекрасное и рассуждаем так, как не подобает. Я знаю, что в моем возрасте нами движут сильные ощущения тела, от которых голова перестает соображать. Меня пугает этот пыл, который я чувствую; он похож на болезнь, когда поднимается температура. Но то, что происходит после, еще хуже, и мне еще больше становится стыдно. Я ощущаю, как что-то шевелится у меня между ног. Как будто у меня там улитка. Я чувствую, как мои трусики намокают. Это происходит каждый раз, когда синьорино Дедо на меня смотрит. Как трусики могут намокать от одного взгляда?..
Я спросила у своей подруги, что она об этом думает. Она ответила, что это нормально, некоторые мужчины оказывают такое влияние, достаточно одного взгляда. Но это не они такие особенные, это мы их воспринимаем особенными. Это все очень сложно. Она говорит, что это все в нашей голове и что с ней это случается постоянно, когда ее жених рядом. Говорит, что это здоровое и нормальное явление, и когда такое происходит – значит, это «твой» мужчина. Она говорит, что мне стоит заняться с ним любовью: так я наконец пойму, что происходит между мужчинами и женщинами.
Хоть я и глупая, но немного знаю об этом. Когда занимаются любовью, женщина беременеет, а мужчина ее бросает и говорит, что это не его ребенок. Я не хочу, чтобы со мной случилось нечто подобное, моя мать меня убьет.
Но подруга говорит, что не так просто сразу забеременеть и что некоторые мужчины нежные и деликатные и вовсе не хотят детей. Еще она говорит, что существуют некоторые способы, чтобы не забеременеть, и обычно мужчина знает, что делать.
Он меня смешит. Я имею в виду – синьорино Амедео. По его выражению лица всегда можно понять, что он думает.
Маэстро Микели заставляет своих учеников писать сельские пейзажи, и Амедео злится, потому что он ненавидит пейзажи. Всякий раз, когда я приношу в поле свежую воду с лимоном для маэстро и его учеников, слышу комментарии и ругательства, которые отпускает принципино, и такие слова не совсем подходят будущему принцу.
На днях он громко жаловался:
– Мне приходится писать деревья! Когда уже написано десять, сто деревьев – что еще можно понять о дереве?
Все засмеялись. А Гилья при всех подшучивал над ним:
– Дедо, бери пример с Караваджо, который писал зад лошади как никто другой на свете. После деревьев займись лошадьми. А еще лучше ослами.
Амедео посмотрел на меня – и, улыбаясь, сказал нечто, от чего я покраснела.
– Если бы на месте дерева была натурщица, это было б куда полезнее для моего обучения. И для вашего тоже.
Все обернулись ко мне, как будто знали, о ком он говорил. Я сделала вид, что ничего не поняла, и налила всем воды с лимоном. Гилья, как самый бойкий, продолжил шутить:
– Если б не свежая вода с лимоном, у нас тут была бы сельская жизнь, верно, Дедо?
– К счастью, здесь самая симпатичная девушка Ливорно помогает утолить нам жажду.
«Самая симпатичная девушка Ливорно» – мне никто так не говорил.
Когда я наливала воду в его стакан, наши руки соприкоснулись – и я почувствовала, как по телу пробежали мурашки и растеклось тепло. У меня закружилась голова, я покрылась потом, все потемнело перед глазами, и ноги подкосились. Я едва не упала в обморок, как богатые впечатлительные особы. Дедо, как настоящий принц, заметил это – он быстро встал, взял меня за талию и аккуратно опустил на землю, в тень. Он и остальные парни стали обмахивать меня пиджаками. Затем он протер мне лицо свежей водой. Он сидел со мной, держал меня за руку и ждал, пока я приду в себя. Это было так романтично…
Когда пришел хозяин Микели, он рассердился. Ему совершенно не понравилась эта ситуация, особенно то положение, в котором мы находились: я лежу в тени как на отдыхе, моя голова – на коленях синьорино Дедо, он держит меня за руку, а остальные обмахивают меня. Чрезмерная близость, излишняя дружба и слишком много молодых парней вокруг единственной девушки. Я была практически без сознания, а он смотрел на меня и на синьорино Дедо крайне неодобрительно.
Я поняла, что после определенного возраста люди боятся молодых. Похоже, что если ты молод, то не можешь находиться с кем-то рядом, иначе это воспринимается, словно сейчас вспыхнет пожар, который никто не сможет потушить. Может быть, нам следует дождаться старости, чтобы быть вместе? Но мы же не сыр, который выдерживают, чтобы он стал лучше. Мы уже созрели.
Мне надоели эти взрослые, которые всего боятся и говорят, что мир недоброжелателен. Они надеются, что, если будут это повторять, мы тоже станем полагать, будто мир плохой, и, в конце концов, он уже никогда не станет хорошим.
В действительности же Микели, если бы мог, делал бы со мной то же, что хочет делать синьорино Дедо. Но я не хочу старого, я хочу принца, молодого и красивого, как я.
Нина
Нина. Нина. Нина.
Имя, которое постепенно стало мифологическим в классе, где изучают живопись.
Я не знаю ее настоящего имени. Я даже не хочу его знать, потому что нельзя менять имя мифологическим персонажам. Нина может происходить от Антония, Антонина, Джованнина, Аннина – или же быть вымышленным искаженным уменьшительным именем, созвучным или рифмующимся с Анджелина, Антонеллина, Винченцина. Ее настоящее имя не имеет значения.
Что действительно имеет значение – так это магия звучания этого имени, наше нервное ожидание ее прихода, музыка, производимая звоном стаканов и графина с водой, льдом и лимоном, что она приносит нам, пока мы рисуем под солнцем.
Нина – красивая, изящная, невинная девушка. Ее черные волосы подчеркивают белоснежную прозрачную кожу. На шее можно различить светло-голубые вены. Она кажется ангелом во плоти, солнечным и светящимся. Она двигается легко, расстилает на траве в тени деревьев скатерть, на которую ставит все необходимое, чтобы утолить нашу жажду.
Этими простыми жестами она способна вызвать в нас мечты о сексе и свободе. Кошачья мягкость ее движений возбуждает. Нина обладает красотой тонкой – и в то же время очень мощной, которая есть у совсем юных девушек. Нина – абсолютное вожделение и даже больше, потому что она совершенно не осознает, что способна его вызывать.
Оскар, самый смышленый и самый старший из нас, давно утверждает, что Нина неравнодушна ко мне. Я никогда этого не замечал, потому что она сдержанна, молчалива и застенчива. Во время ее быстрых визитов она не показывает особой расположенности к кому-либо.
Когда она появляется, можно почувствовать, как все мои товарищи трепещут. Кто-то прямо-таки хочет на ней жениться, кому-то достаточно увидеть ее обнаженной, кто-то хочет пригласить ее прогуляться по деревне и всего лишь ей обладать, а некоторые по уши влюблены в нее. Я избегаю комментариев, потому что чувствую себя самым слабым, самым уязвимым, и мне кажется, что у меня с ней нет шансов. Однако физические ощущения, которые я испытываю при ее появлении, болезненны: сердце учащенно бьется, я чувствую жар в груди, появляется одышка, я прихожу в замешательство и начинаю волноваться.
Оскар говорит, что она смотрит на меня с особым вниманием.
– Амедео, ты нравишься Нине.
– Откуда ты знаешь?
– Я вижу.
– Как ты это видишь?
– Вижу и все, а ты дурак и ничего не замечаешь.
– Ты ненормальный.
– Это ты будешь ненормальным, если упустишь шанс.
Маэстро Микели скучный, но не глупый. Он хорошо знает, что Нина вносит смятение в среду учеников. Я уверен, что сексуальные фантазии, которые мелькают в наших головах, не особо отличаются от фантазий нашего учителя. Если бы Микели мог дать выход своей природе, он бы вмиг набросился на это юное тело. Но даже в этом маэстро – скучен, безволен и нерешителен, в точности как его живопись.
Он сдерживается, потому что – будучи в глубине души моралистом – боится сплетен.
Когда Нина испытала легкое недомогание из-за жары, Микели увидел, как все ученики столпились в тени дерева вокруг девушки с искренним намерением помочь ей. Из-за такой интимности и близости маэстро почувствовал смертельную ревность. Было понятно, что он бы хотел быть единственным ее спасителем. Разве мог подвернуться более удобный случай коснуться этого беззащитного юного тела, распростертого на траве? Микели побагровел. Он отправил ее домой и даже пообещал пару выходных. Сразу после этого он с некоторой агрессивностью заметил мне, что считает такую физическую близость неприличной.
Оскар потом припомнил мне этот случай:
– Микели не такой дурак, как ты, он понял, что ты ей нравишься.
– Я нравлюсь Нине? Она даже не смотрит на меня.
– Ты ничего не почувствовал, когда держал Нину за руку?
– А что я должен был почувствовать?
– Не почувствовал ее трепет?
– Ее рука была вспотевшая и вся дрожала.
– Вот видишь? Амедео, давай, продолжай быть идиотом… Но помни: под лежачий камень вода не течет.
Теперь я знаю, что умру – уже познав разницу между любовью за деньги и тем, что происходит с подлинным, взаимным и искренним желанием давать и получать наслаждение.
Я не отрекаюсь от своего опыта в борделе; наоборот, он был мне очень полезен для практики и избавления от стыда и неуклюжести. Половое влечение подростка – это беспорядочный маразм из фантазий и наивных предположений о женском теле. Девушки, которым я платил, терпеливо раскрывали мне маленькие тайны телесной любви.
Но то, чем я занимаюсь сейчас, – это абсолютное наслаждение. Это одновременно чудо, магия – и идеально выполненный химический опыт, в котором два вещества становятся одним целым. Два тела, которые долгое время смотрели, выслеживали, наблюдали, желали, добивались друг друга, – наконец встречаются, соприкасаются, наслаждаются. И нет другой причины для того, что происходит, кроме как молодость, удовольствие и взаимное притяжение.
Я настолько потрясен прелестью ощущений, которые испытываю, что совершенно растерян. Кожа, глаза, голос, волосы, запах, вкус – все это доставляет удовольствие, к которому добавляются действия, реакции, взгляды, слова, улыбки, ласки. Это как школа – но с самостоятельным обучением, без учителей.
Мы нашли небольшой сеновал для наших встреч. Заниматься любовью в таком месте просто восхитительно. К естественному запаху тела Нины примешивается аромат сена, травы и деревни. От нее пахнет цитрусами и детским мылом, любой запах способен меня возбудить. Ее белоснежная кожа немного краснеет из-за жары, поцелуев и ласк. Ее тело извивается от наслаждения, а лицо искажает боль.
Нина наслаждается – и не стыдится этого, наоборот, выражает чувства, не сдерживая себя. Иногда она задерживает дыхание – кажется, что она может умереть от удушья; я переживаю, смотрю на нее с беспокойством и хочу остановиться, чтобы избежать смерти от остановки дыхания. Но, как только я перестаю двигаться, она распахивает глаза и говорит мне: «…нет, прошу тебя, не останавливайся!», или: «Еще, еще!» Даже когда мне кажется, что я не делаю ничего особенного, она постоянно повторяет одно и то же. «Да, да, да… продолжай». Самое странное и пугающее – когда она закатывает глаза: зрачки исчезают за веками. Кажется, что она сейчас лишится чувств или даже умрет.
В борделе девушки притворялись, что наслаждаются, – их услуги мужчинам предусматривают и актерскую игру, иллюзии тут включены в стоимость. Даже слова, которые они шептали или кричали, мольбы, уговоры, вульгарные и непристойные фразы, – все это было частью сценария.
Реальность значительно лучше, чем фальшивые представления в борделе. Проститутки – жалкие дилетантки, их любительский спектакль даже рядом не стоит с бурной страстью Нины.
Я только сейчас начинаю понимать, какие наслаждения мужчина способен вызвать в теле женщины. Можно сказать, что я пришел к Нине практически девственным.
Подлинное и взаимное желание очень далеко от обмана, предлагаемого борделем. Как может мужчина, у которого был искренний секс, вновь посещать подобные места? Никогда в жизни я больше не буду платить женщинам.
– Амедео Модильяни, Амедео Модильяни, Амедео Модильяни… Похоже на имя значительного человека.
– А не на имя какого-то идиота?
– Нет. Амедео… мне не верится, что я с тобой.
– Это мне не верится, что я с тобой.
– Знаешь, я все время на тебя смотрела.
– Я тоже все время на тебя смотрел.
– Я знаю.
– Вот видишь? Вы, женщины, всегда всё замечаете. А я думал, что тебе нравится мой друг Оскар.
– Кто? Гилья? Ты с ума сошел? Он взрослый, неучтивый, и он уже мужчина.
– А я не мужчина?
– Ты юноша. Ты моего возраста, и ты красивый.
– Я красивый?
– Не прикидывайся, ты это знаешь.
– Нет, мне никто не говорил, что я красивый.
– Ты врешь.
– Амедео Модильяни красив. Дамы и господа, это Амедео Модильяни, красивый художник.
– Ну ты и дурак… Ты издеваешься надо мной?
– Амедео Модильяни, художник… неспособный, бесталанный, но красивый. Самый красивый художник Ливорно. Что я говорю, дамы и господа, это самый красивый художник Тосканы, даже не так – самый красивый художник Италии! Больше того, этот самый красивый художник на сеновале занимается любовью с Ниной, самой красивой девушкой на свете.
– Глупый…
– Да, я глупец… я сумасшедший, которого ты сделала счастливым.
– Почему ты так говоришь? Я всего лишь служанка.
– Всего лишь? Ты – лучшее, что у меня было в жизни.
– Амедео, ты еще мальчишка. Твоя жизнь только начинается. Кто знает, сколько у тебя будет таких лучших.
– Сейчас ты – лучшая. Нина, ты не понимаешь. Ты сделала меня счастливым.
– А ты – меня.
– Тогда давай скажем это друг другу тысячу раз. Нина, ты делаешь меня счастливым.
– Амедео, ты меня делаешь счастливой.
– Хорошо бы сделать фотографию: какие мы сейчас, молодые, обнаженные, среди сена, в летнюю жару, вокруг цветы, деревня…
– Нет, не надо фотографию. Представляешь, что будет, если ее увидят? Моя семья, твоя, маэстро Микели…
– Если бы нашу фотографию увидели – какие мы сейчас, здесь, – все бы поняли, как мы счастливы, и захотели бы быть такими, как мы.
– Нет, с нас бы захотели снять шкуру и поколотить.
– Ты восхитительна, твоя кожа прекрасна, ты благоухаешь, твои глаза – лучшее, что есть в этом мире, и ты умеешь быть такой…
– Такой?
– Возвышенной.
– Что это значит?
– Возвышенная? Ты не знаешь?
– Нет, я необразованная.
– Тот факт, что ты не знаешь, что означает «возвышенная», делает тебя еще более возвышенной.
– Боже мой, ты меня запутал.
– Возвышенная – это более высокий духовный уровень, понимаешь?
– Нет.
– Ты – за пределами человеческих границ, ты – самое совершенное, что существует в природе. Ты возвышенная девушка.
– Это же не что-то вульгарное, верно?
– Совершенно противоположное. Это означает, что ты – совершенная, интенсивная экспрессия страсти.
– То есть? Это когда мы занимаемся любовью?
– Да.
– А после?
– Остаешься возвышенной; ты всегда возвышенная. Даже когда задаешь мне эти вопросы с таким выражением лица и с таким взглядом.
– Но я всего лишь служанка, которая ничему не училась…
– Чтобы быть возвышенной, не нужно учиться этому; это было бы слишком просто. Чтобы быть возвышенной, не нужно знать, что это и как, – достаточно просто быть такой.
– Ты всегда так сложно говоришь… я не понимаю.
– Я приведу пример. Знаешь, что еще возвышенное? Природа. Разве в природе есть что-то лучше человеческого существа? А среди человеческих существ разве есть что-то лучше женщины?
– Но я ничего не сделала, чтобы быть возвышенной.
– Поэтому ты и есть такая. Ты как буря, как ураган, как вихрь. Они тоже ничего не сделали, чтобы быть таковыми. Они не знают, что они настолько сильные, и тем не менее они такие есть.
– Но буря не думает.
– Вот именно. Нет необходимости думать.
– Это не очень хорошо… Мне кажется, что ты хочешь меня обидеть.
– Постой. По-твоему, какое-либо произведение искусства: статуя, картина, церковь… думают?
– Нет.
– Однако они являются произведением искусства. А лучшие произведения искусства…
– Возвышенные. Значит, это комплимент?
– Верно. Чтобы быть возвышенной, тебе не нужно что-либо делать, тебе достаточно просто быть собой. Только подумай, какая удача.
– А ты? Разве ты не возвышенный?
– Нет, я – нет.
– Почему?
– Как максимум, я могу создать что-то возвышенное. Но создать не означает быть.
– Модильяни, для подростка ты ведешь слишком сложные разговоры.
– Я приведу пример. Ты – возвышенная, я напишу тебя здесь, на сеновале, я создам картину. Если картина сможет отразить ту возвышенность, которая есть в тебе, тогда и картина будет возвышенной.
– А если нет?
– Тогда это будет ерунда. Но ты все равно останешься возвышенной.
– На всю жизнь?
– Если ты не изменишься.
– Но все меняются, мы стареем.
– Можно и в старости быть возвышенными.
– Но я буду некрасивая.
– Кто тебе это сказал? Может быть, ты будешь за пределами представлений о красоте. Будешь глубокая и сильная.
– Амедео, как же тебя сложно понимать иногда…
– Потому что я – не возвышенный. А вот ты – да, и поэтому тебя легко понимать.
– Амедео Модильяни, ты просто помешанный!
– Помешанный, но не возвышенный.
– Для меня – возвышенный.
– Нина, ты великолепна.
– Великолепная это меньше, чем возвышенная?
– Нет, одно без другого не бывает. Они неразлучны.
Я возвращаюсь домой – и вижу на столике в прихожей мужскую шляпу. Дверь в гостиную закрыта, оттуда доносится мамин голос, на который я поначалу не обращаю внимания. Я делаю несколько шагов и снова слышу ее голос, на этот раз – громкий, резкий и сухой. Плохой знак.
– Дедо!
Я останавливаюсь и некоторое время остаюсь неподвижен.
– Дедо!
Теперь я знаю, что она должна мне сказать что-то неприятное: тон и твердость голоса не оставляют сомнений. Я подхожу к закрытой двери гостиной и стучусь.
– Заходи.
У моей матери беспокойный вид. У Маргериты слегка прищурены глаза и сморщен кончик носа, как будто она чует жертву и знает ее судьбу. В комнате находится еще один человек, которого я никак не ожидал здесь увидеть, – маэстро Микели. Он смотрит на меня как на опасного преступника. Я решаю свести к минимуму свое удивление.
– Добрый день.
Мне никто не отвечает. Мама неподвижна, она застыла, словно статуя. Глядя на сестру, я не могу не думать, что если бы она сама занялась чем-то слегка безнравственным, то уделяла бы меньше внимания моим проступкам. В этой обвинительной тишине мне приходится сдерживать смех, потому что, глядя на сидящих рядом Маргериту и Микели, я понимаю, что они в чем-то похожи. Губы, сложенные уточкой, придают обоим вид тех, кто приговаривает себя ко многим лишениям.
Наконец мама нарушает молчание:
– Дедо.
– Да, мама.
– Ты знаешь сеновал, который находится в деревне недалеко от того места, куда вы ходите рисовать с другими учениками маэстро Микели?
– Сеновал?
– Да.
Я делаю вид, что не понимаю.
– Сеновал?
– Ты прекрасно понял.
Я начинаю испытывать неприятные физические ощущения: у меня учащается сердцебиение, я покрываюсь потом, меня бросает то в жар, то в холод. Комната вращается вокруг меня, лицо моей сестры увеличивается в гримасе и становится огромным. Кажется, я на грани краха.
– Сеновал?
– Перестань повторять одно и то же. Ты знаешь тот сеновал?
Слово само по себе вырывается из моего рта, я им не управляю.
– Сеновал?
Моя мать не верит своим ушам; она бросает взгляд на Микели, будто прося его проявить еще немного терпения.
До меня доносятся звуки… скрип деревянного пола. Это шаги моей сестры, которая поднялась с дивана и подходит ко мне с насмешливой улыбкой.
– Дедо. Ты знаешь, что такое сеновал? Это место, где хранится сено.
Маргерита, улыбаясь, гладит меня по волосам, затем отводит руку – и торжествующе показывает всем пару золотистых соломинок.
– Сено. Как вот это.
Доказательства вины были прямо на мне, в моих волосах. Я едва не теряю сознание, но собираю все оставшиеся силы.
– Сено?
Тишина. Все затаили дыхание.
Маргерита, как искушенная актриса, после эффектного выступления уходит с авансцены и занимает свое место на диване. Моя мать теперь вдвойне смущена: с одной стороны, из-за меня, с другой – по вине Маргериты, которая, открыто выступая против меня, выставляет нас в дурном свете в глазах Микели.
– Итак? Дедо, что ты можешь сказать?
Мама предоставляет мне еще один шанс выйти из затруднительного положения.
– Не знаю… Что я должен сказать?
– Дедо, не оскорбляй наши умственные способности. Мы же все поняли, о чем идет речь.
Я больше не могу стоять на ногах. Чтобы усмирить тахикардию и нехватку воздуха, я сажусь в кресло. Я тяну время, хотя теперь уже ничто не может спасти меня от неприятностей. Вопрос моей матери звучит как выстрел из ружья.
– Девушка была девственницей?
Я понимаю, что меня застали врасплох этими вопросами и мне не хватит времени выстроить оборонительную стратегию.
– Дедо, ответь.
В долю секунды я выбираю действовать под знаменем правды.
– Да, она была девственницей.
Микели подпрыгивает в кресле, он закрывает рукой лоб и глаза, как будто хочет стереть ту боль, которую ожидал, но все же надеялся избежать.
– Вот… она была девственницей.
В его словах слышится не сожаление – а скорее раздражение в отношении меня, потому что я его опередил. Бедный Микели! Как знать, сколько времени он осторожно «работал» над этим проектом и ждал удобного момента.
– Ты воспользовался моим расположением!
Я смотрю на него, пытаясь понять, чего он хочет от меня и от моей семьи.
– Нет, маэстро, не вашим, разве что расположением Нины.
Микели едва не теряет дар речи от такого наглого ответа.
– …Ты хочешь сказать, что девушка… была расположена?
– Более чем.
– То есть? Она этого хотела?
– Очень.
– Очень?..
– Я бы сказал, страстно.
Микели кашляет, вытаскивает из кармана платок и вытирает рот, затем промокает капли пота, выступившие на лбу.
– И я тоже этого хотел. Так же страстно.
– Эта девушка работает у меня! Ты должен был избежать случившегося хотя бы из уважения ко мне.
– Я вас уверяю, что мы долгое время пытались этого избежать всеми способами, но в определенный момент это стало невозможно.
– Я несу ответственность за эту девушку, ее семья доверила мне ее!
– Вы несете ответственность за то, что Нина делает после работы?
– Да! Если на ее честь посягает мой ученик, то да.
– Нина отдает себе отчет в своих действиях.
– Я не думаю. Она была подчинена.
– Мной? Вы ошибаетесь. Скорее, это я был подчинен ею, поверьте.
– Ты хочешь сказать, что она… взяла инициативу?
– Я бы сам никогда не осмелился.
Он кашляет, чтобы скрыть зависть.
– Это… это уже слишком. Значит, она тебя соблазнила?
– Я бы не стал использовать это выражение, но если вам, маэстро, так угодно…
– Ты надо мной издеваешься?
– Совсем нет. Если бы я не почувствовал эту… возможность, я бы никогда не набрался смелости…
– Для чего?
– Выступить с инициативой… Про остальное, маэстро, вы хорошо знаете, вы сами не раз замечали, что ваши ученики пускали слюни… И не только ученики. Нина очень красивая.
Всеобщее молчание. Все сидят неподвижно и безмолвно.
– Что ты себе позволяешь? – наконец взрывается Микели. – На что ты намекаешь?
– На то, что Нина нравится всем.
Маргерита выступает, разумеется, в пользу Микели:
– Дедо, ты усугубляешь ситуацию. Понимаешь?
Я смотрю на маму, которая продолжает сидеть неподвижно, как статуя; она наблюдает за происходящим, чтобы понять, как и в какой момент занять свою позицию.
Я хочу использовать каждую деталь во вред Микели, поэтому я еще раз пытаюсь поставить его в затруднительное положение:
– Нина – особенная девушка, верно? Вы же согласны со мной в отношении ее достоинств, иначе вы бы не взяли ее на работу.
– О каких достоинствах ты говоришь?
– Обо всех, которыми Нина обладает и которые вы не могли не заметить.
Единственная, кто приходит на помощь маэстро, – это моя сестра. Маргерита невозмутимо продолжает поддерживать нашего гостя:
– Дедо… ты отдаешь себе отчет, что ты оскорбляешь маэстро?
– Нет, не отдаю.
– Твои намеки неприятны.
– Это не намеки. Нина – воспитанная, милая девушка, она неутомимо работает и обо всех заботится, кроме того, она очень красивая.
– И что?
– А то, что все ее… ценят.
– Ты немного больше, чем остальные, если я не ошибаюсь.
– Мне просто повезло больше, чем остальным.
– Зато ей повезло меньше. – Маргерита старается быть еще более неприятной, чем она есть.
Моя сестра саркастично улыбается – и я боюсь, что понимаю ход ее мысли. Маргерита намекает на возможность заражения девушки по причине близости со мной. Когда мне напоминают о болезни – я бы предпочел, чтобы это было по веской причине. Сейчас эта фраза неуместна. Всю свою злость я выливаю на Микели.
– Маэстро, скажите, почему вы решили вовлечь мою семью в это дело?
Микели встает с кресла и пристально смотрит мне в глаза.
– Я больше не желаю тебя видеть на своих занятиях.
– А вы не могли мне это лично сказать? Так было бы проще.
– Твоя наглость не имеет границ.
– Да, она уступает только вашей зависти. Все ученики заметили, как вам было досадно, что Нина разговаривала с учениками и ей нравилось наше общество.
– Это простые меры предосторожности. Все знают, что может произойти, если оставить солому рядом с огнем…
– Солома рядом с огнем загорается, это точно. Дело именно в этом. А вы – солома или огонь? Или только мы, ученики, рискуем обжечься?
Маргерита тут же набрасывается на меня:
– Что ты себе позволяешь?
– Я не желаю с вами говорить.
– Это не ты будешь решать!
– Повторяю: я не собираюсь с вами говорить. И не читайте мне нотации про секс, ведь вы даже не знаете, что это такое.
– Ты думаешь, достаточно несколько раз побывать в борделе, чтобы это узнать?
Моя мать прерывает нашу перебранку, повышая голос:
– Сейчас же прекратите, оба! Замолчите!
Она переводит взгляд на меня и начинает допрос:
– Сколько длится эта история?
– Пару месяцев.
– Ты помнишь, что мы должны были уехать?
– Да.
– Ты попросил меня подождать, ты захотел отложить поездку, ты придумал тысячу причин… все из-за этого? Чтобы быть с этой девушкой?
– Да.
– Ты влюблен?
Я не знаю, что ответить.
Микели буквально нависает надо мной в ожидании узнать все подробности, включая самые интимные.
– Дедо, ты мне ответишь?
– Мама, я не знаю. Со мной этого никогда не случалось. Что означает быть влюбленным? Я знаю только то, что мы бы хотели всегда быть вместе.
– Даже ценой откладывания путешествия, которое мы запланировали?
– Да.
– Девушка может быть беременной?
– Нет.
– Почему нет?
– Я уверен.
В этот момент в разговор вступает Микели:
– Как ты можешь быть уверен? У вас не было полового акта?
Вот он, тот долгожданный для него вопрос. Требование подробностей. Я – с определенным удовлетворением – не упускаю возможности ответить:
– Да, конечно, был. Много раз.
Микели обессиленно падает на стул. Я продолжаю:
– Но не произошло ничего такого, чего вы опасаетесь.
Микели трет лицо.
– Что я теперь скажу ее семье?
Моя мать наконец бросает на этого жалкого мужчину взгляд, полный нетерпимости:
– Маэстро, вы ничего не скажете.
– Простите, синьора Гарсен, я не расслышал?
– Вы прекрасно слышали. Нет никакой необходимости разговаривать с ее семьей.
– Но это моя ответственность!
– Вовсе нет. Это история двух подростков, которые подверглись соблазну. Они ровесники. Тут не замешан никто из взрослых, никто не воспользовался чужой наивностью, не было никакого насилия и никакой несправедливости.
– Но как?.. Вы слышали, что сказал ваш сын? Он сам признался, что девушка была девственницей.
– Вот именно, была.
Наступает длительное молчание, во время которого все наблюдают друг за другом. Микели выглядит растерянным и опечаленным, но мне кажется, что больше всех приведена в замешательство Маргерита. Она, очевидно, ожидала от мамы, что та займет более решительную позицию против меня.
– Через неделю мы с Амедео отправимся в путешествие и длительное время будем находиться вдали от Ливорно.
Я делаю попытку сопротивления.
– Нет, мама…
– Помолчи. Ситуация наладится. Девушка вернется к своей обычной жизни, а у вас, маэстро, будет возможность проконтролировать, чтобы не было негативных последствий произошедшего.
– И я должен быть этим удовлетворен?
– Да. Вы не отец этой девушки.
– Но я несу за нее ответственность!
– За что именно? За ее личную жизнь? За ее физическую неприкосновенность? За ее девственность? Вы хранитель ее девственной плевы?
Микели вскакивает со стула.
– Синьора Гарсен! Вы меня оскорбляете.
– Это вы оскорбляете мой интеллект – а для меня это неприемлемо.
– Я больше ни секунды не останусь в этом доме.
Маргерита испытывает безудержную потребность поддержать несчастного мужчину:
– Маэстро, извините, у нас не было намерения вас оскорбить. Мама не хотела.
Но моя мать – точно не та, кого заставит замолчать собственная дочь.
– Маргерита, я, кажется, не спрашивала твое мнение.
– Мама, это нелепо, что ты всегда защищаешь своего сына!
– Я его не защищаю, я смотрю на факты и полагаюсь на свой опыт. А теперь и ты помолчи.
Микели, человек нерешительный во всем, стоит и не уходит, хотя оставаться он был не намерен.
Мама строго к нему обращается.
– Маэстро, вы можете вести себя так, как считаете необходимым. Что касается меня, то я готова встретиться и с этой девушкой, и с ее семьей. Но я сильно сомневаюсь, что, если вы расскажете о случившемся, ее родители позволят ей продолжать работать на вас. Если я правильно поняла, вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от присутствия девушки с таким количеством достоинств. Я думаю, это было бы слишком болезненно для вас. Я вас понимаю.
Мне хочется рассмеяться, но я знаю, что мама этого не одобрит.
– У вас есть неделя на принятие и исполнение решения. После этого нас с сыном не будет в Ливорно.
Рассуждения моей матери безупречны, ей снова удалось продемонстрировать всем, насколько хорошо она знает мужчин.
– Маргерита, проводи маэстро Микели.
Моя сестра подходит к бедному художнику, поставленному в неловкое положение тем же способом, который он сам хотел использовать.
– До свидания. – Микели сдержанно кивает и уходит в сопровождении Маргериты.
– Мама, мне жаль.
– Всякое бывает. Но я больше не хочу слышать отговорки. Через несколько дней мы уезжаем.
– Хорошо.
– Эта девушка настолько красивая?
– Очень красивая.
– Дедо, во время путешествия нам нужно будет о многом поговорить.
Что значит быть матерью
Дорогие Маргерита, Эмануэле и Умберто!
Быть матерью – такой, как я, – влечет за собой болезненный выбор. И мой выбор – быть рядом с Дедо. Он самый уязвимый из моих детей. Знаю, что могу рассчитывать на ваше понимание и согласие с моим выбором.
У меня есть также уверенность, что я сделала все, чтобы вы не страдали от бедности. Банкротство вашего отца не отразилось на вас благодаря моей работе и помощи дяди Амедео. С вашим же отцом на днях, спокойно и без встречных обвинений, я решила развестись.
Дедо в свободное от рисования время читает и перечитывает любимые книги моего отца: Спинозу, Ницше, д’Аннунцио. Это его способ помнить деда. В Неаполе он был впечатлен скульптурой, особенно статуей пьяного Силена. После того как он ее увидел, он замкнулся в себе и не разговаривал. Только на следующий день он заговорил со мной и рассказал, что силены – это мифологические существа, подобные сатирам, низшие божества, носители дионисовской мудрости и трагического смысла жизни. Затем он прочитал мне, что о них пишет Ницше.
«Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. И Силен ответил: „Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя – скоро умереть“».
После прочтения этих слов Дедо расплакался и снова молчал несколько часов. Я ничего не могла сделать – он был безутешен. Я не могу отвлечь его от мысли, что болезнь может снова вернуться. И все же он чувствует себя хорошо, у него ни разу не было температуры, он ест с удовольствием и выглядит здоровым.
Я не особенно довольна его интересом к скульптуре. Конституция Дедо, его состояние здоровья и отсутствие сил не позволяют ему работать с какими бы то ни было твердыми материалами. Ориентироваться на рисование и живопись мне кажется предпочтительным, поскольку краски не требуют физических усилий.
Он помрачнел при виде скульптуры, изображающей мальчика, который положил ногу на ногу и вынимает занозу из стопы. Дедо сказал, что в мире существует несколько вариантов этой статуи с тем же сюжетом. Я все время поражаюсь, сколько он всего знает. Он говорит, что история той статуи, которую мы видели, такова: пастушок бежал из Виторкьяно в Рим, чтобы предупредить римлян о наступлении воинственных этрусков. Он торопился, несмотря на занозу в ступне, и остановился ее вытащить только после завершения миссии. У меня сложилось впечатление, что Дедо ищет сходство между увиденными произведениями искусства и своей болезнью. Он тоже хочет вытащить причиняющую ему боль занозу, но убежден, что у него нет на это времени.
Он постоянно пишет своему другу Оскару, к которому питает искренние чувства. Я полагаю, что скромное происхождение Гильи, его бедность, необходимость выполнять грязную работу, чтобы учиться и содержать свою мать, вызывают у Дедо восхищение, которого он не испытывает в отношении себя. Думаю, что он чувствует вину оттого, что является более образованным и подготовленным.
Признаюсь, я часто подсматриваю в его письма. Он начинает писать, потом делает паузу и заканчивает через несколько дней, словно желая поддерживать постоянный диалог со своим другом. В одном из писем, отправленных Гилье с Капри, Дедо говорит о Микели с определенной нетерпимостью, но без намека на произошедшее с той девушкой. Среди прочего он пишет: «Микели? Боже мой, сколько таких на Капри, целые полчища!» Он ссылается на тех живописцев, которые пишут пейзажи острова. Дедо считает таких художников посредственными, потому что они не умеют рисовать ничего другого.
Однажды в Риме он меня обнял и, практически в слезах, поблагодарил за эти месяцы совместного путешествия. Он признался, что, если бы не я, он никогда бы не смог составить подлинное представление об искусстве. Он даже написал пару писем дяде Амедео и признал, что ошибался, когда хотел отказаться от его помощи. Он говорит, что теперь способен смотреть на все с большей ясностью. Красота Рима его поразила.
На днях он неожиданно объяснил мне, что, когда пишешь портрет, один глаз должен быть открыт, а другой закрыт. Изображенный персонаж таким образом одним глазом смотрит на внешний мир, а другим – внутрь себя. Я ничего не поняла. Он же спокойно пояснил, что искусство должно создаваться и для внешнего взора, и для внутреннего.
Дорогие дети, мне нужна поддержка, я не могу только сама поддерживать других. Мне вас не хватает, и если бы не чувство долга, обязывающее меня быть дни и ночи с Дедо, я бы попросила вас подарить мне мгновения отдыха. Даже человек, переполненный любовью, временами нуждается в подкреплении надежды. Если бы Дедо хоть раз мне сказал, что в состоянии представить себе свою будущую жизнь без болезни, даже совсем на короткий период, – я бы смогла не чувствовать себя бесполезной.
Есть еще кое-что, что вызывает у меня тревогу. Всю свою жизнь я смотрела на трансцендентальные, религиозные и иррациональные проявления человека с заметным равнодушием. Теперь я задаюсь вопросом, по какой же причине Дедо маниакально увлечен магией и предсказаниями. Он рассказывает мне об алхимических символах, планетах, метафизических представлениях. Я не могу этого понять. Он говорит, что все мы должны освободиться от нашей первоначальной кожи, как это делают змеи, и вновь родиться для новой жизни. Но эти глупости к нам не относятся. Гарсены не придают значения суевериям. Даже каббалистическим, связанным с нашей верой. Недавно он долго рассказывал мне об истинном значении печати царя Соломона. Он говорит, что фигура, которую мы называем Звездой Давида, в действительности – самый древний знак еврейского народа. Я не знала этого. Два треугольника символизируют духовную и животную часть человека, а также взаимодействие земли и воды, с одной стороны, и огня и воздуха – с другой. Изображение, которое они составляют, символизирует фразу: «Как на небе, так и на земле». Дух и плоть достигают в этом знаке единства. В его голове так много всего запутанного и переплетенного между собой… Возможно, это уменьшает его страхи. Если это так – кто я такая, чтобы лишать его надежды?
Как-то он сказал, что настоящая проблема, которая нас всех одолевает, – это избыточное собственное «я». Он принялся говорить о Нарциссе, о самовлюбленности, о том, что это наш внутренний враг. Нарцисса интересует исключительно собственная красота, а Дедо – его состояние здоровья. По словам вашего брата, оба обречены на одиночество из-за излишней концентрации на себе. Дети мои, что мне вам сказать? Для меня Нарцисс – всего лишь глупец, не способный отличить отражение в воде от собственной персоны.
Между мной и Дедо нет разногласий, но очевидно, что мы общаемся в разных плоскостях. Его способ мышления – иррациональный. Возможно, все это необходимо для его будущей профессии художника, и он впитывает символы, которые могут ему пригодиться.
Дети мои, поверьте, что после Неаполя, Капри, Амальфи, Помпеев и Рима мне не терпится вернуться в Ливорно и обнять вас. Честно говоря, есть и много позитивных моментов. Когда мы вернемся, вы увидите выросшего юношу, более сильного и мужественного. Даже его голос стал взрослее – когда он говорит, то притягивает внимание слушателей. Это так прекрасно. Я замечаю, что девушки внимательно смотрят на него – и находят его приятным и обворожительным.
Я боюсь, что рано или поздно он уедет от нас. Он пойдет за своей любознательностью. Я не знаю когда, но этот момент наступит, и хотя это и вызывает у меня беспокойство за его здоровье, я должна буду это принять и отпустить его.
Ливорно
– Синьор Модильяни, надо сказать, я не ждал вашего визита…
– Только потому, что я пришел к вам без матери?
– Это тоже, конечно.
– Вам кажется, что я еще не в том возрасте, чтобы обсуждать свое состояние здоровья самостоятельно, без присутствия членов моей семьи?
– Многие молодые люди приходят ко мне одни. Часто такие визиты случаются с целью излечения болезней плотской любви.
– У меня нет венерических заболеваний.
– Меня это радует, поскольку добавлять еще одну болезнь к уже существующей – это плохо.
– Я надеюсь на разговор между взрослыми людьми.
– Вы знаете: я никогда ничего от вас не скрывал.
– Я в этом не сомневаюсь; но я хочу задать несколько вопросов.
– Я вас слушаю.
– Я хочу знать правду. Чего мне ожидать?
– Вы уже все знаете: у вас туберкулез. Эта болезнь известна во всем мире.
– В каком возрасте я умру?
– Ах, нет! Этого никто не в состоянии вам сказать. Болезнь у всех протекает по-разному. Это зависит от многих факторов, не последний из них – конституция пациента. Вам посчастливилось быть сильным парнем.
– Вы так считаете?
– Конечно. Вы преодолели все кризы, которые вас поражали, а их было немало. У вас хорошие шансы противостоять болезни.
– Я умру молодым?
– Знаете, трагический дух никогда не идет на пользу больному. Иногда определяющее значение имеет желание жить, а также оптимизм и любовь к жизни. Кроме того, многое зависит от образа жизни. Вы должны стараться избегать рецидивов, полноценно питаться, находиться в тепле. Зимний холод значительно вам вредит. Если будете соблюдать осторожность, вы продлите себе жизнь.
– Вы в этом уверены?
– Синьор Модильяни, туберкулез – самая распространенная болезнь во все времена. Просто не всегда о ней знали достаточно… Всего лишь двадцать лет назад доктор Роберт Кох выявил туберкулезную палочку.
– А этот доктор не нашел лекарство?
– К сожалению, созданное им лекарство показало себя непригодным для излечения болезни. На данный момент лекарства не существует. Однако я уверен, что рано или поздно нам удастся найти его.
– Понятно. Болезнь неизлечима, но можно отсрочить смерть.
– Верно.
– Я заразен?
– Бацилла, которая находится внутри вас, конечно, может перейти к другим.
– А каким образом она попала ко мне?
– Воздушно-капельным путем, через крошечные, невидимые частицы слюны. Достаточно кашля, чихания или поцелуя. Я не могу сказать, какие у вас были контакты в детстве, – это могли быть родственники, гувернантки, другие дети. Я думаю, что первое проявление, которое у вас было в виде плеврита, могло быть как раз туберкулезом.
– По симптомам, которые у меня будут проявляться в дальнейшем, вы сможете определить, сколько мне останется жить?
– Ориентировочно – да.
– Я могу их узнать?
– Зачем?
– Чтобы понимать самому.
– Они те же, что были у вас раньше, но сильнее и продолжительнее. Вы должны дожить до того момента, когда будет найдено лекарство. Было бы идеально подобрать хороший санаторий, где…
– Где стать пленником? Знаете, я уже наводил справки. Эти места похожи на тюрьмы.
– Это слухи, которые ходят относительно туберкулезных санаториев для неимущих классов. У вас есть средства для…
– У меня нет средств.
– Я знаю о затруднительном положении вашего отца, но также знаю, что ваш дядя Амедео ценит вас и очень любит. В будущем вы могли бы поехать в санаторий, соответствующий вашему социальному статусу, где превосходное лечение и…
– Но вы сказали, что никто не выздоравливает.
– Половина тех, кто лечится в этих центрах, в итоге выживает.
– Половина.
– Это много. Врачи судят по цифрам. У вас сейчас есть следы крови в мокроте?
– Нет.
– Хорошо. У вас благоприятный период, бессимптомный. Значит, сейчас нет серьезной инфекции в активной форме, болезнь находится в спящем режиме.
– Я не понимаю. Инфекции может и не быть?
– Она есть всегда, но сейчас не проявляет себя. Она может вернуться в острую форму или же в течение долгого времени оставаться в таком состоянии, как сейчас. Вы должны вести осмотрительную жизнь, чтобы не ослаблять ваши чувствительные легкие, стараться избегать истощения, чрезмерной потери веса и нагрузок. У вас хороший аппетит?
– Да.
– Вы пьете?
– Алкоголь? Нет.
– Курите?
– Иногда, тосканские сигары.
– Я не могу вам запретить абсолютно все, но позаботьтесь о том, чтобы не вдыхать дым.
– Я не вдыхаю.
– Хорошо. Совершайте прогулки по набережной и снова отправляйтесь в путешествие в теплые регионы, особенно зимой.
– Я хочу поехать в Венецию.
– Этот город не будет полезен для вашего здоровья. Там холодный и влажный климат.
– Еще я хочу поехать в Париж.
– Париж тоже не самый подходящий город.
– В Венеции и Париже проходят выставки, там – музеи и самые значительные в мире художники…
– Искусство не сочетается с вашим здоровьем. Художники, если только они не успешные, известные и богатые, ведут сложную жизнь, лишенную комфорта… Вы можете поехать в Венецию и Париж, но только в летний период. У вас часто поднимается температура?
– Ее давно не было.
– У вас бывает внезапный озноб?
– Нет.
– Вы потеете по ночам?
– Иногда.
– Вы легко утомляетесь?
– Иногда, когда пробую ваять.
– Вы ваяете?
– Делаю попытки.
– При обработке мрамора и камня выделяется очень тонкая пыль… Для ваших легких это настоящий яд. Кашель усиливается, когда вы режете камень?
– Немного.
– Как ваш лечащий врач, я запрещаю вам ваять. Категорически! Вы страдаете от болей в шее или горле?
– Редко.
– Чрезвычайно важно, чтобы туберкулез не распространился на другие части тела.
– А что, такое возможно?
– Вы должны непременно сообщить мне, если ощутите боли в горле, костях и особенно в голове.
– Почему в голове?
– Вы задаете слишком много вопросов.
– Так почему в голове?
– Туберкулезный менингит часто летален.
– Туберкулез может перейти из легких в голову?
– Да. Туберкулез ведет себя так же, как рак. В любом случае я исключаю ваш отъезд в холодные города, такие как Венеция и Париж.
– Я хочу уехать из Ливорно.
– Почему?
– Чтобы следовать своему призванию, а также по другим причинам.
– По каким?
– Здесь все знают о моей болезни, люди распускают слухи, а Ливорно – маленький город. Знаю, что меня тут не жалуют.
– Вы преувеличиваете. Что с вами произошло такого ужасного?
– До нашего с мамой путешествия я встречался с девушкой. Сейчас, когда я вернулся, она больше не хочет меня видеть.
– Возможно, причина в другом.
– Думаете, я заразил эту девушку?
– Не факт. Передача вашей болезни происходит не через гениталии, а через рот.
– Я больше никогда не смогу поцеловать женщину?
– Видите ли, заражение может произойти, а может и нет; это зависит от защитных свойств организма, состояния здоровья и образа жизни другого человека, а также от того, находится ли в вас бацилла в спящем состоянии. В целом, основной источник заражения – это слюна.
– У меня тоже есть право любить.
– Я не понимаю. Вам просто хочется вседозволенности?
– Я растерян. Я не хочу жить дальше, если это подразумевает жизнь без любви и искусства.
– Знаете, что говорят о туберкулезе? Что он дарит больным ощущение эйфории, в медицине это называется Spes phthisica, что означает «надежда чахоточного». У больных часто наблюдаются вспышки творчества, зачастую это люди искусства…
– Я в это не верю.
– Хотите примеры? Шопен, Китс, Перголези, сестры Бронте, Антон Чехов… Вам что-то говорят эти слова: «Ты помнишь, Сильвия, еще твоей земной и смертной жизни время, когда сияла красота в твоих глазах смеющихся и ясных…»?[10]
– Леопарди.
– Сильвия умерла от туберкулеза. И у самого поэта, среди прочих многочисленных болезней, не исключено, что был и туберкулез. Вы наверняка знаете «Даму с камелиями» Дюма? Маргарита была больна туберкулезом. В лирической опере Пуччини «Богема» главная героиня Мими тоже умирает от туберкулеза.
– Я слышал об этом, но не знаком с оперой.
– Так вот: я не верю в этот идиотизм. Истина же в том, что творческие люди часто бедны, плохо питаются, живут в сложных условиях с недостаточной гигиеной и в холоде. Прислушайтесь ко мне – и доживите до того дня, когда создадут лекарство от туберкулеза.
– Я хочу уехать из Ливорно.
– По крайней мере, пообещайте мне, что, когда начнете харкать кровью, вы вернетесь в Ливорно. Сделайте это хотя бы ради вашей матери.
– Я вам обещаю.
– Хорошо, я сделаю вид, что поверил вам. Жизнь, которая нам дана, не должна растрачиваться. Даже во имя искусства.
– Доктор, для меня искусство намного важнее жизни.
– Что ж… Я считаю подобные утверждения всего лишь юношеской глупостью.
Венеция
Мой друг Оскар – единственный, кто обращается со мной как со здоровым, – курит тосканскую сигару в носовой части вапоретто[11]. Мы направляемся в Свободную школу живописи обнаженной натуры, куда мы поступили учиться.
Судно огибает береговую линию, на которой возвышается собор Санта-Мария-делла-Салюте[12], перед взором моего друга открываются красоты Венеции – и мне доподлинно известно, о чем он сейчас думает. Его размышления подобны моим, когда я впервые побывал в Галерее Уффици: «Что я такого сделал, чтобы заслужить возможность увидеть все это?», – и далее – «Что я сделал плохого, чтобы теперь соизмерять себя с такой красотой?» и «Буду ли я когда-то способен создать нечто подобное?»
С тех пор как мы прибыли в Венецию, с каждым днем Оскар грустит все больше, и не только оттого, что чувствует себя посредственным художником. Его унижает финансовая зависимость от меня: я помогаю ему деньгами, он живет в моей комнате. Он не понимает, что я с удовольствием оплачиваю его присутствие здесь и совершенно не думаю о возврате этих денег. Мы оба – из Ливорно, оба – художники, друзья и соратники. Все делится пополам, без оценок заслуг и возможностей. Мы должны постигать, экспериментировать, ощущать величие искусства. Остальное – вторично. Все, что я вижу, становится интереснее, если я смотрю на это еще и глазами Оскара, если делюсь с ним своими рассуждениями, размышлениями, толкованиями. Его мнение заставляет меня рассуждать более глубоко и усиливает взаимосвязь моих мыслей и моего творчества. Оскар, хотя и спит на диване в моей комнате, напротив, чувствует за собой вину оттого, что не может разделить со мной расходы. Из-за его чувства гордости мне придется смириться с необходимостью расстаться с ним. Я знаю, что теперь – уже скоро. Если бы я был здоров и вся жизнь была бы впереди, с бесчисленными возможностями не подорванного страданиями бытия, пожалуй, я бы тоже был таким же гордым, как он. В моей ситуации я не могу себе этого позволить. Я должен быстро двигаться вперед, переходить от одного этапа моего художественного роста к другому, не создавая себе особых проблем.
Я приближаюсь к Оскару, стоящему в носовой части катера, и чувствую аромат тосканской сигары.
– Мне хочется, чтобы ты иногда улыбался.
Оскар смотрит на меня и улыбается, искренне и с наслаждением.
– Видишь? Я улыбаюсь.
– Я изумляюсь всякий раз, когда мы пересекаем Венецию на катере. Я задаюсь вопросом, как такое возможно – столько красоты в одном месте.
– Ты все время это повторяешь. Дедо, ты стареешь, ты прямо как моя бабушка.
Он смеется с очевидным намерением подшутить надо мной.
– Я всего лишь надеюсь, что ты сможешь всемерно насладиться городом.
– Кто знает, что обо мне подумают в Ливорно.
– О ком ты говоришь?
– Обо всех. В том числе о твоей матери.
– О моей матери? Она ничего не знает.
– Вот именно. Представь, если она узнает. Мать и дядя оплачивают твое пребывание в Венеции – и не знают, что платят и за меня тоже.
– Мы вдвоем живем на те деньги, которые я бы потратил один. Ты спишь на диване. Мы не живем как богачи. Оскар, это всего лишь деньги. Важно другое.
– Да, конечно: «Нам чужда буржуазная мораль…» – Он произносит эту фразу, передразнивая меня. – Ты всегда это говоришь.
– Да. Дружба художников стоит выше буржуазной морали. Неважно, кто находит деньги для нас двоих. То, что действительно имеет значение, – познание жизни.
– Я никогда не был буржуа. Я беден.
– Ты художник и труженик.
– Да, но бедный.
Оскар указывает на ветхую деревянную лодку в нескольких метрах от вапоретто. На палубе находятся три рыбака с морщинистыми, уставшими лицами. Они выглядят утомленными, практически больными.
– Видишь их? Я бы должен быть там, с ними. Там мое место.
– Оскар, эти рыбаки не умеют рисовать.
Это вызывает у него смех.
– Ты самый талантливый художник из всех, кого я знаю.
– Дедо, просто ты не знаешь других художников так, как знаешь меня. Я твой друг, ты меня любишь – поэтому и ценишь мое творчество. Я уверен, в будущем ты увидишь работы получше моих. Если бы не ты, я бы никогда не смог позволить себе приехать в Венецию. Ты же можешь пойти дальше, Венеция – только начало. Ты принадлежишь к другому миру, Дедо. А я не хочу уезжать из Ливорно. Я не чувствую, что гожусь для этого. Ты говоришь на французском как на родном языке. Ты привык общаться с состоятельными людьми, знаешь этикет, умеешь себя вести. Мой путь – внутренний, он состоит не из путешествий, а максимум из размышлений. Я не буржуа, но совершенно спокойно рисовал бы для них, если б мне платили. Я бы рисовал для кого угодно, лишь бы больше не чувствовать холод, запах рыбы и не работать в порту.
– Оскар, я чувствую себя одиноким.
– В этом твоя сила.
– Мне хочется, чтобы ты был рядом. Ты единственный, кто знает обо мне все.
– Посмотри на себя. Ты расцвел, ты чувствуешь себя лучше, чем я. Ты излечился.
– Эта болезнь неизлечима.
Оскар и правда говорит то, что думает. Он никогда бы не стал вводить меня в заблуждение. Впрочем, так и есть: туберкулез отступает, я чувствую себя хорошо.
– Дедо, знаешь, чего я больше всего боюсь? Что не смогу содержать свою семью.
– Какую семью?
– Ту, которая у меня будет. Сейчас у меня есть мать, потом будет жена, будут дети.
– А твое искусство?
– Мое искусство должно меня кормить – большего я не прошу. Это уже много, учитывая, с чего я начал.
Спиритический сеанс
Мы поднимаемся по лестнице венецианского дома, расположенного на узкой улочке недалеко от Арсенала. Со мной – помимо Оскара – Арденго Соффичи, Мануэль Ортис де Сарате, три молодые натурщицы из нашей школы и танцовщица, подруга Мануэля. Девушки болтают и смеются, Мануэль их поддерживает при подъеме, кладет руки на плечи, спину, ягодицы наших уступчивых спутниц.
Нас ожидает одна загадочная дама, которая пользуется определенной известностью за свой дар медиума и предсказания будущего. Она не желает, чтобы ее называли по имени; клиенты тоже не должны произносить свои имена. Говорят, она хочет сохранить анонимность, чтобы не раздражать духов, которые, по ее словам, неохотно поддерживают связь с людьми, привязанными к своей земной жизни. Она называет себя просто Мадам. Кажется, она настоящая посредница между душами живых и умерших, и многие готовы подолгу ожидать, чтобы присутствовать при связи Мадам с потусторонним миром.
Лестница погружена в полумрак, небольшая лампа освещает входную дверь из темного дерева. Нам открывает низкорослая помощница медиума; она упорно смотрит в пол, не поднимая взгляда, и провожает нас в слабо освещенную свечами и керосиновой лампой гостиную, где стоят диваны и круглый стол с десятком стульев. Мы с Оскаром обмениваемся понимающими взглядами. Загадочный сумрак в комнате и диваны из красного бархата дают нам ощущение чего-то знакомого, что совсем не вяжется с внеземным. Если бы здесь были пианист и полуобнаженные девушки, это место было бы похоже на бордель, а не на храм таинств.
На двух серебряных тарелочках дымятся благовония, наполняющие пространство ароматом вареной сливы. Наши спутницы говорят, что раньше Мадам была красива и желанна для мужчин. Они присутствовали на многих ее спиритических сеансах и уверяют, что, как и всегда, будет чему поразиться.
Оскар скептически наблюдает за девушками, но на одну из них – танцовщицу – смотрит с очень земными намерениями, далекими от спиритических. Мануэль занят другими девушками, а Арденго притворяется, что ему не интересны ни спиритизм, ни секс.
– Кто хочет быть художником – должен быть французом, более того… парижанином. – Мануэль говорит на прекрасном итальянском с легким испанским акцентом, смешанным с ломбардским произношением; он родился в Комо в чилийской семье и все время путешествовал, чтобы учиться искусству; сейчас ему нравится Франция. – Можно быть французом и не быть парижанином, а можно быть итальянцем, чилийцем, испанцем, японцем – и при этом быть парижанином. Понимаете меня? Настоящий, подлинный художник должен объездить все музеи Европы – и затем осесть в Париже. Другого места нет и долгое время не будет. Художники, скульпторы, музыканты, писатели – все сосредоточены в одном городе, как будто энергия одних талантов притягивает энергию других.
Я всегда увлечен рассказами Мануэля.
– Я – южноамериканский парижанин. А ты, Амедео, должен присоединиться ко мне как можно быстрее, у тебя идеальный французский, ты в душе уже парижанин. Оскар, и ты тоже. Язык Мольера легко выучить, нужно лишь практиковать его в кафе.
Оскар улыбается, но не отвечает. Арденго, очень чувствительный и внимательный, обращается к моему другу с улыбкой:
– Знаешь, у меня тоже не было денег. Мой отец разорился, и наша семья осталась без средств к существованию. Но в Париже я быстро нашел работу. Я делаю иллюстрации, в том числе и для известных журналов; платят мало, но на жизнь хватает. Во всяком случае, лучше жить в Париже, чем в Риньяно-суль-Арно.
Оскар не позволяет себя соблазнить:
– Мне хорошо в Ливорно.
Мануэль не доверяет убеждениям Оскара и настаивает:
– В Париже есть рынок сбыта! А здесь, в Италии, какие картины продаются? Наверное, все еще в стиле маккьяйоли…
– Мои – будут продаваться.
– Оскар, послушай меня, ты растрачиваешь себя. Приезжай на Монмартр, я помогу тебе найти комнату, так ты и Дедо привезешь с собой.
Эта дискуссия могла бы еще долго продолжаться, но в комнату входит помощница.
– Мадам просит вас несколько минут соблюдать абсолютную тишину. Скоро она к вам присоединится. Когда она войдет, вы должны сидеть вокруг стола и не должны обращаться к ней. Что бы ни происходило, не двигайтесь, оставайтесь спокойными. Старайтесь дышать глубоко и медленно.
Как только женщина удаляется, мы поднимаемся с диванов и молча садимся вокруг стола. Из передней доносится продолжительный звонок, дверь открывается – и заходит Мадам, молча и с опущенными глазами. Стройная, привлекательная блондинка лет сорока – она очень отличается от моих представлений о ней. При ее появлении по всей комнате распространяется аромат ландыша.
У Арденго и Мануэля очень серьезный вид, у Оскара – по-прежнему скептическое выражение лица с легкой неприязнью. То, в чем он сейчас принимает участие, – лишь развлечение для состоятельных буржуа; для него же вечер будет считаться прекрасно завершенным, только если ему удастся разрядить свое сексуальное напряжение с одной из наших подружек. Он – настоящий сын народа и не выносит этого вздора в качестве развлечения.
Мадам подходит к столу и садится с нами в круг. Никакого сцепления рук, никакой магической формулы. Она неподвижна, а ее взор направлен в центр стола. В течение минут пяти ничего не происходит.
Вдруг Мадам начинает дышать глубже, с каждым вздохом нарастает шум, из ее груди вырывается легкий свист. Затем это сменяется тяжелым дыханием, как при занятии любовью, и продолжительными содроганиями. Кажется, начинается транс, во время которого дух-проводник овладевает ее телом. Бедная Мадам вся покрылась потом, капли стекают по лицу, она будто бы производит страшное усилие. Наконец она начинает говорить – хриплым, практически мужским голосом:
– Снова… Тишина.
– Снова…
Мы молча и с сомнением смотрим друг на друга.
– Страх. Снова страх. Однако, когда мы виделись… было хуже. Тогда был испуг, потому что уродливое пугает, и все же вы здесь, со мной, хотя меня уже нет в живых.
Что поражает, так это несоответствие между деликатными чертами лица Мадам и глубоким глухим звуком, который она производит.
– Уродство пугает, и все же оно вечно.
Эти слова мне что-то напоминают.
Арденго и Мануэль внимательны, девушки благоговейно слушают.
Мадам разражается смехом, мы чувствуем себя несколько растерянными и в замешательстве.
– Ты так молод, но так обеспокоен.
Снова слова, звучащие так же, как и другие, которых я не помню.
– Не лучше ли просто жить? Дверь всегда открыта в ожидании неожиданного. Вы не знаете, зачем вы пришли, – но один из вас знает.
Наступила тишина, слышно только тяжелое дыхание, и я не знаю, чье оно – Мадам или духа, который находится в ее теле.
– Вы не знаете и не хотите знать. Только у одного из вас есть вопрос, и это самый большой вопрос, на который нет ответа. Вопрос, который все задают, это… когда…
Я чувствую, как по спине, шее и рукам пробегает озноб. Удары сердца все чаще и сильнее. Я трясусь, сидя на стуле, против своей воли. Оскар встревоженно смотрит на меня.
– Ты не создан для «когда». Ты создан для «навсегда».
Силы меня покидают, комната кружится вместе со свечами и керосиновыми лампами. Я ощущаю тошноту и не уверен, что смогу усидеть на стуле. Вероятно, я сейчас потеряю сознание. Я чувствую, как сползаю со стула, пытаюсь прийти в себя и опираюсь на стол. Я покрываюсь потом сильнее, чем Мадам.
– Змея сбрасывает свою кожу… из-за стыда…
Мадам улыбается, обнажая белые зубы, но из-за полуобморочного состояния мне на какое-то мгновение показалось, что я вижу десну, полностью лишенную зубов. Это мимолетное видение тут же исчезает. Мне становится еще хуже.
– Наполни свое время так… чтобы оно стало «вечным».
В глазах у меня темнеет – и я проваливаюсь во тьму, словно падаю в бездну.
Я медленно пробуждаюсь – словно после глубокого сна. Открываю глаза и понимаю, что я все еще в гостиной Мадам. Я лежу на диване, а мои друзья сидят рядом в ожидании, пока я очнусь.
– Дедо, как ты? – Оскар улыбается.
У меня болит висок с правой стороны; должно быть, я ушиб голову. Я пытаюсь пошевелиться, но не могу, меня тошнит.
– Вставай потихоньку.
– У меня болит голова.
– Еще бы, ты ударился о край стула.
Арденго тоже подходит ко мне и улыбается.
– Ты увидел дьявола?
– Почти.
– Оказывается, ты более впечатлителен, чем девушки!
Я оборачиваюсь и вижу трех наших натурщиц, они смотрят на меня обеспокоенно. Четвертая же, танцовщица, целуется с Мануэлем немного в стороне. Оскар смеется и подмигивает мне.
– Твой чилийский друг намного хитрее нас. Видишь?
Арденго тоже улыбается.
– Думаю, нам нужно уходить отсюда, иначе эти двое не выдержат и займутся любовью прямо здесь, в доме Мадам. Девушки голодны, и тебе тоже нужно что-то поесть.
– Меня сейчас вырвет.
– Как только ты упал в обморок, она прекратила сеанс. Встала и ушла. Ты на самом деле испугался?
– Арденго, прошу тебя, я не хочу об этом говорить.
– Давай поднимайся и пойдем отсюда.
Нечеловеческим усилием и с помощью Оскара я сажусь на диван. Голова кружится, но через пару секунд приходит в норму. Оскар придвигается ко мне ближе.
– Можно узнать, что с тобой случилось?
– Я тебе после скажу. Не при всех.
Мы поужинали, я смог проглотить теплый суп и немного сыра и выпил бокал вина.
Чем закончится вечер, уже понятно. В принципе, все было предсказуемо. Девушек четверо, нас с друзьями тоже. Мы заплатили Мадам, оплатили ужин, и теперь проведем вместе ночь. Но идея дальнейших развлечений не сильно меня привлекает. Я все еще потрясен пережитым на встрече с медиумом.
Оскар пошел курить на улицу, и я составил ему компанию. Ему было любопытно узнать, а мне не терпелось рассказать.
– …Ты хочешь сказать, что слова были те же самые?
– И голос был тот же.
– Та самая старуха, которая предсказывала судьбу и с которой ты встречался во Флоренции, сегодня пришла поговорить с тобой через Мадам?
– Возможно, за эти годы она умерла.
– Дедо, ты правда веришь в эту историю?
– Тут волей-неволей поверишь! Были те же слова, те же идеи: стыд, кожа змеи, вечность.
– Наверняка такое используют все эти жулики. Ты на самом деле из-за этого упал в обморок?
– Я испугался, но теперь я доволен, потому что все лучше, чем мы себе представляем. Есть нечто большее.
– Бог?
– Я не знаю… Я не о религии говорю, это не имеет отношения к раввинам и священникам. Это вопрос таинства, чего-то такого, что мы не понимаем, но оно есть, и это выше нас. Поверь мне, эта женщина не могла знать о старухе из того квартала Флоренции.
– Дедо, я тебя не узнаю.
– Я сам себя не узнаю. Поэтому я и потерял сознание.
– Дедо, есть много способов обмануть, но должен быть и тот, кто хочет быть обманутым. Даже церковь против спиритизма, и твои раввины тоже. Но допустим, что все так, как ты говоришь; что она сказала такого волнующего?
– Я вижу тут некоторую надежду.
– Естественно. Тот, кто идет к магам, ищет, за что зацепиться. Все хотят получить надежду, никто ее не отрицает, и потому она ничего не стоит. У меня тоже есть надежда, что я перестану заниматься грязной работой.
Все, что говорит Оскар, разумно. Я не знаю, как ему возразить.
Старуха из Флоренции произнесла слова, которые остались в моей памяти. «Ты не создан для „когда“… ты создан для „навсегда“… часть тебя никогда не умрет». Точное значение этих фраз мне неясно, но они вселяют надежду. Если не считать испуга и эмоций, которые я испытал во время спиритического сеанса, у меня осталось чувство оптимизма, некая смелость. Теперь я должен понять, что мне с этим делать.
Пикассо
Когда Мануэль и Арденго говорят об искусстве, они всегда говорят о Париже. Исключительно о Париже. Как будто они находятся в Италии по ошибке, без истинного интереса.
Даже Венеция их не восхищает, еще меньше – Карпаччо и его необъятные полотна, перед которыми я теряюсь, чтобы уследить за всеми изображенными персонажами, или величественность Тинторетто и его огромные работы, полные жизни.
Мануэль и Арденго провели черту, которая отделяет современность от всего, что было создано ранее, и современность имеет единственное направление: Париж.
Сегодня Арденго пришел в нашу привычную таверну с новостью, которая, по его словам, уму непостижима. Для Мануэля это событие тоже абсурдное, практически скандальное. Похоже, что один их друг, испанец, один из многочисленных художников, живущих в Париже, некий Пикассо, сначала был приглашен участвовать в Венецианской биеннале, а потом ему отказали. Я не осознаю важности этого факта, но, по мнению моих друзей, мы находимся перед лицом несправедливости в отношении одного из самых талантливых художников, ныне живущих.
– А кто такой Пикассо?
Два «парижанина» восприняли мой вопрос как богохульство.
– Кто такой Пикассо? Амедео, ты шутишь?
Я бросаю взгляд на Оскара, чтобы понять, знает ли он этого художника. Оскар хмурит лоб и опускает уголки рта. Он тоже никогда о нем не слышал.
– Пикассо невозможно не знать! Это все равно что не знать Караваджо, Леонардо, Микеланджело…
Я позволяю себе поставить под сомнение это утверждение:
– Арденго, ты ведь шутишь? Все знают Сикстинскую капеллу, «Тайную вечерю», «Призвание апостола Матфея»… Но никто не знает, кто такой Пикассо.
– Дедо, иногда ты меня просто раздражаешь. Мы же тебе сказали: то, что происходит в Париже, – это современное искусство, грандиозность инноваций.
– Да, я понял… но грандиозность прошлого – это другое.
– Ты не понял. Прошлое очень важно, но в Париже – будущее. И будущее в том числе называется Пикассо.
– А что пишет этот Пикассо?
– Некоторое время он создавал картины в очень необычных и меланхоличных оттенках синего.
– То есть? Картины в одном синем цвете?
– Они прекрасны.
– И это – новизна?
– Возможно, его вдохновили работы Дега, Гогена… И, безусловно, Сезанна.
Мы с Оскаром не в состоянии скрыть свое невежество. Нам не известен ни один из упомянутых.
– Это очень печальные картины, на которых запечатлено бедное сословие. Нищие, голодные дети, бедность в целом.
Мануэль дополняет слова Арденго:
– Затем он изменил направление на совершенно другое: он выбрал розовый цвет для своих картин – и начал писать актеров, танцовщиц, циркачей, канатоходцев, акробатов. Символических персонажей, которые пытаются побороть тоску.
– А что сделали Пикассо представители Венецианской биеннале?
Арденго говорит, не столько отвечая на мой вопрос, сколько обращаясь к Мануэлю – в расчете на его понимание:
– Секретарь биеннале Фраделетто предложил Пикассо представить две его работы, а затем, когда он их увидел, отказал в участии, поскольку картины слишком авангардные и не соответствуют концепции выставки. Вы понимаете? Самый влиятельный человек в Венеции против современного искусства!
Арденго обращается к Мануэлю, уже практически крича:
– Знаешь, как он охарактеризовал картины Пабло? Возмутительными!
– Фраделетто все еще интересуют маккьяйоли…
Мы с Оскаром снова обмениваемся виноватыми взглядами. Арденго продолжает, все больше воодушевляясь.
– Самое мерзкое, что ни одна газета об этом не пишет, не вышло ни одной статьи, где бы заявляли о нелепом несоответствии занимаемому положению в руководстве биеннале консерватора Фраделетто!
– В Париже такого, как он, не допустили бы до руководства даже небольшой галереей.
Мне становится все интереснее – и я пытаюсь получить побольше сведений от своих друзей.
– А что за тип этот Пикассо?
– Он очень плодовит. Пишет огромное количество картин. Начинает работать ранним утром и заканчивает только вечером, когда идет ужинать. В Париже ты легко его встретишь в кафе, куда мы тоже ходим.
– Некоторые говорят, что у него есть страх быть бедным, – возможно, потому, что он вырос в бедности.
– Он много страдал? – иронично уточняет Оскар. – Если этого достаточно, чтобы стать великим художником, у нас с Амедео должно быть блестящее будущее!
– А вы сильно страдали?
Разговор принимает оборот, который мне не по душе.
– Я бы сказал, порядочно, – отвечает Оскар. – Я остался сиротой в раннем детстве.
Я опасаюсь, что Оскар расскажет о моей болезни, – а я совершенно не хочу, чтобы кто-то знал, что я чахоточный.
Мануэль смотрит на меня с улыбкой.
– Амедео, ты – буржуа, образованный, просвещенный. Сколько же ты страдал?
Я опускаю глаза и молчу. Оскар отвечает за меня:
– Он вырос без отца.
Мануэль, похоже, потрясен и хочет узнать больше.
– Сирота?
На этот раз уже отвечаю я сам:
– Нет. Иногда смерть – это не самое худшее, что может случиться.
Эта фраза, относящаяся к моему отцу, приводит Оскара в замешательство – и одновременно дает ему понять, что не следует продолжать спор.
Кафе Florian
Кафе Florian – один из символов Венеции – расположено в портике на площади Святого Марка. Это одно из самых красивых и элегантных заведений, которые я когда-либо видел. Даже во Флоренции кафе не такие изысканные и декорированные. Красные диваны, мрамор, лепнина, зеркала, камчатные ткани, фрески, статуэтки – чарующее место, источающее атмосферу прошлого и искусства. За без малого два столетия – с 1720 года – здесь побывали Казанова, Гольдони, Каналетто, Фосколо, Байрон, Гете и многие другие.
Мы сидим здесь вместе с Умберто Боччони, Фабио Мауронером, Оскаром, Мануэлем, Арденго и другими студентами Школы обнаженной натуры. Все на меня смотрят, потому что я принес с собой холст, обернутый бумагой. Но даже Оскар не знает, что там внутри.
– Это сюрприз.
Фабио Мауронер улыбается, поднимает бокал и произносит тост:
– За нашего друга Амедео.
Остальные повторяют за ним, все еще не зная причину. Мануэль любопытствует:
– Ну что, Амедео, скажешь нам, в чем дело?
Арденго не выглядит слишком удивленным.
– Это картина, разве не видно?
Мануэль подходит ближе.
– Конечно, это картина. Мы хотим посмотреть, разворачивай.
Я в шутку отнимаю ее у Мануэля.
– Сначала я должен спросить разрешения у заинтересованного лица.
– Как? Это разве не твоя работа? – Оскар изумленно смотрит на меня.
– Да, моя.
– Тогда разворачивай. Посмотрим.
Я обращаюсь к Фабио Мауронеру.
– Фабио, можно?
Я снимаю бумагу и кладу картину на стол так, чтобы всем было видно. Арденго узнает на картине Мауронера.
– Это же Фабио!
– И даже похож. Более того, тот, что на картине, – красивее, – шутит Мануэль, и все смеются.
– Молодец. – Оскар кладет руку мне на плечо.
Мануэль перестает улыбаться и становится серьезным.
– Красиво, но…
Все замерли в ожидании реакции Мануэля, который пытается подобрать правильные слова.
– Я хочу сказать… очень даже ничего. Но…
Я начинаю нервничать.
– Но?
– Это очень… очень… в стиле маккьяйоли.
На какое-то мгновение повисает тишина – и потом Мануэль разражается смехом.
– Я пошутил! У тебя было такое лицо… как будто я тебе сказал, что это отвратительно. Амедео, ты не можешь обижаться на мнение друга.
– Мануэль, ты мудак.
– Да, я знаю… а ты обидчивый. Ты не сможешь быть художником, если будешь расстраиваться из-за критики.
– Я всего лишь парень из Ливорно, а не парижанин, как ты.
– Я чилиец и немного итальянец.
– Знаете, какая характерная черта Амедео? – Фабио Мауронер вступает в разговор. – Он все видит в лучшем свете. Это прекрасно. Я бы тоже хотел таким быть. Представьте: если бы мы все писали усовершенствованную реальность – мы бы сделали мир лучше.
Мануэль хлопает меня по плечу.
– Амедео, ты ему заплатил?
Все смеются, они уже навеселе. Единственный, кто не смеется, – это Оскар. Он крутит в руках тосканскую сигару, сидит в задумчивости, затем поднимается и выходит покурить.
Несмотря на солнце и ясный день, воздух на площади Святого Марка наполнен свежестью. Оскар прислонился к краю портика и смотрит на собор тоскливым и печальным взглядом.
– В чем дело?
Он оборачивается и улыбается мне.
– Я знал, что ты придешь. Ты такой, Амедео. От тебя ничего не ускользает, ты пребываешь в постоянном состоянии тревоги и все время начеку.
– Похоже на критику.
– Видишь? Стоит только что-то сказать, как ты начинаешь защищаться.
– Я замечаю, когда что-то не так. Что случилось?
– Ничего не случилось. Не беспокойся. Проблема только во мне. Я не могу здесь находиться, в этом месте. Посмотри вокруг.
– Ты имеешь в виду всю эту красоту?
– Именно, всю эту красоту.
– Мы этого не заслуживаем. Ты об этом думаешь?
– Я – не заслуживаю.
– Когда я впервые был во Флоренции, я тоже так думал.
– Амедео, ты отличаешься от меня.
– Я не вижу большой разницы между нами.
– Ты мне писал из путешествия, что мы, художники, предопределены для иной жизни, что мы в состоянии высвобождать более значительную энергию по сравнению с остальными людьми.
– Разве не так?
– Нет. Я недостаточно желаю того, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что если мы не будем в состоянии сломать все устаревшее, то останемся просто буржуа. А я никогда не был буржуа – но не понимаю, что плохого в том, чтобы им стать.
– Я говорил об этом исключительно в художественном смысле.
– Дедо, что означает «художественный»? Этот термин все понимают по-разному. Для кого-то «художественный» – повесить хорошую картину в гостиной. Для других – быть представленным в музее или основать новое течение. Но правда в том, что никто не замечает ценность какого-то человека, если им об этом не скажут.
– В каком смысле?
– Ты слышал, что они говорят об этом Пикассо? Я даже не знаю, кто он такой, я не видел его работ. В Париже решили, что он гений, – а здесь, в Венеции, ему дают пинка под зад. Тебя это не заставляет задуматься? Чтобы быть успешным, есть три способа: или ты этого заслуживаешь, или тебе повезло, или тебя продвигают. Меня никто не продвигает, а если бы я был везучим, я бы уже это знал. Что думаешь?
Оскар смеется и делает затяжку. У него очень четкие мысли.
– Ты можешь быть даже лучшим, но если кто-то расскажет всем, что это не так, – ты останешься непризнанным. Мои картины недостаточно оригинальны, чтобы соперничать с разными Пикассо.
– Это сейчас…
– Ты говоришь «я не заслуживаю», но через какое-то время ты, несомненно, скажешь «я заслуживаю большего». Я же буду доволен, что мне просто не нужно больше разгружать ящики с рыбой, и я буду удовлетворен независимо от того, что мне удастся получить. Ты, напротив, ищешь нечто большее, принципиально другое, и из-за этого поиска рискуешь быть несчастным. А я не хочу быть несчастным. И мне хорошо в Ливорно.
– Оскар, ты все время себя недооцениваешь. Ты не поверишь в свой талант, даже если тебе это скажут другие.
– Амедео, только ты мне говоришь, что я талантливый. У меня нет твоей уверенности и твоей энергии. Ты не отдаешь себе в этом отчета, но болезнь делает тебя очень сильным. Я, напротив, бездействую – из-за страха рисковать. Я не хочу, чтобы у меня перед носом закрывали двери, и чем дальше, тем больше я рискую.
– Ты решил уехать?
– Да, завтра.
– Мне очень жаль.
– Я понимаю. Но я пережил слишком много трудностей, чтобы вынести еще и новые. Я знаю, что такое угнетение, и мне достаточно не быть угнетенным.
Гашиш
Оскар уехал, и я остался один. Меня переполняет бесконечная тоска. Я чувствую себя так, как будто лишился брата и мое пребывание в Венеции потеряло смысл.
Умберто Боччони, Фабио Мауронер, Мануэль и Арденго пришли ко мне в гости вместе с несколькими девушками. Они показывают мне каталог парижской выставки – подарок знакомых, вернувшихся из французской столицы. Каталог выполнен в черно-белых тонах. Имена художников ничего мне не говорят, и, честно сказать, я не особо настроен уделять каталогу слишком много внимания. Мои приятели же полны энтузиазма и хотят поскорее вернуться в Париж.
– Значит, вы тоже уезжаете?
– Да, через несколько дней. – Мануэль возбужден больше других. – Мне нужна настоящая жизнь!
Арденго скорый отъезд тоже доставляет радость.
– Амедео, поехали с нами!
– Я не могу. Я должен вернуться в Ливорно.
– И что ты думаешь делать в Ливорно?
– Возможно, выберу что-то другое. Не знаю, создан ли я для живописи.
– Ты шутишь? – Арденго смотрит на меня с любопытством.
– Значит, я останусь сюжетом единственной картины Модильяни? – Фабио дурачится и – шутки ради – изображает неподдельный восторг.
Мануэль, как обычно, самый прямолинейный – он говорит то, что думает:
– Почему ты такой печальный? Тебе не хватает Оскара, да?
– Да, но дело не в этом.
– И чем ты хочешь заниматься?
– Думаю, ваять.
– В Париже – самые известные скульпторы мира.
Я начинаю нервничать и повышаю голос:
– Да я понял, что в Париже все самые великие, ты только и делаешь, что это повторяешь. Все самое прекрасное и значимое во вселенной происходит в Париже.
– Думаешь, я вру?
– Нет, думаю, что ты отбиваешь у меня желание туда ехать.
– Почему?
– Если там сосредоточены великие мира сего, что я там буду делать? Оскар прав, лучше быть первым в Ливорно, чем последним в Париже.
– Ты боишься?
– Разумеется.
– Меня восхищает твоя откровенность.
– А ты не боишься быть окруженным таким количеством тех, кто лучше тебя?
– Самые лучшие учат меня не быть удовлетворенным.
То, что говорит Мануэль, совершенно противоположно размышлениям Оскара. Путь одного – сражаться, чтобы достичь своего потенциала, второй склоняется к принятию того, что есть. А я? Я не знаю, что делать, что думать, что решить, потому что меня обуревает страх.
– Нет большой разницы: тратить деньги в Венеции или Париже, – настаивает Мануэль. – Тебе стоит поехать с нами.
Арденго согласен с ним:
– Париж – музей революционного искусства.
– Да, вы постоянно это повторяете.
– В Италии ты только растрачиваешь себя.
– В Италии были созданы лучшие предметы искусства!
– Сегодня все изменилось. Теперь Италия – это провинция.
– Амедео, к сожалению, так и есть, – подключается Боччони. – Ты знаешь, как меня это огорчает. Но здесь все в руках тех, кто застрял в прошлом. Нет увлеченности, нет желания перемен. Биеннале наводит тоску, а Осенний салон в Париже – как пылающий костер.
Мануэль поднимается, охваченный вдохновением.
– Здесь все ищут способ воспроизвести прошлое, которое есть и останется непреодолимым. Нужно перестать исходить из логики продаж. Девиз Парижа – «долой жюри, долой награды».
– А на что вы живете в Париже? Голодаете?
– Всегда найдется способ наполнить желудок. Всегда что-то можно продать.
– Что-то?
– В Париже больше продавцов и покупателей произведений искусства, чем во всей Италии.
– Получается, вы опять исходите из логики продаж.
– Амедео, одно дело – жить ради продаж, и другое – искать свой путь. Можно делать и то и другое, с той лишь разницей, что если ищешь свой путь в Париже, то, когда находишь, тебе удается еще и продать свои работы. Там нет неприятия новизны, наоборот, новаторские работы продаются еще лучше. Ты говорил, что хочешь стать скульптором?
– Хотел бы.
– Кому ты собираешься продавать свои скульптуры в Ливорно? Где ты думаешь их выставлять? Скажи мне.
Я не знаю, что ответить. Я даже не думал об этом. У меня еще нет ни одной готовой скульптуры, у меня нет даже замысла. Пока это лишь пустые разговоры.
Я опускаюсь в полупродавленное кресло, стоящее у кровати. Я изнурен, опустошен всей этой неопределенностью, которая давит на меня.
Я вижу, как одна из девушек, сидящих на моей кровати, готовит длинную курительную трубку, набивает ее табаком и коричневым веществом, некой твердой смесью. Другие девушки, удобно расположившись на моем матрасе, курят сигареты и пьют вино в ожидании, когда трубка будет готова.
Мои друзья сидят на полу и на диване, где спал Оскар. В их реакциях наблюдается какая-то всеобщая вялость и слабость. Артистический пыл Мануэля угас, и сейчас он с гораздо большим интересом гладит ноги одной из девушек; та без всякого сопротивления позволяет ему задирать юбку.
Между тем другая девушка закончила набивать чашу курительной трубки; она просит у Арденго прикурить и затягивается. Я моментально ощущаю терпкий, кислый запах, через несколько секунд он становится приторным, немного неприятным. Я иногда курю тосканские сигары, у которых теплый, обволакивающий, нисколько не резкий аромат. Я никогда не вдыхаю дым, не позволяю ему попадать в легкие. Мне это запретил врач. Девушка, напротив, жадно затягивается и задерживает дыхание, позволяя дыму оставаться в легких. Трубка передается из рук в руки, и все делают то же самое. Хотя я никогда и не курил эту штуку, но я слышал об этом, и я не настолько глуп, чтобы не понимать, что это – гашиш.
Трубка доходит до меня, и я бы с удовольствием отказался от этого опыта. Я даже не знаю, смогу ли я вдохнуть и задержать дым. Мои легкие намного слабее, чем у остальных присутствующих. Но если я этого не сделаю, то привлеку к себе внимание и, возможно, мне придется объясниться. Я предпочитаю закурить. Беру трубку в рот и делаю затяжку. Вдыхаю – и ощущаю страшное жжение в трахее и легких. Все мои органы отвергают эту чужеродную субстанцию. Я пытаюсь сдержаться, но боль нестерпима. Вдруг все как будто пересохло: губы, нёбо, язык, щеки, горло. Я смотрю на остальных, на их спокойные и расслабленные лица… Я сейчас взорвусь. Я не выдерживаю и разражаюсь таким кашлем, словно умираю. У меня горит лицо, наверное, я побагровел, кашель не останавливается, от напряжения белые пятна расплываются у меня перед глазами. Мануэль смотрит на меня с улыбкой.
– Не переживай, в первый раз это со всеми случается.
Бесполезно притворяться, что это не впервые; это настолько очевидно, что я бы выглядел идиотом.
– Передавай трубку.
Одна из девушек, сидящих на кровати, подходит ко мне, улыбается и гладит меня по волосам. Я ощущаю себя побитым щенком, которого утешают. Временами я еще кашляю, хотя жжение потихоньку ослабевает. Девушка, имени которой я даже не помню, снова улыбается, садится еще ближе и целует меня. Я чувствую, как ее язык скользит по моим губам и залезает в рот. У него сладкий вкус и запах вина. Мы долго целуемся, и я чувствую себя восстановившимся, жжение и сухость уступают вожделению. Она оборачивается и смотрит на остальных.
– А это он не в первый раз делает.
В ее голосе нет и тени насмешки – скорее, изумление, словно мой поцелуй приятно застал ее врасплох.
Открытие
Я просыпаюсь. Я лежу на полу поверх покрывала, которое было на кровати. Я обнажен, рядом со мной лежит девушка, которая меня целовала. Она тоже полностью обнажена и еще спит.
Свет, проходящий через ставни, слабо освещает комнату.
Все ушли, но я не знаю когда. Я почти ничего не помню, только обрывки сцен и ощущений.
Я помню, что приложился к бутылке вина, чтобы утолить безумную жажду после гашиша. Помню поцелуи, ласки, помню, что засунул руки девушке под юбку и потом под блузку. Припоминаю ее грудь… А потом, наверное, все ушли и оставили нас наедине. Мы занимались любовью – вероятно, на полу, – и я думаю, что мне понравилось. А потом я, должно быть, вырубился.
Я смотрю на распростертое тело во власти сна. Когда девушка была одета, она мне не казалась такой красивой; я ее недооценил – возможно, по причине моей неспособности распознавать точные формы тела, скрытого одеждой. У нее белоснежная кожа и волосы пепельного цвета. Она лежит на спине, одна рука прикрывает голову, а ноги разведены. Я рассматриваю каждую деталь: редкие светлые волоски на лобке, стройные ноги, белизну внутренней поверхности бедер и полную грудь с твердыми сосками. Вероятно она замерзла – но я не хочу ее накрывать, она от этого может проснуться. Покрывало – цвета охры с красным вышитым узором. Все кажется таким идеальным – оттенки цвета и формы, изящные ступни, кисти рук с розовыми ногтями, лицо, прикрытое волосами…
Это волшебный момент – рассветный свет оставляет на теле отпечаток поэзии, которая должна быть запечатлена в памяти.
Я медленно поднимаюсь, стараясь не разбудить ее. Подхожу к столу, где лежит альбом с чистыми листами, карандаши и уголь. Я должен нарисовать и отразить линии ее тела в этот конкретный момент. Я могу перемещаться, чтобы определить разные позиции. Мне необходимо понять, сколько существует возможностей изображения тела. Подобного состояния отрешенности сложно достичь при позировании в студии, особенно в сочетании с естественностью положения тела во сне. Я начинаю намечать линии, соизмеряя их со стилем. Я понимаю, что на участке от ступни до груди я могу не отрывать карандаш от листа, проводя основную единую линию без исправлений.
Я впервые чувствую возможность убрать лишнее, происходящее от колебания руки. Постоянные исправления, многочисленные штрихи, которыми подправляется форма, убивают красоту рисунка. Проводя единую линию, я могу изобразить фигуру более просто и аккуратно.
…Я рисую уже почти два часа, на полу разбросано около тридцати листов. Моя натурщица еще спит, она шевельнулась пару раз и немного поменяла положение.
Кажется, за этот индивидуальный урок я научился намного большему, чем за время многочисленных занятий в Школе обнаженной натуры. Это – внезапно проявившаяся интуиция. Возможно, это еще и заслуга одиночества; впервые я не вынужден разделять пространство с другими, рисующими тот же объект.
Или просто секс улучшает художественное выражение? Если так, то это может оказаться проблемой: не думаю, что смогу заниматься любовью со всеми натурщицами, которых буду рисовать в будущем. Не все будут так расположенны ко мне.
Свет, проступающий из окна, становится ярче; солнце встало и освещает всю комнату. Моя натурщица снова шевелится – и открывает глаза. Она молча осматривает меня; ей тоже требуется время, чтобы восстановить в памяти события прошлого вечера. Наконец, она улыбается, приподнимается на покрывале – и видит повсюду листы бумаги с ее обнаженным портретом. Она смеется с явным удовольствием.
– А ты молодец… Я вовсе не такая красивая, какой ты меня нарисовал.
– Ты красивее.
– Ты подаришь мне рисунок?
– Конечно; возьми, какие хочешь.
Она собирает с пола рисунки, рассматривает их и выбирает два.
– Вот эти.
– Они твои.
Она кладет рисунки на покрывало и протягивает ко мне руки.
– Иди сюда.
Я не заставляю повторять еще раз, откладываю листы, карандаш и уголь. Как только я к ней подхожу, у меня немедленно возникает эрекция.
Легкость, с которой я вхожу в нее, дает понять, насколько девушка тоже возбуждена. Мы снова занимаемся любовью, и сейчас я намного больше осознаю происходящее, чем вчера вечером.
Становится очевидно: несмотря на то, что у меня нет большого опыта, нужно совсем немного для совершенной согласованности; нет необходимости в любви, привязанности или особой форме уважения. Тело двигается само по себе, вместе с другим телом, без слов или ожиданий, лишь на волне инстинкта. Моя натурщица, имени которой я так и не помню, достигает оргазма на несколько секунд раньше меня. Невероятное совпадение, совершенно не контролируемое.
Мы лежим в объятиях друг друга. Неожиданный шум заставляет нас вздрогнуть. Кто-то напористо стучит в дверь.
– Кто там?
– Модильяни здесь проживает?
– Да.
– Вам телеграмма.
Возвращение
– Как это случилось?
– Мы не знаем.
– Он плохо себя чувствовал?
– У него был сложный период, дела шли плохо.
– Из-за этого не умирают.
Моя мать не может сдержать слез. Смерть ее любимого брата, нашего благодетеля дяди Амедео, застала ее врасплох, и теперь она в отчаянии. Маргерита тоже потрясена. Мои братья не в Ливорно, оба находятся по делам в Риме. Очевидно, что теперь будет меньше финансовой поддержки, на которую вся семья Модильяни рассчитывала в последние годы. Любовь, которая связывала мою мать и дядю Амедео, была всегда подлинной и бескорыстной. Для Маргериты, возможно, все немного иначе. После потери состояния отцом она полностью уповала на дядю, гарантировавшего ее содержание в будущем. Видимо, ни Гарсенам, ни Модильяни не сопутствует удача в бизнесе.
– Я полагаю, что дядя Амедео покончил с собой.
– Мама… что ты говоришь?
Моя мать смотрит на меня полными слез глазами.
– Он принял лекарства… снотворное.
– Ну и что?
– У него были долги.
Маргерита в нервном возбуждении поднимается с дивана и опрокидывает вазочку с цветами, вода проливается на стол. Мама встает и вытирает глянцевую поверхность дерева платком, уже и так мокрым от слез. Маргерита вне себя, она бессмысленно передвигается, как будто хочет поругаться с душой дяди Амедео.
– Почему? Почему это произошло? Что мы ему сделали? Как можно быть таким эгоистичным?
– Маргерита, успокойся.
– Ты не понимаешь? Мы остались одни. Одни!
– Мы не одни. У нас есть твои братья.
– Но у них семьи, они должны думать о женах и детях.
– Подумают и о нас тоже.
– Он был одиноким, его не связывали обязательства. Мы были его семьей.
– Он оставил нам то, что мог.
На этих словах я вмешиваюсь в разговор, чтобы получить объяснение:
– Что это означает?
– Он оставил нам деньги.
– Нам?
– Да. Несмотря на финансовый крах, он отложил деньги. Небольшое наследство. Для тебя и для нас.
– И для меня тоже?
– Да.
После такой сцены в исполнении моей сестры я инстинктивно отказываюсь от наследства.
– Возьмите все себе. Мне ничего не нужно.
– Амедео, об этом не может быть и речи…
Сестра тотчас вмешивается, перебивая маму:
– Почему «об этом не может быть и речи»? Зачем ему деньги? Нам всем надо на что-то жить.
– Я хочу исполнить желание своего брата.
– Твой брат умер.
– Он оставил деньги Дедо, и тот распорядится ими так, как захочет.
– А мы?
– Мы будет тратить то, что он оставил нам.
Маргерита ослеплена гневом и страхом.
– Знаешь, на что он их потратит? На путешествия, женщин…
– Перестань!
Мама подходит к ней в ярости – кажется, сейчас даст ей пощечину, – но сдерживается. Однако Маргерита не успокаивается:
– Почему в этой семье никогда нельзя говорить о Дедо? Бедняжка, о нем не следует говорить, потому что он страдал. Посмотри на него! Он кажется тебе страдающим? Он прекрасно себя чувствует, он стал мужчиной, у него полно сил… Ничто не мешает ему пойти работать.
Тишина. Никто не двигается. Маргерита произнесла слово, которое всех смущает, включая меня: работа. Я не знаю, как объяснить, что время, которое я трачу на изучение искусства, – это единственно возможный способ превратить мое увлечение в работу.
– Так я хочу работать.
Она ошеломленно смотрит на меня.
– Ах да? И с каких это пор?
– Я хочу заниматься своей работой.
– У тебя нет «твоей» работы. Ты ненавидишь обязанности, обязательства, ответственность, ты не хочешь гарантий в жизни, не думаешь о браке, детях, стабильности. Любой идиот так может жить. Придешь работать в нашу школу?
Я не отвечаю.
– Или эта работа недостаточно художественная?
– Я ищу свой путь.
– В твоем возрасте путь уже находят, а не ищут.
Мама выступает в мою защиту:
– Маргерита, если бы ты пыталась реализовать свою мечту, я бы постаралась тебе помочь.
– Какая неудача: у меня нет мечты. Я настоящая идиотка, которая думает, что работа – все еще единственный способ наполнить жизнь.
– Какая работа?
– Любая работа.
– Я не хочу заниматься любой работой.
– Как удобно! Но теперь все кончено. Не знаю, правда, понял ли ты это. Кто тебе даст денег, чтобы ты делал вид, что изучаешь искусство?
– Я не делаю вид.
– Тогда покажи мне свою картину.
Я не знаю, что ответить.
– Ты их все продал? Значит, ты разбогател.
– Нет, не продал, и я не разбогател. Я еще не знаю, кем хочу стать – художником или скульптором.
– Скульптором? Это новость. И где же твои скульптуры, которые ты создал в Венеции? В чемодане?
– Хватит!
Моя мать хочет положить конец этому подстрекательству, потому что чувствует, что я не намерен более позволять Маргерите обращаться со мной как с тупым и избалованным младшим братом. Моя сестра, напротив, не собирается останавливаться.
– Хватит? Почему же? Мы все должны чем-то пожертвовать, и он тоже. Больше нет его мецената, ясно?
Моя мать перестает плакать, и ее боль от смерти брата постепенно перерастает в гнев.
– Маргерита, я не позволяю тебе продолжать в таком тоне.
Я не хочу, чтобы у мамы была еще одна причина для страданий. Но Маргерита – безудержная фурия.
– Он не работает и учится, потому что строит иллюзии, будто ему будут платить за то, что ему нравится делать!
Я обдумываю слова моей сестры и полагаю, что они не лишены смысла.
– Нужно сделать так, чтобы работа была игрой. Искусство это позволяет.
– Вот видишь? Я не ошибаюсь. Ему нет дела до денег, он лишь хочет удовлетворить свои прихоти.
– Дедо был болен.
– Поэтому прихоти допустимы? Надеюсь, что в дальнейшем у него будет прекрасное здоровье, так у него появятся обязательства и ответственность, как у всех.
После этих слов Маргерита разворачивается и уходит, хлопнув дверью гостиной. Мы с мамой молча смотрим друг на друга.
– Дедо, не принимай ее слова близко к сердцу; она в отчаянии.
Каррара
Каррара – знаменитый центр по добыче и обработке мрамора близ Ливорно. Мраморные карьеры Апуанских Альп – самое большое в мире месторождение мрамора. Его здесь добывают на протяжении тысячелетий, древние римляне построили из него вечный город и создали статуи и памятники по всей империи, используя этот материал. Каррарский мрамор всегда пользовался самым большим спросом у архитекторов и скульпторов – Донателло, Микеланджело, Бернини покупали именно его. Микеланджело даже приезжал сюда, чтобы лично выбрать камень для своих работ.
Я здесь впервые. Мне сложно держать глаза открытыми: свет ослепляет. Нет слов, чтобы описать этот свет, исходящий от горы, иссеченной ступенями. Природа и человек вместе способствовали созданию этих нереальных форм. Необъятные геометрические конструкции, словно огромные дворцы, врезаются одна в другую.
В прожилки мрамора вставлены металлические рычаги и деревянные клинья: пропитанные водой, они набухают, увеличиваются в объеме и тем самым создают давление, нужное, чтобы отделить глыбы поменьше. Время от времени раздается гром – это взрывают породу выше, в нескольких сотнях метрах от меня.
Каменотесы спокойно отдыхают и обедают, не обращая внимания на взрывы. Местные рабочие едят преимущественно фокаччу, колоннатское сало, пасту с фасолью, хлеб, начиненный мясом, шпинатом и рикоттой. Несмотря на жару, у каменотесов радостные лица, они не выглядят уставшими или подавленными. Даже Данте писал о рудокопах Каррары – он вдохновлялся этими местами для описания некоторых сцен Ада.
После того как я осмотрю каменоломни, я отправлюсь в Пьетрасанту – в мастерские скульпторов, для изучения техник ваяния. У меня есть некоторые идеи, касающиеся менее обработанного и полированного мрамора – наподобие грубого и исцарапанного в незавершенных статуях Микеланджело. Гладкий, идеальный мрамор меня не привлекает – это продукция для кладбища, он подходит для мертвых, а не для того, чтобы возбуждать воображение живых. Работы Кановы восхитительны, но они принадлежат прошлому; мне же интересны свойства необработанной материи.
Моя глыба мрамора размером примерно пятьдесят на семьдесят сантиметров лежит во дворе мастерской одного скульптора, который согласился обучить меня некоторым техникам. Чекко – ремесленник из Пьетрасанты, он перенял секреты мастерства от отца, а тот, в свою очередь, от своего отца, деда Чекко. За приемлемые деньги он предложил мне еду и ночлег в своей мастерской.
– Ты знаешь, что скульптура – одна из древнейших форм искусства? Еще древние египтяне резали мрамор, дерево и камень. Скульптура – это метод отсечения лишнего: мастер убирает куски мрамора до тех пор, пока не останется то, что он хотел создать.
– Нужно заранее все продумать?
– Конечно: скульптуру невозможно поправить и вернуть убранное обратно. Если ошибешься – нельзя исправить, как это возможно с живописью. Но мы всё разберем шаг за шагом.
Чекко показывает мне кусок ткани с завязками.
– Эта маска тебе понадобится, чтобы не вдыхать пыль во время работы. Не то чтобы она приносила большую пользу, но немного защищает. Также ты должен надеть очки: они защитят тебя от осколков. Это молоток и резец. Затем рашпили – они убирают следы, оставленные резцом. После этого используются абразивные материалы. Ими работают вручную с применением силы. Это очень тяжелый труд. Ты уверен, что хочешь быть скульптором?
– Я хочу попробовать.
– Хорошо… Это гравировальные резцы, напильники и долото. Когда работаешь с круглой скульптурой, нужно формировать рельеф со всех сторон. Есть еще одна техника, когда на плоской поверхности высекается рельефная фигура. Это похоже на картину, но часть ее рельефная.
– Я хочу изучать круглую скульптуру.
Чекко непритязателен – он очень хорошо подготовлен, но он не художник, он не ищет свой индивидуальный путь, ограничиваясь выполнением работ на заказ.
У него во дворе полно инструментов и объектов в работе или уже выполненных, ожидающих передачи клиенту: фонтаны, декоративные элементы, колонны, столы, вазы и даже надгробная плита. И у него уже есть пара ассистентов моего возраста.
Чекко смотрит на мою заготовку и комментирует с легким сарказмом:
– Ты себе выбрал хорошую глыбу… совсем не маленькую. Что ты хочешь из нее сделать?
– Голову женщины.
– Первое, с чего тебе нужно начать, – вымыть глыбу.
– Вымыть? Но она не грязная…
– Тебе только так кажется. Ты не замечаешь, но она покрыта пылью и грязью.
– Этого не видно.
– Вымой ее.
Я потратил почти два часа, чтобы очистить заготовку. Каждый раз при мытье вода была сероватая и немного мутная. Теперь, наконец, вода прозрачная, и белизна камня проявляется еще больше.
– Чекко, я закончил.
– Хорошо. Теперь мы должны простучать твою глыбу.
– Что это означает?
– Нужно послушать звучание, чтобы понять, пригоден ли материал для работы.
Чекко берет молоток и начинает стучать по камню.
– Послушай.
Мрамор при простукивании издает резкий звук. Чекко смотрит на меня и улыбается.
– Хороший камень… Слышишь, какой звонкий звук? Когда звук глухой, это значит, что внутри есть пустоты, – такой камень не имеет ценности. Теперь тебе нужно начать отесывать. Убирай все, что тебе не нужно, начинай придавать грубую форму. Я бы на твоем месте взял глыбу поменьше, но теперь уже работай с этой.
После этих слов Чекко удаляется, и я внезапно ощущаю неприятное чувство одиночества.
Вот уже четыре часа я стучу по мрамору. У меня болят руки, боль проходит от пальцев, поднимается к запястьям и затем к предплечьям.
Чекко мне объяснил, что удары должны быть решительными и сильными, особенно на этой стадии работы.
Когда я бью под прямым углом, то меньше чувствую боль, когда же наклоняю резец под сорок пять градусов, я должен быть внимательным, чтобы он не соскользнул с поверхности, и приходится сильнее сжимать пальцы. Четыре раза острие отскакивало, и я попадал молотком по запястью. Боль – просто нестерпимая…
Я обессилел, но не могу этого показать. К счастью, солнце уже заходит и скоро рабочие часы закончатся; я не знаю, сколько еще смогу продержаться. Я весь вспотел, лоб немного порезан отскочившим осколком мрамора. Кровь вперемешку с потом стекает мне на виски.
Чекко подходит ко мне и смеется.
– Ты что, был на войне?
– Это тяжело.
– Я тебя предупреждал. Могу поспорить, что ты не чувствуешь рук.
– Нет, к сожалению, чувствую.
– Однако у тебя хорошо получается. Медленно, но хорошо. Та часть, где будет шея, мне кажется длинноватой.
– Слишком?
– Неважно, продолжай. Через час будем ужинать. Сегодня ночью ты будешь спать как младенец.
После ужина Чекко подходит ко мне с листом бумаги и углем.
– Нарисуй мне то, что собираешься сделать.
Я пытаюсь пошевелить изрезанными руками, источающими боль. Беру уголь и начинаю рисовать голову, которую я задумал.
– Ты хорошо рисуешь, молодец.
– Спасибо.
– У тебя ясные идеи, и ты почти не прерываешь линию. Шея мне кажется длинноватой, но я тебе это уже говорил.
– Как я могу это исправить?
– Ты уже ничего не можешь исправить.
– И что теперь? Все выкидывать?
– Нет, ты упражняешься, ты же не в Уффици эту статую будешь выставлять. Продолжай, и посмотрим, что получится.
В этот самый момент у меня в груди как будто что-то взорвалось; я начинаю неистово кашлять. Чекко обеспокоен:
– Что случилось?
У меня нет сил ответить, я кашляю не переставая.
– Тебе плохо? Хочешь воды?
Я киваю. Чекко поднимается и идет за кувшином с водой и стаканом.
Такого уже давно не случалось. Я напуган и в ужасе думаю, что болезнь вернулась.
Чекко наливает мне воды, я пытаюсь пить небольшими глотками. Я пью и кашляю; ситуация не улучшается.
– Это часто случается?
Я мотаю головой.
– Ты надевал маску?
Я киваю и продолжаю кашлять.
– Ты не привык… Мрамор в этом плане ужасен. Проникает со всех сторон. Да что там, не только мрамор, другие камни тоже. Этого не видно, но, когда откалываешь кусок мрамора, высвобождаются многочисленные частицы пыли. У тебя есть проблемы с легкими?
Я отрицательно качаю головой, обманывая его.
– Ложись и отдыхай. Прости, что я тебе это говорю, но, судя по тому, как ты рисуешь, тебе следует создавать картины, а не скульптуры.
Кашель немного успокаивается, и я пытаюсь заговорить:
– Мне нравится ваять.
– Но если это в первый раз, откуда ты знаешь?
– Мне нравится, что есть материал, который можно потрогать, можно почувствовать объем.
– Тебе еще нужно понять, сможешь ли ты. Это вовсе не второстепенный факт. Посмотри, как ты выдохся после неполного дня работы.
– Мне просто нужно привыкнуть.
– Я не должен бы тебе это рассказывать, так как это идет вразрез с моей работой, но, откровенно говоря, люди чаще покупают картины, чем скульптуры. Картину вешают на стену, она занимает немного места. А вот для статуи не у всех есть пространство. Рынок картин более обширный. Я тебе скажу больше: я работаю для людей, которые располагают пространством, прежде всего внешним. Но я не думаю, что ты захочешь украшать своими работами сады богачей. Правильно?
– Я бы хотел делать что-то особенное.
– А что именно?
– Я пока не знаю.
– Тебе для начала нужно это понять.
Чекко улыбается; он относится ко мне очень дружелюбно.
– Знаешь, почему я занимаюсь этим ремеслом? Потому что меня учили этому с самого детства. У меня не было выбора. И летом, и зимой я ощущаю боль в руках, в костях, моя спина разбита, вечером, когда я ложусь спать, у меня все болит, наутро, когда я просыпаюсь, мне еще хуже. Про ноги я вообще молчу, они никуда не годятся. Я нанял помощников, потому что сам уже не справляюсь, – бывает, что даже молоток не могу взять в руки. Локти ужасно болят. Ты видел мои руки?
Чекко мне их показывает. Суставы больших пальцев – узловатые и распухшие, ногти все изрезаны и обломаны, кожа сухая и сморщенная, костяшки опухшие.
– Отвратительно, правда? Мраморная пыль разъедает руки. А удары молотком их добивают.
– А нельзя использовать перчатки?
– Это немногое меняет. Подумай хорошо. Никакое искусство не стоит здоровья. Ты мне не кажешься выносливым. И мне очень не нравится твой кашель.
Я улыбаюсь и делаю вид, что не понял.
– Если после первого дня работы ты так кашляешь, это означает, что мрамор – не для тебя. А теперь иди спать, завтра тебе снова напряженно работать.
Уже несколько дней я обстукиваю мрамор. Моя скульптура начинает приобретать форму. Она грубая, пока только в общих чертах, и все же мне нравится. Она выглядит прямо как незаконченные статуи Микеланджело.
Шея получилась слишком длинная, как и говорил Чекко, она неестественная – но мне нравится этот эффект. Здесь нет правдивости – но, возможно, я ее и не ищу.
Я смотрю на свое творение – и оно мне кажется потрясающим, как создание первого человека. Из природных материалов рождается существо, которое вовсе не совершенно.
Мой страшный кашель продолжается. Когда Чекко подходит посмотреть на мою скульптуру, он спокойно улыбается и советует мне прекратить работу, но не из-за недостаточной красоты результата, а из-за моих страданий.
Прошло десять дней моего пребывания в Пьетрасанте. Я просто разбит.
Работа идет медленно, я часто делаю перерывы, чтобы отдохнуть и опустить руки в лед. У Чекко он всегда припасен. Он тоже всю жизнь старается снять воспаление рук с помощью льда. Меня утешает, что и его молодые ассистенты иногда прибегают ко льду, чтобы уменьшить боль.
– Амедео, ты устал. Ты действительно хочешь закончить эту скульптуру?
– Конечно.
– Тебе понадобится еще десять дней, если будешь продолжать работать с такой скоростью.
– Ничего страшного.
Чекко смеется и указывает мне на накрытый стол, где стоит бутылка вина, хлеб, фокачча, сыры, колоннатское сало и салями.
– Пойдем перекусим.
Я откладываю молоток и резец и направляюсь вместе с Чекко к столу, где нас ждут его помощники. Он кладет руку мне на плечо.
– Знаешь, что мне в тебе нравится? Упорство.
– Это хорошо?
– Если не переусердствовать.
Я улыбаюсь и иду под жарким солнцем, которое вот уже несколько дней неистово печет. Я голоден и предвкушаю скорое наслаждение от наполненного желудка.
Вдруг двор начинает кружиться, земля уходит из-под ног, меня бросает из стороны в сторону, я опираюсь на руку Чекко, у меня подгибаются колени, в глазах темнеет, я спотыкаюсь и падаю. Дальше я ничего не помню.
Меня отнесли в тень, положили лед на лоб, запястья и на шею. Один юноша держит мои ноги приподнятыми, а другой обмахивает меня газетой. Мне жарко, я вспотел, я весь мокрый. Чекко встревоженно наблюдает за мной.
– Как ты?
– Не знаю.
Я пытаюсь встать.
– Не валяй дурака, не двигайся. Скажи мне, что ты чувствуешь.
– Мне не хватает дыхания… мне жарко… очень жарко.
– У тебя есть боль в груди?
– Нет.
– Ты уже падал в обморок?
– Нет. Точнее, да, один раз, в Венеции.
Сердце колотится, дрожь в груди распространяется на руки и шею. Я стучу зубами, но не от холода, у меня бесконтрольно трясется нижняя челюсть.
– Ты белый как полотно.
Ноги потеряли чувствительность. Я пытаюсь ими пошевелить, чтобы понять, могу ли я ими управлять.
Чекко теперь выглядит больше разозленным, чем обеспокоенным.
– Ты упрям. Когда плохо себя чувствуешь, нужно остановиться. Именно это мне в тебе не нравится. У тебя нет чувства меры.
– Я хочу закончить.
– Об этом не может быть и речи.
– Мне уже лучше. – Я обманываю, пытаясь получить позволение встать.
– Замолчи!
Все болезненные ощущения проходят, сменяясь неловкостью от того, что я нахожусь в центре всеобщего внимания. Я выгляжу нелепым, неспособным противостоять своим слабостям. Все, что я начинаю делать, заканчивается провалом.
– Дома знают о твоей болезни?
Чекко задал этот вопрос, как будто все обо мне понял. Я продолжаю притворяться:
– О какой?
– Ты понял, что я хочу сказать.
– Обычно я хорошо себя чувствую.
– Амедео, так не делается. Враньем ты не достигнешь результата. Завтра ты должен уехать, возвращайся домой.
– Пожалуйста… Я должен закончить голову.
– Какую голову? Нет никакой головы.
Я поворачиваюсь и ищу глазами свое рабочее место. Там, где я работал, больше нет моей скульптуры. Пока я был без сознания, кто-то ее унес.
– Где она? Куда вы ее дели?
Никто не отвечает.
– Где моя голова? Я хочу встать.
– Не двигайся.
Я стараюсь освободиться от хватки юноши, который держит мне ноги; он меня отпускает, я поворачиваюсь на бок, убираю лед и пытаюсь подняться. Сердце снова начинает биться сильнее.
– Я хорошо себя чувствую. Мне нужна моя голова.
– Ее больше нет. Я не хочу, чтобы ты здесь оставался. Мне очень жаль.
Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда они ее спрятали, – но ничего не вижу. Делаю несколько шагов – и чувствую, как силы снова покидают меня. Я вынужден остановиться, колени подгибаются – и я оседаю на землю, упираясь в нее руками.
Я поднимаю взгляд на Чекко. Он наблюдает за мной с сочувствием, я же могу только кивнуть в знак капитуляции.
Поезжай!
– Это твое окончательное решение? Ты уверен?
– Да, мама.
Я не могу сказать ему «нет». Жизнь ему уже слишком часто говорила «нет».
Я все же делаю последнюю попытку:
– Когда ты хочешь уехать?
– Как можно скорее.
– Где ты будешь жить?
– В пансионате, а потом найду жилье. У меня есть друзья в Париже. Я не хочу использовать деньги дяди Амедео. Я возьму только небольшую часть.
– Они твои. Это твое наследство, оно принадлежит тебе.
– Я хочу попробовать зарабатывать на жизнь своим трудом.
– Но ты еще не готов!
– Если понадобится, вы мне их будете понемногу присылать.
– Ты хочешь поехать именно в Париж? Не лучше ли выбрать какой-то город поближе?
– Все говорят о Париже, существует только Париж. Я хочу попытаться. Если дела пойдут плохо, я вернусь.
Это слово – «вернусь» – кажется мне полным дурных предзнаменований.
– А не лучше ли Флоренция? Это рядом.
– Во Флоренции ничего не происходит.
У меня нет сил возражать, чтобы заставить его передумать. Я просто боюсь его потерять. Есть различные способы потерять сына, один из них – лишить его свободы и обречь на постепенную смерть рядом с родителями. Но я также боюсь, что меня не будет рядом в сложные моменты, что я не смогу ему помочь, когда у него не будет сил справиться самостоятельно.
– Ты разговаривал с твоим другом, Оскаром?
– Конечно. Он рад за меня.
– Он мог бы поехать с тобой.
– Нет, он убежден, что не заслуживает ничего, потому что родился бедным.
В голосе Дедо я слышу настоящее огорчение из-за разлуки с единственным другом, который всегда был с ним рядом. Даже когда Маргерита говорила о нем плохо, я знала, что Оскар, будучи более взрослым и ответственным, не представлял опасности для моего сына. Если бы Оскар поехал с ним в Париж, мне было бы спокойнее.
– Дедо, я только прошу: не забывай, что ты можешь рассчитывать на свою семью. Деньги дяди Амедео – твои, ты можешь использовать их, как сочтешь нужным. Никогда не отказывай себе в том, что необходимо для твоего здоровья. Все будет зависеть от твоего образа жизни. Пусть у тебя преобладает инстинкт самосохранения, тебе еще многое нужно сделать.
Я улыбаюсь ему и надеюсь, что мое выражение уверенности, которой у меня на самом деле нет, звучит правдоподобно.
Чтобы не потерять его, я должна его отпустить. Я надеюсь, он настолько жаден до жизни, что это наполнит его энергией и здоровьем.
– Поезжай! Поезжай. Не отказывайся от своей мечты. Болезнь – это не ты.
Поезд в Париж. 1906
Больше никакого страха. Только свобода.
Я думаю именно об этом – о свободе от болезни. Чтобы выздороветь, нужна мечта, которую хочется реализовать.
Большинство людей подавляет свои мечты из-за страха. Это самая большая ошибка, которую мы все совершаем. Страх противопоказан творческому импульсу. Кисть не скользит, карандаш упрямится.
Художники не могут вести упорядоченную жизнь – им необходимы смелость и хаос, чтобы научиться чему-то новому.
«Дорогой мой, смелость – это оружие для выздоровления. А ты – самый смелый». Этими словами мать проводила меня на поезд; она поняла, что должна отпустить меня.
Быть вдали от ее покровительства – совершенно новое состояние для меня. Пребывание в Венеции не в счет: я был рядом, в Италии, и со мной был Оскар. В Париже я впервые буду сам по себе, предоставленный всем возможностям – и всем опасностям. Если я почувствую себя плохо, то должен буду рассчитывать только на свои силы. Если у меня поднимется температура, я буду справляться сам. С сегодняшнего дня самый младший Модильяни будет сам о себе заботиться.
Это внушает мне неведомое спокойствие, которое меня сейчас укачивает вместе с ритмичным стуком колес. От постоянного, повторяющегося звука меня клонит в сон.
В полудреме я слышу звук кашля; я не могу проснуться, но этот звук отсылает меня в прошлое. Кашель – как голос. По кашлю можно понять, кто это – женщина, ребенок или мужчина, можно понять возраст человека и произведен ли звук из горла, из бронхов или из глубины легких. Я в этом эксперт. Кашель может быть сухим, мокрым, раздражительным, болезненным… Кашель всегда отражает характер человека. Он может быть сигналом настоящей болезни или только подозрением на нее. Кашель, который я слышу, мне кажется детским. Это мой кашель…
Сон, воспоминания и сновидения. Плеврит. Начало болезни. Воспаление плевры. Это тончайшая мембрана – как лист бумаги; невидимая пленка, которая обволакивает легкие, диафрагму, полость грудной клетки. Плевра раздражена. Воспалена. Боль в груди, высокая температура, бред. Дыхание затруднено. «Дедо, ты меня слышишь?» Дедо уходит. Пронзительный шум. Плевральные листки трутся друг о друга. «Мы его теряем». Это неизлечимо. «Подождем несколько часов. Его спасет только чудо. Подождем».
Но где я? Я сейчас не ребенок; я сейчас в поезде. Поезд в Париж. Я уснул, меня укачало. Но рядом со мной все еще слышится мой кашель. Мне нужно очнуться, чтобы прервать это воспоминание. Я открываю глаза. Напротив меня сидит женщина с ребенком лет восьми. Мальчик постоянно кашляет.
– Прошу прощения, мой сын не может сдержать кашель. Он вас разбудил?
– Ничего страшного. – Я ободряюще улыбаюсь.
Ребенок снова кашляет. Я шарю в кармане и затем наклоняюсь к нему, показывая пралине в цветной обертке.
– Знаешь, что это такое?
Мальчик серьезно кивает.
– Это пралине CriCri[13]. Очень вкусное. Попробуй.
Ребенок смотрит на мать, молча спрашивая разрешение. Женщина улыбается.
Этот мальчик очень похож на меня в детстве.
– Как тебя зовут?
– Серджо…
Мальчик не успевает произнести свое имя, как его сотрясает очередной приступ кашля.
– Прикрывай рот рукой.
Серджо выполняет наказ матери и продолжает кашлять.
– Знаешь, у меня тоже был кашель. Очень сильный.
Этой фразой и конфетой CriCri, которую я держу в руке, я привлек внимание Серджо. Я продолжаю:
– Очень сильный кашель и температура.
– У него то же самое, – мать торопится объяснить ситуацию. – Ему предписали морской климат. Я везу его к дяде в Вильфранш.
– Хорошо… очень хорошо. А пока что возьми конфету. Благодаря CriCri у меня ненадолго проходил кашель.
Серджо смотрит сначала на конфету, затем – умоляюще – на мать.
– Хорошо. Поблагодари синьора.
– Спасибо.
Серджо хватает конфету, разворачивает ее и жадно кладет в рот. Я ему улыбаюсь.
– Вкусно?
Серджо довольно кивает.
– Я знаю, это очень вкусно. И полезно: кашель ненадолго пройдет.
– Вы очень любезны.
Женщина смотрит на меня с молчаливой благодарностью, я ей улыбаюсь.
Глаза в глаза
Только сейчас я замечаю глубину, скрытую в этом мужчине, который младше меня как минимум на семь-восемь лет.
Он красивый, но не только… Он – волнующий. Застенчивый в том, как смотрит на меня и с какой мягкостью разговаривает с моим сыном. Он деликатный – и решительный, сильный, – но и легкий, как пух. На вид он порядочный и спокойный, но в то же время ему удается вогнать меня в краску от мыслей и фантазий, которые ко мне непроизвольно приходят, когда я смотрю на него. Я ощущаю трепет в животе – и краснею; у меня прилив жара. Я боюсь, что он это заметит, и ощущаю себя глупо. Я будто проваливаюсь в бездну, когда чувствую на себе его взгляд; это болезненное ощущение захватывает дух. Я быстро отвожу глаза и смотрю в окно. Он же продолжает рассматривать меня.
– Вильфранш. Должно быть, юг Франции прекрасен.
Я отвечаю, из страха продолжая смотреть в сторону, на сменяющийся пейзаж за окном:
– Думаю, да; мы впервые туда едем.
Он переводит взгляд на моего сына.
– Ты счастливый ребенок, знаешь?
Я слегка поворачиваюсь и исподволь наблюдаю за ним; у него очень нежное лицо, когда он разговаривает с Серджо. Наконец я набираюсь смелости тоже задать ему вопрос:
– А вы куда направляетесь?
– В Париж.
Я улыбаюсь ему, но не могу больше произнести ни слова. Он не замечает моего смущения и облокачивается на спинку кресла, улыбаясь Серджо, который с удовольствием дожевывает конфету и больше не кашляет.
Итальянцы
Я захожу в пансионат, расположенный в районе Мадлен, подхожу к стойке. Хозяйка – немного вульгарная женщина лет шестидесяти – с подозрением оглядывает меня с ног до головы. На мне темный костюм-тройка, белая рубашка, галстук и серое пальто. Я абсолютно уверен, что произвожу впечатление элегантного, воспитанного и вполне состоятельного человека.
– Мне нужна комната.
– На какое время?
– Я пока не знаю.
– Ваши документы.
Я достаю из кармана бумажник и показываю ей паспорт.
– Ах, итальянец… Мы не принимаем итальянцев.
Я улыбаюсь ей, стараясь сохранить невозмутимый вид, достаю из бумажника несколько банкнот и кладу на стойку.
– Я заплачу вперед.
Этого достаточно, чтобы она передумала.
– Комната номер четыре. – Она отдает мне ключ.
– Я бы хотел светлую комнату.
Она смотрит на меня недружелюбно и повторяет:
– Комната номер четыре.
– Синьора, что вы имеете против итальянцев?
– Итальянцы нечистоплотные, шумные и не платят.
Да, первое знакомство с Парижем не воодушевляет.
Я поднимаюсь в свою комнату, раскладываю вещи; у меня их немного – из Ливорно я привез только самое необходимое.
Обстановка мне нравится. Кровать чуть меньше двуспальной, стол, шкаф, умывальник, лакированный таз для воды, пара светильников с абажуром.
Я открываю ставни – и комната наполняется светом Парижа. Хозяйка не обманула: комната действительно светлая. Из окна виден небольшой сад, примыкающий к пансионату; изысканный мужчина лет шестидесяти курит сигару, наслаждаясь солнцем. На улице не очень холодно, несмотря на январь.
Первый, кого я должен найти, – это Мануэль Ортис де Сарате. У меня есть названия всех кафе, где он бывает. Он сказал, чтобы я искал его только там, не дав домашнего адреса, – по его словам, в Париже, если ты небогат, то постоянно меняешь жилье.
Монмартр
Я иду по Монмартру – это холм в северной части Парижа, на правом берегу Сены. Это практически сельская местность, здесь нет ощущения большого города. Из внушительного тут только Базилика Сакре-Кёр, в остальном этот район похож скорее на деревню. Маленькие, ведущие вверх извилистые улочки, ветряные мельницы, фермеры занимаются утопающими в зелени виноградниками. Трактиры, кафе, небольшие ресторанчики. Днем парижане приезжают сюда побыть на свежем воздухе, а ночью – в рестораны и кабаре, переоборудованные из старых мельниц.
Я только что прошел кабаре Moulin Rouge; на афише написано «Вечернее шоу: канкан» и изображена танцовщица в пластичной позе. Немного впереди, где над входом в другую мельницу висит табличка «Folies de Pigalle», стоит девушка лет двадцати и улыбается мне. У нее яркий макияж. Контур глаз темный, а щеки ярко-красные. Несмотря на прохладную погоду, декольте обнажает ее грудь, а разрез юбки открывает ноги.
– Малыш, чем ты занят?
Я улыбаюсь ей и знаками показываю, что не могу остановиться.
– Кого ты ищешь?
– Друга.
– Боже мой, еще один…
Я прохожу мимо и притворяюсь, что не понял ее шутку.
Эти места еще называют La Butte[14] – и я сейчас нахожусь на самой вершине, на площади Пигаль, откуда все улицы идут под уклон.
Я чувствую, что мне тяжело дышать. Иногда необъяснимым образом, когда я делаю усилие, мне как будто не хватает кислорода при вдохе.
Мужчина с тележкой продает какую-то еду – и я решаю воспользоваться случаем наполнить желудок по смешной цене. Я должен всегда помнить о еде: я имею склонность забывать поесть, особенно если мое внимание обращено на что-то более интересное.
– Что это такое?
– Ржаные блинчики.
– Мне один, пожалуйста.
Эта пауза позволяет мне немного отдышаться.
Я уже достаточно высоко поднялся, и с некоторых ракурсов между деревенскими домами виднеются очертания Парижа. Сегодня ясный день, и с холма можно насладиться необыкновенным видом.
Меня переполняют противоречивые чувства и эмоции: страх, одиночество, изумление. Со мной нет никого из знакомых, а Париж слишком большой и неизвестный; мне необходимо найти кого-то, с кем я буду себя чувствовать здесь не таким чужим.
Наконец я вижу на стене название улицы, которую ищу: рю-де-Соль. Теперь мне нужно найти дом номер 22, это должно быть недалеко. Я прохожу еще сотню метров, и передо мной появляется вывеска «Lapin Agile»[15], под ней – еще одна, поменьше: «Cabaret des Assassins»[16]. Рядом с названием – забавный рисунок: кролик выскакивает из кастрюли. Это ресторан, перестроенный из деревенской лачуги, и он кажется мне опасным, напоминает деревенский трактир низкого пошиба.
Я захожу внутрь и оглядываюсь по сторонам, но среди посетителей не вижу никого из знакомых. За стойкой стоит упитанный мужчина с проседью в волосах и огромными усами – похоже, хозяин. На стенах висят многочисленные картины неизвестных мне художников. Тучный официант разглядывает меня какое-то время.
– Вы хотите поесть?
– Нет, спасибо. Я ищу своего друга.
– Как его зовут?
– Мануэль.
Мужчина нервно дергает головой и подходит ко мне ближе.
– Мануэль?
– Ортис де Сарате.
Я даже не успеваю произнести до конца фамилию, как мужчина хватает меня за воротник пальто и толкает к стойке. Все оборачиваются и наблюдают за этой сценой.
– Слушай меня внимательно, идиот. Этот проходимец должен мне кучу денег. Он тут целый месяц питался – и не оплатил ни один счет. Теперь мне заплатишь ты!
– Я? Но я только что приехал из Италии.
– Ты мне заплатишь – и попросишь его вернуть тебе деньги, раз это твой друг.
– Да я даже не знаю, где его искать!
Официант поворачивается к человеку за стойкой:
– Дядюшка Фреде, что будем делать?
– Пусть платит.
Официант прижимает меня к стойке.
– Давай, олух, выворачивай карманы.
В этот момент к нам подходит девушка. Она вызывающе одета и похожа на ту, что я встретил на улице. У нее яркий макияж, а тело едва прикрыто.
– Какое у тебя красивое пальто… Откуда ты знаешь этого голодранца Сарате?
– Я с ним познакомился в Италии.
– На вид ты благородный. Знаешь, он и мне должен денег…
Тучный официант снова хватает меня за ворот и заявляет девушке:
– Отойди… Сначала он должен заплатить мне.
Я делаю робкую попытку отреагировать:
– Я никому не собираюсь платить.
Мужчина берет меня за горло.
– Что ты сказал?
Я кашляю и пытаюсь освободиться от его хватки. Девушка вступается за меня.
– Серж, не преувеличивай… Ты разве не видишь, что парень не той же породы, что Мануэль? Возможно, он говорит правду.
Она гладит меня по волосам и смеется.
– Когда ты приехал?
– Сегодня.
Я смотрю на мужчину передо мной – и, честно говоря, начинаю раздражаться. Я не привык драться, но если он продолжит сжимать мне горло, у меня не останется выбора.
– Ладно тебе, оставь его… – Девушка вновь добродушно просит Сержа и затем поворачивается к мужчине за стойкой: – Дядюшка Фреде, ну полно вам! Он же совсем еще ребенок.
Хозяин ничего не отвечает ей и обращается ко мне напрямую:
– Скажи-ка, ты художник?
– На самом деле я еще не знаю; возможно, скульптор.
– Ты бывал здесь раньше?
– Нет.
– Отпусти его.
Серж бросает на меня презрительный взгляд, но все же отпускает.
– Если ты увидишь Мануэля, ты должен привести его сюда. Ты понял?
Я не очень уверенно киваю. Он повторяет для ясности:
– Ты понял?
– Да, я понял.
Серж разворачивается и уходит. Девушка продолжает мне улыбаться, мы вместе выходим на улицу.
– Ты приехал насовсем? Планируешь остаться в Париже?
– Да.
– Не хочешь со мной развлечься?
– Для начала я хотел бы найти Мануэля.
– Если я тебе скажу, где он живет, – ты вернешься ко мне?
– Конечно.
– Только не говори Сержу, что я знаю, где живет Мануэль.
Я не могу сдержать смех.
– Уж ему-то я точно не скажу.
Я шел полтора часа, заблудился и порядком устал. Я захожу в подъезд и встречаю полную женщину, которая курит вонючую сигарету и пытается закрыть сломанный почтовый ящик.
– Извините, вы не подскажете, где живет синьор Ортис де Сарате?
– А кто его ищет?
– Я его друг из Италии.
– Он и вам должен денег?
– Нет.
– Его многие ищут. Третий этаж. Но я вам ничего не говорила.
– Спасибо.
Я направляюсь к лестнице, но женщина предупреждает меня вдогонку:
– Если он вам должен денег, он не откроет.
Я поднимаюсь. Подхожу к двери и вижу крошечную карточку с инициалами М. О. С.
Я стучу в дверь. Тишина. Жду. Стучу еще раз, снова тишина.
– Мануэль!
Никто не отвечает.
– Мануэль, это Амедео… Амедео Модильяни.
Еще какое-то время сохраняется тишина. Затем я слышу голос Мануэля:
– Ты один?
– А с кем я должен быть? Я только что приехал.
После нескольких поворотов ключа открывается дверь и появляется Мануэль.
– Заходи.
Он берет меня за руку и силой тянет в комнату, затем снова запирает дверь на ключ. Когда мы наконец оказываемся наедине, Мануэль меня обнимает.
– Амедео, ты сделал большой шаг! Ты все-таки приехал.
Он разглядывает меня и смеется.
– Дай на тебя посмотреть… Да ты просто франт! Ты чего так вырядился?
– Как «так»?
– Как богач. Где ты поселился в Париже?
– В пансионате.
– В пансионате? Как турист?
– Я не знал, куда податься; я только приехал.
Мануэль смеется и обращается к кому-то еще:
– Джино, выходи.
Открывается дверь тесной кладовки, из нее появляется энергичный парень с густым чубом.
– Это твой земляк.
Мануэль представляет нас друг другу.
– Амедео Модильяни из Ливорно. Джино Северини из Кортоны.
Джино подходит ко мне и пожимает руку.
– Я живу у Мануэля, но об этом никто не должен знать.
Я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что здесь всего одна комната с одной кроватью и небольшим диваном.
– Вы здесь вдвоем живете?
– Мы делим расходы, – поясняет Мануэль. – Сейчас нет больших заработков…
– Это я уже понял. Меня чуть не придушил один тип, когда я сказал ему, что ты мой друг. Некий Серж.
– Ты заходил в «Проворный кролик»?
– Да.
– Мне жаль, что так получилось…
– Ты сам сказал искать тебя там.
– Это было до того, как я задолжал. Прости.
Я угадываю в лице Мануэля явное замешательство.
– Амедео, извини, что спрашиваю, но ты… уже поел?
– Только один блинчик.
– Значит, ты голоден?
– Немного.
– Пойдем пообедаем?
– Давай, а куда?
– В Италию.
Розалия
– Каждый раз, когда я вижу итальянца, я таю. Ты откуда родом?
Хозяйка говорит с сильным акцентом, не оставляющим сомнений в ее чочарском происхождении; сама она, очевидно, из пригорода Рима.
– Из Ливорно.
– Ах, Ливорно! Красивый город. Я там никогда не была, но один друг мне сказал, что там живут неплохо. Но нет ничего красивее моего Рима и Чочарии, даже Париж с ними не сравнится.
Розалия Тобиа управляет трактиром «У Розали» на рю-Кампань-Премьер в Монпарнасе. Внутри – четыре прямоугольных мраморных стола с чугунными ножками, несколько табуретов и скамеек; заведение вмещает максимум человек двадцать. Кухня здесь по большей части итальянская, а клиенты – художники-голодранцы, рабочие и каменщики.
Джино Северини обнимает Розалию и звонко целует ее в щеку.
– Розалия нас любит. Иногда она нас кормит, а мы платим, когда можем.
– Черт тебя побери! Ваше «когда можем» означает «никогда».
– Не говори так! Как только у нас появятся деньги, мы тебе заплатим.
– Вот именно, это и означает «никогда».
Розалия изучающе оглядывает меня и улыбается.
– Скажите-ка мне, где вы его нашли? Такого симпатичного и порядочного. Какое он к вам имеет отношение? Вы же его испортите.
– Безусловно. Сейчас он буржуа, а через месяц станет таким, как мы.
– Не слушай их, – Розалия обращается ко мне. – Где ты живешь?
– В пансионате…
– Значит, они правду говорят, что ты буржуа.
– Я только что приехал, еще ничего не знаю о Париже.
– Бедняжка… И чем же ты тут хочешь заниматься?
– Я пока не знаю.
– Ой! Ты должен это узнать, и как можно скорее; если ты здесь никто, тебя разорвут на части. Если тебе будут говорить о богеме и искусстве, не слушай. Понятно? Это все неправда. У всех на уме только одно: поесть и пойти по бабам. И для того и для другого нужны деньги. Что вам приготовить? Феттуччине или фрикадельки?
Джино, самый голодный, громко объявляет о своем желании:
– Феттуччине для всех!
– Но сначала скажите, кто будет платить.
Джино и Мануэль поворачиваются ко мне. У меня нет выбора.
– Хорошо, сегодня я вас угощаю.
Розалия поднимается и удаляется на кухню.
– Что это за история с богемой?
Джино смотрит на меня изумленно.
– Ты не знаешь, что такое богема?
– Опера Пуччини.
– Да, но что это такое?
– Цыганская жизнь.
– Да, и это тоже… Но сегодняшняя богема здесь, в Париже, – что это?
– Я не знаю, расскажи мне.
– Это сама парижская жизнь – бедная, свободная, беспорядочная, нонконформистская…
Мануэль дополняет:
– Свобода, красота, истина и любовь.
– Что это означает?
– Представители богемы живут, основываясь на этих четырех ценностях.
Джино сменяет Мануэля, они перебивают друг друга и говорят возбужденно, как будто у них один голос на двоих.
– С одной стороны – наши авангардные идеи, а с другой – общество, не способное меняться.
– Какое отношение это имеет к свободе, красоте… и остальному?
– Нужно провоцировать буржуазию, ломать традиции.
– Каким образом?
– Провоцировать конфликт, развенчивая все предустановленные ценности. Прежде всего, деньги. Уничтожить важность, которую они всегда имели в искусстве. Нужно установить новые межличностные отношения, без помощи денег. Поэтому мы говорим о свободе, красоте, истине и любви.
– Амедео, нужно перестать думать, что хорошее искусство имеет одну цену, а плохое – другую. Наш враг – рынок.
– У художников, музыкантов и литераторов наконец-то появилась возможность покончить с традициями и правилами.
– То есть? С деньгами?
– Именно.
– А есть на что?
– Чтобы поесть, всегда найдется какой-то способ…
Мне сложно понять, о чем они говорят.
– Друзья, вы должны дать мне время все осознать. Мне нужно привыкнуть.
Розалия возвращается с тремя огромными тарелками феттуччине аль рагу. Джино повязывает салфетку вокруг шеи, как ребенок.
– Ваши феттуччине, пальчики оближете.
Розалия ставит тарелки на стол и садится рядом со мной.
– От мысли, что этот парень закончит как вы, у меня все внутри сжимается.
