Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши
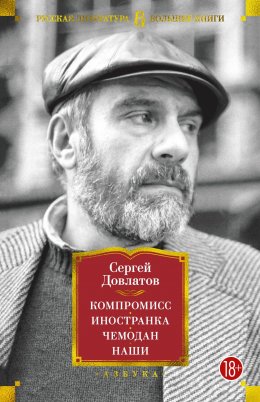
© С. Д. Довлатов (наследники), 2022
© Фотоматериалы Н. Н. Аловерт, 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
Из сборника «Демарш энтузиастов»
Хочу быть сильным
Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. Коллекционировал мелкие деньги. Смущался. Не пил…
Хорошее было время. (Если не считать культа личности.)
Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в девяносто шесть рублей?
Я вел размеренный, уединенный образ жизни и написал за эти годы два письма.
Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь – красивая, исполненная блеска. Там пишут романы и антироманы, дерутся, едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер…
Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина – 340 метров, а ширина и высота зданий – 34 метра. Впрочем, это не имеет значения.
Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции…
Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины! Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяева жизни.
Распахивается дверца собственного автомобиля. Появляются ноги в ажурных чулках. Затем – синтетическая шуба, ридикюль, браслеты, кольца. И наконец – вся женщина, готовая к решительному, долгому отпору.
Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке…
Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве домоуправления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом. Пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова.
– Привет, – сказал мне тренер, – как делишки?
– Помаленьку, – отвечаю. – Где тут выход?..
С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя. Уснувшие за рулем шоферы. Безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую…
Бородатый литсотрудник долго искал мою рукопись. Роясь в шкафах, он декламировал первые строчки:
– Это не ваше – «К утру подморозило…»?
– Нет, – говорил я.
– А это – «К утру распогодилось…»?
– Нет.
– А вот это – «К утру Ермил Федотович скончался…»?
– Ни в коем случае.
– А вот это, под названием «Марш одноногих»?
– «Марш одиноких», – поправил я.
Он листал рукопись, повторяя:
– Посмотрим, что вы за рыбак… Посмотрим…
И затем:
– Здесь у вас сказано: «…И только птицы кружились над гранитным монументом…» Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы?
– Ничего, – сказал я, – они летают. Просто так. Это нормально.
– Чего это они у вас летают, – брезгливо поинтересовался редактор, – и зачем? В силу какой такой художественной необходимости?
– Летают, и все, – прошептал я, – обычное дело…
– Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос?..
От ужаса я стал шевелить пальцами ног.
– Еще один вопрос, последний. Вы – жаворонок или сова?
Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу.
Вслед донеслось:
– Минуточку! Хотите, дам один совет в порядке бреда?
– Бреда?!
– Ну, то есть от фонаря.
– От фонаря?!
– Как говорится, из-под волос.
– Из-под волос?!
– В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно – Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было…
С литературой было покончено.
Дни потянулись томительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн.
Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню, как Тору, – справа налево. Мы заказали блинчики и кофе.
Фрида сказала:
– Все мы – люди определенного круга.
Я кивнул.
– Надеюсь, и вы – человек определенного круга?
– Да, – сказал я.
– Какого именно?
– Четвертого, – говорю, – если вы подразумеваете круги ада.
– Браво! – сказала девушка.
Я тотчас же заказал шампанское.
– О чем мы будем говорить? – спросила Фрида. – О Джойсе? О Гитлере? О Пшебышевском? О черных терьерах? О структурной лингвистике? О неофрейдизме? О Диззи Гиллеспи? А может быть, о Ясперсе или о Кафке?
– О Кафке, – сказал я.
И поведал ей историю, которая случилась недавно:
«Прихожу я на работу. Останавливает меня коллега Барабанов.
– Вчера, – говорит, – перечитывал Кафку. А вы читали Кафку?
– К сожалению, нет, – говорю.
– Вы не читали Кафку?
– Признаться, не читал.
Целый день Барабанов косился на меня. А в обеденный перерыв заходит ко мне лаборантка Нинуля и спрашивает:
– Говорят, вы не читали Кафку. Это правда? Только откровенно. Все останется между нами.
– Не читал, – говорю.
Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым…
Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был, по обыкновению, с некрасивой девушкой.
– В Ханты-Мансийске свободно продается Кафка! – издали закричал он.
– Чудесно, – сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше.
– Ты куда? – обиженно спросил геолог.
– В Ханты-Мансийск, – говорю.
Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома.
Рома обнял меня за ногу и сказал:
– А мы с бабуленькой Кафку читали!
Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу.
– Тебе понравилось? – спросил я.
– Более или менее, – ответил Рома.
– Может, ты что-нибудь путаешь, старик?
Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел:
– РУФКИЕ НАРОДНЫЕ КАФКИ!
– Ты умный мальчик, – сказал я ему, – но чуточку шепелявый. Не подарить ли тебе ружье?
Так я и сделал…»
– Браво! – сказала Фрида Штейн.
Я заказал еще шампанского.
– Я знаю, – сказала Фрида, – что вы пишете новеллы. Могу я их прочесть? Они у вас при себе?
– При себе, – говорю, – у меня лишь те, которых еще нет.
– Браво! – сказала Фрида.
Я заказал еще шампанского…
Ночью мы стояли в чистом подъезде. Я хотел было поцеловать Фриду. Точнее говоря, заметно пошатнулся в ее сторону.
– Браво! – сказала Фрида Штейн. – Вы напились как свинья!
С тех пор она мне не звонила.
Дни тянулись серые и неразличимые, как воробьи за окнами. Как листья старых тополей в унылом нашем палисаднике. Сон, кефир, работа, произведения Золя. Я заболел и выздоровел. Приобрел телевизор в кредит.
Как-то раз около «Метрополя» я повстречал бывшего одноклассника Секина.
– Где ты работаешь? – спрашиваю.
– В одном НИИ.
– Деньги хорошие?
– Хорошие, – отвечает Секин, – но мало.
– Браво! – сказал я.
Мы поднялись в ресторан. Он заказал водки.
Выпили.
– Отчего ты грустный? – Секин коснулся моего рукава.
– У меня, – говорю, – комплекс неполноценности.
– Комплекс неполноценности у всех, – заверил Секин.
– И у тебя?
– И у меня в том числе. У меня комплекс твоей неполноценности.
– Браво! – сказал я.
Он заказал еще водки.
– Как там наши? – спросил я.
– Многие померли, – ответил Секин, – например, Шура Глянец. Глянец пошел купаться и нырнул. Да так и не вынырнул. Хотя прошло уже более года.
– А Миша Ракитин?
– Заканчивает аспирантуру.
– А Боря Зотов?
– Следователь.
– Ривкович?
– Хирург.
– А Лева Баранов? Помнишь Леву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад?
– Баранов в тюрьме. Баранов спекулировал шарфами. Полгода назад встречаю его на Садовой. Выходит Лева из Апраксина двора и спрашивает:
«Объясни мне, Секин, где логика?! Покупаю болгарское одеяло за тридцать рэ. Делю его на восемь частей. Каждый шарф продаю за тридцать рэ. Так где же логика?!.»
– Браво! – сказал я.
Он заказал еще водки…
Ночью я шел по улице, расталкивая дома. И вдруг очутился среди колонн Пушкинского театра. Любовники, бретеры, усачи прогуливались тут же. Они шуршали дакроновыми плащами, распространяя запах сигар. Неподалеку тускло поблескивали автомобили.
– Эй! – закричал я. – Кто вы?! Чем занимаетесь? Откуда у вас столько денег? Я тоже стремлюсь быть хозяином жизни! Научите меня! И познакомьте с Элиной Быстрицкой!..
– Ты кто? – спросили они без вызова.
– Да так, всего лишь Егоров, окончил матмех…
– Федя, – представился один.
– Володя.
– Толик.
– Я – протезист, – улыбнулся Толик. – Гнилые зубы – вот моя сфера.
– А я – закройщик, – сказал Володя, – и не более того. Экономно выкраивать гульфик – чему еще я мог бы тебя научить?!
– А я, – подмигнул Федя, – работаю в комиссионном магазине. Понадобятся импортные шмотки – звони.
– А как же машины? – спросил я.
– Какие машины?
– Автомобили? «Волги», «Лады», «Жигули»?
– При чем тут автомобили? – спросил Володя.
– Разве это не ваши автомобили?
– К сожалению, нет, – ответил Толик.
– А чьи же? Чьи же?
– Пес их знает, – откликнулся Федя, – чужие. Они всегда здесь стоят. Эпоха такая. Двадцатый век…
Задыхаясь, я бежал к своему дому. Господи! Торговец, стоматолог и портной! И этим людям я завидовал всю жизнь! Но про автомобили они, конечно, соврали! Разумеется, соврали! А может быть, и нет!..
Я взбежал по темной лестнице. Во мраке были скуповато рассыпаны зеленые кошачьи глаза. Пугая кошек, я рванулся к двери. Отворил ее французским ключом. На телефонном столике лежал продолговатый голубой конверт.
Какому-то Егорову, подумал я. Везет же человеку! Есть же такие счастливчики, баловни фортуны! О! Но ведь это я – Егоров! Я и есть! Я самый!..
Я разорвал конверт и прочел:
«Вы нехороший, нехороший, нехороший, нехороший, нехороший!
Фрида Штейн
P. S. Перечитайте Гюнтера де Бройна, и вы разгадаете мое сердце.
Ф. Штейн
P. P. S. Кто-то забыл у меня в подъезде сатиновые нарукавники.
Ф. Ш.»
Что все это значит?! – думал я. Торговец, стоматолог и портной! Какой-то нехороший Егоров! Какие-то сатиновые нарукавники! Но ведь это я – Егоров! Мои нарукавники! Я нехороший!.. А при чем здесь Лев Толстой? Что еще за Лев Толстой?! Ах да, мне же нужно перечитать Льва Толстого! И еще – Гюнтера де Бройна! Вот с завтрашнего дня и начну…
Блюз для Натэллы
В Грузии – лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа…
Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает: баррикады пушистых ресниц – неприступны.
В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою – длиннее, и все.
В Грузии – лучше. Там все по-другому…
Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха. Ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет! Твой портрет, Бокучава Натэлла!
О Натэлла! Ты – чаша на пиру бородатых и сильных! Ты – глоток родниковой воды после драки! Ты – грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон! Ты – ливень, который застал нас в горах! И дерево, под которым спаслись мы от ливня! И молния, разбивающая дерево в щепки!.. Ты – юность прекрасной страны!..
Каждое утро Натэлла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли.
Натэлла уплывает, изменчиво белея под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда «изабель». А за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник.
Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.
– Арчил, – заявила ему старуха Кеке Пирадзе, – я жду. Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться.
– Хорошо, – сказал Арчил.
Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке.
Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Натэлла ступает по гладким камням…
Что на свете прекраснее этой картины?! Каково это видеть Арчилу Пирадзе?! Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь?!.
И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше. Затем нажимает курок.
Дым медленно рассеивается, смолкает грохот. Затихает далекое эхо в горах.
– Это опять вы, Пирадзе? – строго говорит Натэлла. – Так я и знала. Сколько это может продолжаться?! Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели пятнадцать суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?
– Я стал другим человеком, Натэлла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я – студент.
– В это трудно поверить.
– У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?
– Взятку кому-нибудь дали?
– Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником.
– Я рада за вас.
– Так вернись же, Натэлла. У тебя будет все – патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать.
– На чем?
– На карусели.
– Не могу. При всем обаянии к вам.
– Я изменился! – воскликнул Пирадзе. – Учусь. Потом и градом мне все достается, Натэлла!
– Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий, я дала ему слово.
– Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу.
– Как она называется?
– Она называется – повесть.
– И больше никак?
– Она называется – Серафимович!
– Лично я импонирую больше Толстому, – сказала Натэлла.
– Я прочту его книги. Пусть не волнуется.
– Тихо! – сказала Натэлла. – Вы слышите?
Из-за кустов доносились нежные слова:
- Ты сказала мне – нет!
- И по снегу, эх, по снегу ушла.
- Был суров твой ответ,
- Ночь в мученьях,
- ах, в мученьях прошла…
По дороге медленно шел киномеханик Гиго Зандукели с трофейной винтовкой. Тридцать шесть лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин.
Завидев Натэллу с Пирадзе, Гиго остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.
– Вы пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлевич? – спросила Натэлла.
– Есть маленько, – ответил Гиго.
– Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гиго! Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он – настоящий мужчина. Я дала ему слово…
Тут вмешался Пирадзе:
– Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бокучаву Натэллу?
– А кто дал это право тебе? – спросил Зандукели.
Одновременно прозвучали два выстрела.
Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем – печальный и укоризненный голос Натэллы:
– Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!
– И верно, – сказал Пирадзе, – зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!
– Пожалуй, – согласился Зандукели.
Пирадзе достал из кармана «маленькую». Сорвал зубами жестяную крышку.
– Наполним бокалы! – сказал он.
Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать.
– Жаль, нечем закусить, – сказал Арчил.
– У меня есть луковица, – обрадовался Зандукели, – держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют.
– Будь здоров, Рабинович Григорий! – сказали они, допивая…
Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе – тесно и сыро.
Завтра в одном ЦКБ инженер Бокучава склонится над кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы.
Натэлла шла вдоль перрона. Остался наконец позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы. Забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед.
Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Натэллу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный – буду идти до конца.
Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей!
Эмигранты
Район Новая Голландия – один из живописных уголков Ленинграда…
Путеводитель
Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн.
В грязном маленьком сквере проснулись одновременно Чикваидзе и Шаповалов.
Ах, как славно попито было вчера! Как громко спето! Какие делались попытки танца! Как динамичен был замах протезом! Как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров! Как был хорош охваченный лезгинкой Чикваидзе! (Выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом.) И как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари… И вот теперь проснулись на груде щебня…
Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали.
Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду.
– Я тебя зарежу! – вскричал Чикваидзе. (Шаповалов отдавил ему ногу.)
– Не тебя, а вас, – исправил Шаповалов.
Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова:
– Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в Доме кино…
С тех пор они не расставались.
Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков.
Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем.
– Где мы находимся? – обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе.
– В Новой Голландии, – спокойно ответил тот.
Качнулись дома. Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту.
– Ничего себе, – произнес Шаповалов, – хорошенькое дело! В Голландию с похмелья забрели!
– Беда, – отозвался Чикваидзе, – пропадем в незнакомой стране!
– Главное, – сказал Шаповалов, – не падать духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Расскажем все чистосердечно, может, и простят…
– Я хочу домой, – сказал Чикваидзе. – Я не могу жить без Грузии!
– Ты же в Грузии сроду не был.
– Зато я всю жизнь щи варил из боржоми.
Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты.
– Обрати внимание! – закричал Чикваидзе. – Вот изверги! Чернокожего повели линчевать!
И верно. По людной улице, возвышаясь над толпой, шел чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки…
– Будем тайком на родину пробираться, – сказал Чикваидзе.
– Беднейшие слои помогут, – откликнулся Шаповалов.
Они перешли мост. Затем миновали аптеку и пестрый рынок.
– Противен мне берег турецкий, – задушевно выводил Чикваидзе.
– И Африка мне ни к чему, – вторил ему Шаповалов.
Друзья шли по набережной. Свернули на людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло мороженое. Улыбались женщины и светофоры.
– Посмотри, благодать-то какая! – неожиданно воскликнул Шаповалов.
– Живут неплохо, – поддакнул Чикваидзе.
– А как одеты!
– Ведь это – Запад!
– Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!
– Еще бы! Тут за этим следят!
Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов.
– Датико, я хочу с тобой поговорить.
– И я.
– А ты презирать меня не будешь?
– Нет. А ты?
– Может быть, того… Ну, как его?.. Убежища попросим… Опять же, частная торговля…
– Ночные рестораны!
– Законы джунглей!
– Торжество бездуховности!
– Ковбойские фильмы!
– Моральное и нравственное разложение! – зажмурился Чикваидзе…
Через минуту друзья, обнявшись, шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.
Победители
Дело происходит в спортивном зале академии Можайского. Все мужчины здесь – широкоплечие. Манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком – Жульверн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку Русский Лев…
Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов.
Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал:
– Прости, что за вопрос тебе достался?
– Пушкин, – говорил один.
– Мне повезло, – восклицал Хачатурян, – именно этого я не учил!
– Лермонтов, – говорил второй.
– Повезло, – восклицал Хачатурян, – именно этого я не учил!
Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано: «Гоголь».
– Вай! – закричал Хачатурян. – Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил!..
Впрочем, мы отвлеклись.
Информатор произнес в микрофон:
– Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска! В красном – Олег Гарбузенко из Мелитополя!
Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты.
Борцы пожали друг другу руки и начали возиться.
Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства.
Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы.
– Пассивная борьба! – выкрикнул информатор. – Спортсменам делается замечание!
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. Бра руле, двойной нельсон, захват, подсечка… Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку…
– Синий не борется! – орали зрители. – Халтура! И красный не борется!..
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали.
Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга.
Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жульверн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов.
Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни.
– Если бы ты знал, как я ненавижу спорт, – произнес Аркадий Дысин, – гипертония у меня.
– И у меня, – сказал Гарбузенко.
– Тоже гипертония?
– Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем – целый день без сна. То одно, то другое…
– Пора завязывать, старик!
– Давно пора…
– Прости, кто выиграл? – заинтересовался очнувшийся Жульверн Хачатурян.
– Какая разница, – ответил Гарбузенко.
Потом он сел на ковер и закурил.
– То есть как? – забеспокоился Хачатурян. – Ведь иностранцы наблюдают! «Расцветали яблони и груши…» – нежно пропел он в сторону западных корреспондентов.
– «Поплыли туманы над рекой», – живо откликнулись корреспонденты Гарри Зонт и Билли Ард.
– Аркаша выиграл, – сказал Гарбузенко, – он красивый, пусть его и фотографируют.
– И ты ничего, – возразил Аркадий Дысин, – ты – смуглый.
– Короче, ты судья, Жульверн Арамович, ты и решай, – высказался Гарбузенко.
– Какой там судья, – покачал головой Хачатурян. – Бог вам судья, ребята.
– Идея! – сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер.
– Орел! – закричал Гарбузенко.
Дысин задумался.
– Решка, – молвил он наконец.
Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка.
– Победила дружба! – торжественно выкрикнул он.
Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон.
Три старушки деликатно уступили им места.
Чирков и Берендеев
К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума.
– Дядя, – сказал он, – помогите! Окажите материальное содействие в качестве двенадцати рублей! Иначе, боюсь, пойду неверной дорогой!
– Один неверный шаг, – реагировал дядя, – ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал.
– Тогда, – сказал Чирков, – разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться.
– И это утопия, – сказал культурный дядя, – взгляни! Видишь, как тесно у нас от импортной мебели? Где я тебя положу? Между рамами?
– Дядя, – возвысил голос захолустный родственник, – не причиняйте мне упадок слез! Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное – сразу иду по неверной дороге.
– Дорогу осилит идущий, – не к месту сказал Берендеев.
– К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоневых кальсон и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы!..
Воцарилась тягостная пауза.
Неожиданно племянник выговорил:
– Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез.
Берендеев приподнял веки. Он просветлел и затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни Осоавиахима. Затем недоверчиво произнес:
– Из буряка?
– Из буряка.
– Очищенный?
– Очищенный.
– Дважды?
– Трижды, дядя, трижды!
– Давай его сюда, – произнес Берендеев, – хочу взглянуть. Просто ради интереса.
Племянник расстегнул штаны и вытащил откуда-то сзади булькающую грелку.
Дядя принес из кухни макароны, напоминающие бельевые веревки. Достал из шкафа стаканы. Грелка, меняя очертания, билась в его руках, как щука.
– Будем здоровы! – сказали они хором.
– Закусывай! – широко угощал дядя. – Соль бери, не жалей!
Они выпили снова, раскраснелись, закурили.
Дядя разлил по третьей и сказал:
– Эх, Митька! Завидую я тебе! Годиков семь пройдет, и не узнаешь ты родной деревни! Колхозные поля зальем асфальтом! Все пастбища кафелем облицуем! В каждом стойле будет телевизор! В каждой избе – стиральная машина! Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней…
– Этот точно, – поддакивал Митя, – это без сомнения.
Он снял дождевик, повесил на гвоздик. Гвоздик оказался мухой и взлетел. Дождевик упал на пол.
– Чудеса, – сказал Митя.
Затем он тайком развязал шнурки на ботинках.
А дядя все не унимался:
– Коммунизм построим! Поголовную безграмотность ликвидируем! Кухарка будет управлять государством!..
– Это бы не худо, – кивал племянник.
– Есть, конечно, недовольные. Которые на службе у империалистов. Декаденты! Но их мало. Заметь, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных…
– Еще бы, – соглашался племянник.
Они снова выпили.
Неожиданно дядя схватил Митю за руку и прошептал:
– Слышь, давай улетим!
– Это как же?! – растерялся племянник.
– Очень просто. Как Валентина Терешкова. Вздохнем полной грудью. Взглянем на мир широко раскрытыми глазами…
Дядя подошел к окну. Затем распахнул его и вылез на карниз. Митя последовал за ним. Под Митиными башмаками грохотало кровельное железо. Из-под ног его шарахнулся голубь, царапая жесть. Пальцами он держался за раму, усеянную бугорками масляной краски.
– Поехали! – скомандовал Берендеев.
– Лечу-у, – отозвался Митя.
И вот герои летят над сонной Фонтанкой, огибают телевизионную башню, минуют пригороды. Позади остаются готические шпили Таллина, купола Ватикана, Эгейское море. Земля уменьшается до размеров стандартного школьного глобуса. От космической пыли слезятся глаза.
Внизу едва различимы горные хребты, океаны, лесные массивы. Тускло поблескивают районы вечной мерзлоты.
– Благодать-то какая! – восклицает полковник.
– Жаль только, выпивка осталась дома, – откликается Митя.
Но дядя уже громко выкрикивает:
– Братский привет мужественному народу Вьетнама! Руки прочь от социалистической Кубы! Да здравствует нерушимое единство стран – участников Варшавского блока!
– Бей жидов, спасай Россию! – откликается Митя…
Приземлились они в два часа ночи. Над дядиным подъездом желтела тусклая лампочка. Черный кот независимо прогуливался возле мусорных баков.
– Ну, прощай, – сказал Берендеев, вынимая ключи.
– То есть как это? – растерялся племянник. – Вы шутите! Вместе космос осваивали, а я теперь должен спать на газоне?!
– Здесь чисто, – ответил ему Берендеев, – и температура нормальная. Июль на дворе. Ну, прощай. Кланяйся русским березам!
Тяжелая, обитая коленкором дверь – захлопнулась.
Несколько минут Чирков простоял в оцепенении. Затем обхватил свою левую ногу. Вытащил зубами из подметки гвоздь, который целую неделю язвил его стопу. Нацарапал этим гвоздем около таблички с дядиной фамилией короткое всеобъемлющее ругательство. Потом глубоко вздохнул, сатанински усмехнулся и зашагал неверной дорогой.
Когда-то мы жили в горах
Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными, таская беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть.
Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи – стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, – огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных.
Шли годы, взвалив на плечи тяжесть расплавленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо. Шли годы…
Когда-то мы жили в горах. Теперь мы населяем кооперативы…
Вчера позвонил мой дядя Арменак:
– Приходи ко мне на день рождения. Я родился – завтра. Не придешь – обижусь и ударю…
К моему приходу гости были в сборе.
– Четыре года тебя не видел, – обрадовался дядя Арменак, – прямо соскучился!
– Одиннадцать лет тебя не видел, – подхватил дядя Ашот, – ужасно соскучился!
– Первый раз тебя вижу, – шагнул ко мне дядя Хорен, – безумно соскучился.
Тут все зарыдали, а я пошел на кухню. Мне хотелось обнять тетушку Сирануш.
Тридцать лет назад Арменак похитил ее из дома старого Беглара. Вот как было дело.
Арменак подъехал к дому Терматеузовых на рыжем скакуне. Там он прислонил скакуна к забору и воскликнул:
– Беглар Фомич! У меня есть дело к тебе!
Был звонкий июньский полдень. Беглар Фомич вышел на крыльцо и гневно спросил:
– Не собираешься ли ты похитить мою единственную дочь?
– Я не против, – согласился дядя.
– Кто ее тебе рекомендовал?
– Саркис рекомендовал.
– И ты решил ее украсть?
Дядя кивнул.
– Твердо решил?
– Твердо.
Старик хлопнул в ладоши. Немедленно появилась Сирануш Бегларовна Терматеузова. Она подняла лицо, и в мире сразу же утвердилось ненастье ее темных глаз. Неудержимо хлынул ливень ее волос. Побежденное солнце отступило в заросли ежевики.
– Желаю вам счастья, – произнес Беглар, – не задерживайтесь. Погоню вышлю минут через сорок. Мои сыновья как раз вернутся из бани. Думаю, они захотят тебя убить.
– Естественно, – кивнул Арменак.
Он шагнул к забору. Но тут выяснилось, что скакун околел.
– Ничего, – сказал Беглар Фомич, – я дам тебе мой велосипед.
Арменак посадил заплаканную Сирануш на раму дорожного велосипеда. Затем сказал, обращаясь к Беглару:
– Хотелось бы, отец, чтобы погоня выглядела нормально. Пусть наденут чистые рубахи. Знаю я твоих сыновей. Не пришлось бы краснеть за этих ребят.
– Езжай и не беспокойся, – заверил старик, – погоню я организую.
– Мы ждем их в шашлычной на горе.
Арменак и Сирануш растворились в облаке пыли. Через полчаса они сидели в шашлычной.
Еще через полчаса распахнулись двери и ворвались братья Терматеузовы. Они были в темных костюмах и чистых сорочках. Косматые папахи дымились на их беспутных головах. От бешеных криков на стенах возникали подпалины.
– О, шакал! – крикнул старший, Арам. – Ты похитил нашу единственную сестру! Ты умрешь! Эй, кто там поближе, убейте его!
– Пгоклятье, – грассируя сказал младший, Леван, – извините меня. Я оставил наше гужье в багажнике такси.
– Хорошо, что я записал номер машины, – успокоил средний, Гиго.
– Но мы любим друг друга! – воскликнула Сирануш.
– Вот как? – удивился Арам. – Это меняет дело.
– Тем более что ружье мы потеряли, – добавил Гиго.
– Можно и пгидушить, – сказал Леван.
– Лучше выпьем, – миролюбиво предложил Арменак…
С тех пор они не разлучались…
Я обнял тетушку и спросил:
– Как здоровье?
– Хвораю, – ответила тетушка Сирануш. – Надо бы в поликлинику заглянуть.
– Ты загляни в собственный паспорт, – отозвался грубиян Арменак. И добавил: – Там все написано…
Между тем гости уселись за стол. В центре мерцало хоккейное поле студня. Алою розой цвела ветчина. Замысловатый узор винегрета опровергал геометрическую простоту сыров и масел. Напластования колбас внушали мысль об их зловещей предыстории. Доспехи селедок тускло отражали лучи немецких бра.
Дядя Хорен поднял бокал. Все затихли.
– Я рад, что мы вместе, – сказал он, – это прекрасно! Армянам давно уже пора сплотиться. Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие… И эти… Как их? Ну? Помесь белого с негром?
– Мулы, мулы, – подсказал грамотей Ашот.
– Да, и мулы, – продолжал Хорен, – и мулы. И все-таки армяне – особый народ! Если мы сплотимся, все будут уважать нас, даже грузины. Так выпьем же за нашу родину! За наши горы!..
Дядя Хорен прожил трудную жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением. Потом обнаружилась растрата – миллион.
Суд продолжался месяц.
– Вы приговорены, – торжественно огласил судья, – к исключительной мере наказания – расстрелу!
– Вай! – закричал дядя Хорен и упал на пол.
– Извините, – улыбнулся судья, – я пошутил. Десять суток условно…
Старея, дядя Хорен любил рассказывать, как он пострадал в тяжелые годы ежовщины…
За столом было шумно. Винные пятна уподобляли скатерть географической карте. Оползни тарелок грозили катастрофой. В дрожащих руинах студня белели окурки.
Дядя Ашот поднял бокал и воскликнул:
– Выпьем за нашего отца! Помните, какой это был мудрый человек?! Помните, как он бил нас вожжами?!.
Вдруг дядя Арменак хлопнул себя по животу. Затем он лягнул ногой полированный сервант. Начались танцы!
Дядя Хорен повернулся ко мне и сказал:
– Мало водки. Ты самый юный. Иди в гастроном.
– А далеко? – спрашиваю.
– Туда – два квартала и обратно – примерно столько же.
Я вышел на улицу, оставляя за спиной раскаты хорового пения и танцевальный гул. Ощущение было такое, словно двести человек разом примеряют галоши…
Через пятнадцать минут я вернулся. К дядиному жилищу съезжались пожарные машины. На балконах стояли любопытные.
Из окон четвертого этажа шел дым, растворяясь в голубом пространстве неба.
Распахнулась парадная дверь. Милиционеры вывели под руки дядю Арменака.
Заметив меня, дядя оживился.
– Армянам давно пора сплотиться! – воскликнул дядя.
И шагнул в мою сторону.
Но милиционеры крепко держали его. Они вели моего дядю к автомобилю с решетками на окнах. Дверца захлопнулась. Машина скрылась за поворотом…
Тетушка Сирануш рассказала мне, что произошло. Оказывается, дядя предложил развести костер и зажарить шашлык.
– Ты изгадишь паркет, – остановила его Сирануш.
– У меня есть в портфеле немного кровельного железа, – сказал дядя Хорен.
– Неси его сюда, – приказал мой дядя, оглядывая финский гарнитур…
Когда-то мы жили в горах. Они бродили табунами вдоль южных границ России. Мы приучили их к неволе, к ярму. Мы не разлюбили их. Но эта любовь осталась только в песнях.
Когда-то мы были чернее. Целыми днями валялись мы на берегу Севана. А завидев красивую девушку, писали щепкой на животе слова любви.
Когда-то мы скакали верхом. А сейчас плещемся в троллейбусных заводях. И спим на ходу.
Когда-то мы спускались в погреб. А сейчас бежим в гастроном.
Мы предпочли горам – крутые склоны новостроек.
Мы обижаем жен и разводим костры на паркете.
НО КОГДА-ТО МЫ ЖИЛИ В ГОРАХ!
Иная жизнь
Сентиментальная повесть
1. Начало
Мой друг Красноперов ехал во Францию, чтобы поработать над архивами Бунина. Уже в Стокгольме он почувствовал, что находится за границей.
До вылета оставалось три часа. Летчики пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала «Муму». Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали.
Мой друг вздохнул и направился к стадиону Улеви.
День был теплый и солнечный. Пахло горячим автомобилем, баскетбольными кедами и жильем, где спят не раздеваясь.
Красноперов закурил. Огонек был едва заметен на солнце.
«Как странно, – думал он, – чужая жизнь, а я здесь только гость! Уеду – все исчезнет. Не будет здания ратуши. Не будет ярко выкрашенных газгольдеров. Не будет рекламы таблеток от кашля. Не будет шофера с усами, который ест землянику из пакета. Не будет цветного изображения Лоллобриджиды в кабине за его спиной… А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет? Останется мостовая, припадет к иным незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты „Памир“… Иная жизнь, чужие люди, тайна…»
2. Чужие люди
Впервые он познал чужую жизнь лет двадцать пять тому назад. Однажды в их квартиру пришли маляры. Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух. Они были грязные и мрачные – эти неопохмелившиеся маляры. Они переговаривались между собой на иностранном языке.
Например, один сказал:
– Колотун меня бьет!
Другой ответил:
– Мотор на ходу вырубается…
Родители Красноперова засуетились. Папа тоже вдруг заговорил на иностранном языке.
– Сообразим, братва! – задорно крикнул непьющий папа.
И ринулся за водкой.
А мама осталась в комнате. Наблюдать, чтобы маляры не украли серебряные ложки.
Затем вернулся папа. Он чокнулся с малярами, воскликнув:
– Ах ты, гой еси…
Или что-то в этом роде.
Папа хотел угодить малярам и даже негромко выругался. Мама безуспешно предлагала им яблочный конфитюр. Юный Красноперов тоже протянул малярам руку дружбы и задал вопрос:
– Дядя, а кто был глупее, Маркс или Энгельс?
Однако маляры не захотели вникать и хмуро сказали:
– Не знаем…
Наконец маляры ушли, оставив в квартире след чужой и таинственной жизни. Папа и мама облегченно вздохнули. Серебряные ложки остались на месте. Исчезла только недопитая бутылка водки…
3. Что бы это значило?
Красноперов шел по набережной Меллерстранд. Из ближайшего кафе доносились звуки виброфона. Вспыхивали и гасли огни реклам.
Через висячий мостик проходила юная женщина с цветами. У нее были печальные глаза и розовая кожа. Она взглянула на Красноперова и пошла дальше, еще стройнее, чем была. Она достигла середины моста и бросилась в реку. Мелькнула голубая блузка и пропала. Цветы несло течением под мост.
Мимо ехал полицейский на велосипеде. Он резко затормозил. Потом зашнуровал ботинок и умчался.
По-прежнему гудели автомашины. Не торопясь шли монахини в деревянных сандалиях. Шагали бойскауты в джинсах. Чиновники без пиджаков.
Горело солнце. Лучи его вспыхивали то на ветровом стекле мотороллера, то на пуговицах бойскаутов. То на велосипедных спицах.
Был обеденный час. Сыры на витринах размякли от зноя. Бумажные этикетки пожелтели и свернулись в трубочки.
Красноперов ускорил шаги. На душе у филолога было смутно. Он перешел в тень. Слева тянулась изящная ограда Миллес-парка. За оградой в траве бродили голуби. Еще дальше филолог увидел качели. Несколько белеющих статуй. И двух лебедей на поверхности чистого озера.
Вдруг кто-то окликнул его по-шведски. За оградой стоял мужчина лет тридцати. Он был в твидовом пиджаке и сорочке «Мулен». Оксфордские запонки горели в лучах полуденного солнца.
Мужчина что-то сказал. Красноперов не понял.
Незнакомец досадливо махнул рукой. Затем он докурил сигарету, развязал галстук и умело повесился на ветке клена. Его новые стетсоновские ботинки почти касались густой и зеленой травы. Тень на асфальте слегка покачивалась.
Красноперов хотел закричать, вызвать полицию. Он свернул в ближайший переулок. На балконе третьего этажа загорал спортивного вида юноша.
– Молодой человек! – позвал Красноперов.
Тотчас же, отложив недочитанную книгу, юноша прыгнул с балкона вниз головой. От страшного удара безумец стал плоским, как географическая карта. Машины тесным потоком катились вперед, огибая несчастного.
4. Родной, знакомый, неприятный
В сутолоке теней достиг наш герой проспекта Кунгестартен. Он был напуган и подавлен. На его глазах происходило что-то страшное.
Вдруг его потянули за рукав. Рядом стоял человек в цилиндре, галифе и белых парусиновых тапках. Мучительно родным показалось Красноперову лицо его. Что-то было в нем от родимых, далеких, покинутых мест. Однообразие московских новостроек. Широкий размах волжской поймы. Надежная простота телег и колодцев.
– Красноперов, будь мужчиной! – произнес человек.
– Кто вы?
– Твоя партийная совесть.
– Объясните мне, что здесь происходит? На моих глазах три человека умышленно лишили себя жизни.
Незнакомец улыбнулся и голосом вокзального диктора произнес:
– Вопреки кажущемуся благополучию, на Западе растет число самоубийств. – И добавил: – ЦО «Правда» от шестого декабря. Разве ты, Красноперов, газет не читаешь?
– Я читаю… Значит, все это более или менее нормально?
– Абсолютно нормально. Скандинавия задыхается в тисках идейного кризиса. «Московский комсомолец» от двенадцатого июля.
– Мне, знаете ли, на аэродром пора.
– Прощай, Красноперов. Зря в баскетбол не играешь, фактура у тебя подходящая.
– А я играю, – живо возразил Красноперов, – за честь института.
– Так я и думал, – сказал незнакомец, – всех благ!
– Будьте здоровы.
– А ты будь на уровне предначертаний минувшего съезда. «Известия» от второго апреля. И помни, я – твоя совесть. Я всегда с тобой.
5. Каждому по яблоку
Красноперов, человек умеренный и тихий, спорил редко. Он неизменно заходил в дверь последним. Независимые, дерзкие люди очень ему импонировали.
Десять лет назад его кумиром был Андрей Рябчук. Они познакомились в казарме стройбата. Красноперов был новобранцем, а Рябчук донашивал третью пару хлопчатобумажного обмундирования.
Произошло это зимой. Рябчук явился в заснеженный поселок с очередной гауптвахты. Он был худой и загорелый среди зимы, триумфатор по виду.
Рядом, опережая слухи, шла девушка. Она была такая легкая и воздушная на фоне пожарного стенда. Ее следы на заснеженном трапе казались чудом.
Новобранцы столпились возле гимнастических брусьев. Рябчук прикурил у дневального. Затем, сопровождаемый восхищенным безмолвием, достиг тридцатиместной палатки, которая чернела на отшибе.
Летом здесь размещалась батальонная футбольная команда. Осенью спортсмены разъехались, заколотив палатку досками.
Рябчук без натуги оторвал эти доски и проник. Нары были завалены матрасами, из которых торчало сено. В углу лежали сырые, грязные подушки. Рябчук потрогал матрасы и сказал:
– Это не пух…
Затем коснулся наволочек и добавил:
– Это не батист…
Потом он забил вход изнутри. Поломал грубый стол, на котором была вырезана однообразная матерщина. Растопил им печь. И зажил до утра.
Всю ночь из трубы шел дым. Всю ночь желтели окна казармы. Солдаты не могли уснуть. Знали, что в двух шагах под холодным брезентом торжествуют отвага и удаль. Безграничная нежность южанина и упорство гвардейца…
Наутро Рябчук оторвал доски и вышел, шатаясь, бледный и слабый. В трех метрах от палатки был расположен финиш ежегодного лыжного кросса. Желтела тумбочка с медикаментами. Рядом толпились офицеры. В руках подполковника Гречнева сиял хронометр.
Андрей Рябчук вернулся, пятясь. Его обнаружили через неделю.
– Прощайся с шалавой и едем на гауптвахту! – кричал майор Анохин.
Марина не плакала. Она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела.
Рябчук направлялся к военной машине, без шапки, с поцарапанным лицом. Вид у него был счастливый и хамский. Даже конвоиры завидовали ему.
Рябчук прошел мимо, едва не задев Красноперова. Роняя на будущего филолога отблеск чужой, замечательной и таинственной жизни.
С тех пор они не виделись. Рябчука увезли на гауптвахту. А Красноперов через несколько дней был откомандирован в Ленинград. Его назначили завклубом при штабе.
6. Совсем, совсем черный
Возле самолета белели окурки. На площадке трапа царила стюардесса. ТУ-124 был ей к лицу.
Через минуту она шла вдоль кресел, проверяя, застегнуты ли ремни. Слушаться ее было приятно.
У стюардессы были манеры кинозвезды. Голубое форменное платье казалось случайной обузой.
Красноперов заглянул в иллюминатор. Лопасти винта образовали мерцающий круг. Трава пригнулась к земле. Через минуту самолет поднялся. Мой друг увидел странно неподвижное крыло его.
Соседом оказался негр в замшевых туфлях и малиновом клубном пиджаке.
– Вы откуда? – спросил Красноперов.
– Из Южной Родезии, – ответил чернокожий, доставая портсигар.
Сигарета, как тонкая белая леди, поникла в его огромных руках.
– О, Южная Родезия, – повторил Красноперов, – там неспокойно?
– Еще как, – ответил негр, – просто жуть! Однажды я ехал на мопеде к своей девчонке. А из джунглей как выскочит тигр! Да как бросится на меня!..
И снова достиг Красноперова отголосок чужой, непонятной, таинственной жизни. Он расслышал грохот накаленных солнцем барабанов. Увидел пробковые шлемы, блестящую от крокодилов воду Замбези. И полосатых тигров, грациозных, хищных, самоуверенных, как девушки на фестивале мод.
«Чужая жизнь, – подумал Красноперов, – тайна».
7. Нищий
Это было сразу после войны. В квартиру постучался нищий. Накануне праздновали мамин день рождения. Все решили, что вернулся Мухолович доедать заливное.
Мама отворила дверь, растерялась. С тревогой оставила нищего в прихожей, где лежали меховые шапки. Дрожащими руками налила стакан «Алабашлы».
Нищий ждал. Он был в рваном плаще. Следов увечья не было заметно.
Нищий молчал, заполнив собой все пространство отдельной квартиры. Гнетущая тишина опустилась на плечи. Тишина давила, обжигала лицо. От этой тишины ныл крестец.
Мама вынесла стакан на чайном блюдце. Нищий, так же глядя в пол, сказал:
– Я не пью, мамаша. Дайте хлеба…
Потом Красноперов часто видел нищих. Как-то раз в пригородную электричку зашел человек. Он развернул бесстыжие меха гармошки и запел:
- Вас пятнадцать копеек не устроят,
- Мне же это – доход трудовой…
Это был фальшивый нищий, почти артист. А вот того парня, без следов увечья, Красноперов запомнил. И тишину в коридоре. И обмерших зажиточных родителей…
В этот момент пилот обернулся и спросил:
– Налево? Направо?
Мгновение был слышен четкий пульс компьютеров.
– Направо! – закричали те, кто уже летал по этому маршруту.
8. Куда ехать?
В Орли Красноперова поджидал собкор «Известий» Дебоширин. Его манерам соответствовал особый генеральский падеж, который Дебоширин использовал в разговоре.
– Как чувствуем себя? – поинтересовался он.
– Отлично, благодарю вас.
– А выглядим неважно.
– Все-таки дорога.
– Может быть, у вас просто интеллигентное лицо?
– Не исключено, – смущенно выговорил Красноперов.
Они пересекли залитую солнцем гладь аэродрома. На шоссе их поджидала машина.
– Куда ехать, мсье? – спросил шофер.
– В Париж, – ответил Дебоширин.
– А где это? – спросил шофер. – Налево? Направо?
– Ох уж это мне французское легкомыслие, – проворчал Дебоширин. И вслух указал: – Поезжайте на северо-запад.
– А где тут северо-запад? – удивился шофер. – Я в этих местах полгода не был.
– Идиот! – простонал Дебоширин.
– Тут все изменилось, – сказал шофер, – новый кегельбан открыли у дороги. Где теперь северо-запад, ума не приложу.
– А где он был раньше? – спросил Дебоширин.
– Там сейчас багажный конвейер, – ответил шофер.
– Вон Эйфелева башня, – закричал Красноперов, – я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир!
– Какая еще Эйфелева башня, – возразил шофер, – да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты.
– Поезжайте, – сказал Дебоширин, – сориентируемся в дороге.
9. В Париже
Они летели по узкому и ровному, как выстрел, шоссе мимо густых зарослей жимолости. Ветки с шуршанием задевали борта автомобиля. Белые, сияющие воды Уазы несли изысканный груз облаков. Иногда дорога сбрасывала гнет полосатой запутанной тени кустарников. И тогда солнце отчаянно бросалось под колеса новенького «рено».
У обочины косо стояла машина. Хозяин, нагнувшись, притирал клапана.
– Как ехать в Париж? – спросил Дебоширин.
Хозяин шевельнул губами и кончиком сигареты указал направление.
– Разворачивайся, – сказал шоферу Дебоширин.
Они развернулись и поехали дальше.
Вдоль шоссе стояли дома под красной черепицей. Белели окна, задернутые легкими марлевыми шторами.
– Шестнадцать лет живу в Париже, – сказал Дебоширин, – надоело! Легкомысленный народ! Все шуточки у них. Ни горя, ни печали. С утра до ночи веселятся. Однажды я не выдержал. Лягнул себя ногой в мошонку. Мука была адова. Две недели пролежал в больнице. Уколы, процедуры. Денег фуганул уйму. Зато душою отдохнул. Почувствовал себя как дома. Пока болел, жена удрала с шофером иранского консульства графом Волконским. С горя запил. Все дела забросил. Партийный выговор схватил. Зато пожил как человек. По-нашему! По-русски!..
Через несколько минут они достигли Парижа. Промчались вдоль решеток Люксембургского сада.
– Хватит, – говорил Дебоширин, – надоело! Балаган, а не держава. Вот, например, говорят – стриптиз, стриптиз! Да что особенного?! Видел я ихний стриптиз. То ли дело зори на Брянщине! Выйдешь, бывало, на дальний плес. Малиновки поют. Благодать. А что стриптиз?! Вырождается ихний стриптиз. В «Фанданго» подвизается мадемуазель Бубу. Раздетая девка, не больше. То ли дело мадемуазель Кики, оставившая сцену после замужества! Та была поистине обнаженной. И обе в подметки не годились мадемуазель Лили. Лили была совершенно голой!..
«Рено» затормозил у помпезных ворот отеля «Невеста моряка».
– Ну вот, – сказал Дебоширин, – приехали. Тут вам забронирован номер. Отдохните, примите ванну. К семи вас будет ожидать мсье Трюмо. Увидите его в пресс-баре. Трюмо – известный французский поэт, композитор, режиссер. Трюмо расскажет вам о бунинских архивах.
– Мерси, – сказал Красноперов, – вы очень любезны.
– Надеюсь, вам здесь понравится. Отличная кухня, просторные номера. Главное – обратите внимание на хозяйку.
– Непременно, – сказал Красноперов, – мерси.
– Ну, до вечера…
10. Сновидение
Лифт, тихонько звякая, остановился на площадке шестого этажа. Филолог отворил дверь. Принял душ. Заказал себе в номер омлет и бутылку кефира.
В дверь постучали.
– Как чувствует себя русский гость? – поинтересовалась хозяйка.
Хозяйка была стройная, высокая и легкая – тень кипариса. Она стояла на пороге. При этом мчалась ему навстречу. Одновременно пятилась назад. А глаза ее – два ялика, две шлюпки, две пироги – звали Красноперова в открытое море удачи.
Филолог якобы ринулся к ней. Сорвал одежду. Буйно кинул женщину в заросли папоротника. Могучими и нежными ладонями развел ее колени…
– Мерси, – сказал Красноперов, – я всем доволен.
– Не стесняйтесь, – произнесла хозяйка, – будьте как дома. Девиз нашего заведения – комфорт, уют и чуточку ласки.
Женщина ушла, и Красноперов застенчиво опустил бедноватые свои ресницы.
С улицы через распахнутые окна доносился шум толпы. Звенели крики мальчишек-газетчиков. Наводило грусть пение уличных артистов.
На паркете вздрагивал зеленоватый отблеск рекламы хвойного мыла.
Мой друг взволнованно шагал по комнате. Затем свернул ратиновое пальто. Сунул его под голову и заснул.
По бульвару Капуцинов шел Уж. Он был в свитере и застиранных джинсах. Нарядные девицы, глядя ему вслед, кричали:
– Рожденный ползать летать не может!
– И не хочет, – реагировал Уж.
Затем серьезно добавлял:
– «Песня о Соколе» – далеко не лучшее у Горького. Как минимум – в художественном отношении. Если разуметь под художественностью комплекс средств, усиливающих эмоциональное воздействие на читателя.
По этой единственной реплике можно было судить о высоком интеллекте Ужа. Однако девчонки игнорировали его замечание. И шли себе дальше, заворачивая на ходу все гайки.
Уж грустно продолжал:
– Какая разница – где твое место? В небе или среди холодных камней! Главное, чтобы жизнь твоя была украшена сиянием добрых побуждений. Благородные идеалы – единственное, что поднимает нас до заоблачных высот…
И он принимался насвистывать свою любимую мелодию в ритме ча-ча-ча:
- Уж!
- Небо осенью дышало,
- ча-ча-ча!
- Уж!
- Реже солнышко блистало,
- ча-ча-ча!..
Уж двигался по людной магистрали. Навстречу шли четверо полицейских. Между ними, прихрамывая, ковылял Сокол в наручниках. Полицейские вели его туда, где блестела красным лаком закрытая машина с решетками на окнах.
11. Нельзя
Филолог проснулся, обрел сосредоточенность. Сунул ноги в остывшие шлепанцы. Подошел к окну.
День, замирая, тянулся к вечеру. Сумерки прятались в каменных нишах. Тени каштанов упали на мостовую.
Красноперов надел чистую сорочку и повязал галстук. Затем спустился в холл. Его внимание привлек газетный киоск. Среди пестрых журнальных обложек филолог заметил книги на русском языке.
Мелькнула знакомая фамилия – Живаго.
Он двинулся к прилавку. Кто-то сразу же взял его за руку.
Красноперов, соскучившись, обернулся – цилиндр, галифе, парусиновые тапки. Цинковые строгие глаза. Кожа цвета воды на столе президиума.
– Не покупай, – внятно шепнул человек, – категорически.
– Но почему? – спросил Красноперов.
– По известным причинам.
– А-а…
– Что угодно, только не это. Вот, например, порнографические журналы. Бери хоть целую дюжину. Эвон на обложке: птеродактиль живет с канарейкой. Покупай на здоровье. А этого «Доктора» – ни в коем случае.
– Но кто вы?
– Твоя совесть, Красноперов!
– Вы что, следите за мной?
– Без сна и покоя.
– Но почему, зачем?
– Работа, – с внезапной грустью произнес человек.
– И одеты вы как-то странно.
– Странно одет?
– Вы только не обижайтесь. Но галифе, цилиндр, тапки…
– Это еще что! Ты бы знал, как я питаюсь!
– А как вы питаетесь?
– Собака не будет есть того, чем я питаюсь. Платят сущие гроши. Денег почти нет.
– А у меня почти есть, – горделиво сказал Красноперов, – бросайте вы это занятие.
– Я и то думаю, – вздохнул человек, – может, политического убежища спросить? Только кому я нужен без диплома?!
– Я вам искренне сочувствую.
– Ладно, – сказал человек, – можешь идти. А книгу не покупай. Ничего особенного. От умного человека слышал. На допросе.
– Мне обидно за вас, – сказал Красноперов.
– Ерунда. Я заочно на сторожа учусь. Специальность освою и брошу это дело к чертовой матери!..
12. И дыма не осталось
Человек в галифе, распахнув тяжелые двери, удалился.
Вечернее солнце припадало к окнам и бортам автомобилей. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам. Часы на фронтоне королевской библиотеки пробили семь.
Человек в галифе остановился и сунул руку за пазуху. Там, в духоте, нащупал он стофранковую купюру, приколотую английской булавкой. Подержав купюру на ладони, он задумался. Потом решительно шагнул к сияющим витринам универсального магазина «Балансиага». Через десять минут он вышел оттуда, взволнованный и порозовевший. В руках у него была коробка, перевязанная голубою лентой. Оставалось еще двадцать франков и порыв. Мужчина перешел через дорогу, купил у рыбного лотка баночку сардин в томате. Сунув ее в карман галифе, мужчина зашагал домой. Он чувствовал бедром холодную тяжесть консервов. Ощущал сквозь картон прохладу нейлоновой рубашки.
Дома он швырнул цилиндр в угол. Разорвал зубами голубую ленту. Стащил через голову полинявшую бобочку. Затем, содрогаясь, облачился в нейлон.
Холодная ткань прикасалась на сгибах к бесталанной душе его.
Рубаха излучала приятный мерцающий свет. Ее великолепие казалось дерзостью на фоне убогих стен и закопченного потолка.
Встревоженно тикал будильник. На обоях шелестели сальные пятна.
Человек в нейлоновой рубахе подошел к столу. Вынул из кармана баночку сардин. Достал консервный нож. Затем решительным движением вспорол податливую жесть. После этого он вскрикнул, уронил руки, несколько минут сидел без движения. На груди его медленно расплывалось пятно томатного сока.
Он не заметил, как прошел час. Встал, принес из кухни эмалированный тазик. Налил туда бензина из канистры, принадлежащей соседу, водителю школьного автобуса. Затем осторожно снял рубаху и начал полоскать ее в тазу.
Сначала исчезло пятно. Вслед за этим начисто растворилась сорочка. И только пуговицы отвратительной белой горкой лежали на дне.
Полуодетый человек шел вдоль коридора. Вся жизнь, полная разочарований, мерзости и кошмара, толпилась, хохоча, у него за спиной.
Человек опрокинул бензин в унитаз. Пуговицы звякнули о кафель.
Он на мгновение задумался. Потом ослабил ремень и спустил галифе. Гладкой прохладой стульчак напоминал об утрате.
Человек достал папиросу, закурил и, чуть отстранившись вбок, уронил спичку.
Раздался взрыв. Пламя, как недорезанный гусь, вырвалось из унитаза. Полуодетый человек, стреноженный диагоналевыми галифе, рванулся и упал.
Через минуту все было кончено. Лишь в унитазе чернела горсточка пепла.
13. Разговоры
В баре отеля Красноперова поджидал собкор Дебоширин. Рядом сидел мужчина в полотняном костюме. Завидев советского филолога, оба встали.
– Где вы пропадаете? – сказал Дебоширин. – Мы ждем. Разрешите представить вам мсье Трюмо. Он любезно согласился вас консультировать.
Бармен протянул Красноперову фужер с зеленоватым напитком и два ореха.
В баре становилось тесно. Над головами шумел вентилятор.
– Как вы устроились? – спросил Дебоширин. – Надеюсь, прилично?
– Вполне, – ответил Красноперов, – благодарю. Вы рекомендовали мне присмотреться к хозяйке. В чем дело?
– Ха, у нее же люэс! – вскричал Дебоширин.
– Не понимаю.
– Ну, люэс, бытовичок, сифон…
«Господи! – подумал филолог. – Как хорошо, что я оробел! Какое счастье, что я противен женщинам!»
14. Лирическое отступление
Красноперов всегда их боялся. То есть он понимал, что когда-нибудь женится. Женится на базе обоюдной спокойной приязни. Вырастит сына. Приобретет в кредит телевизор. Изменит привычки. Но все-таки он их боялся.
Он рассуждал:
– Как же так?! Твоя единственная жизнь, столь ясная, понятная, родная, – будет принадлежать другому человеку? А непонятная, загадочная и, мало этого, подозрительная жизнь другого человека вдруг отчасти станет твоей? И уже трудно этого человека обидеть, не обидев заодно – себя. И даже подарок нельзя ему сделать беспечно. То есть вручил и, как говорится, – с плеч долой. Э, нет! Купишь что-то, вручишь и себя же неестественным образом порадуешь… Загадка…
Однажды Красноперов ужинал в знакомой профессорской семье. Старик-профессор расшалился, лаял, кукарекал. Его жена гостям подкладывала торт. Дочка меняла пластинки.
Засиделись, взглянули на часы – половина третьего. Автобусы не ходят. Такси не поймаешь – суббота.
Квартира большая – постелили филологу между роялем и стереоустановкой. Наутро поднялся Красноперов, выпил чаю, хотел уходить. И вдруг замечает – как-то странно дочурка поглядывает… Папаша косится… Мать, наоборот, опускает глаза… Короче, все не просто… И дочка в байковом халате, этак по-семейному… Как будто ждут чего-то… Может быть, совместных действий…
В общем, удрал Красноперов. И больше в этом доме не появлялся.
15. Разговоры
(Продолжение)
– Во Франции очень распространены инфекционные болезни, – многозначительно подмигнул Дебоширин.
– В колчане Амура попадаются отравленные стрелы, – добавил Трюмо.
Затем спросил:
– А как с этим делом в России?
– Венерические болезни изжиты, – отчеканил Красноперов, – нравственность повышается ежегодно.
– Нашел чем хвастать, – проворчал Трюмо.
– Здравоохранение в нашей стране достигло…
– Пропаганда? – насторожился француз.
– Господа, – вмешался Дебоширин, – не будем касаться политики. Вернемся к литературе.
– Вы читали мои произведения? – спросил Трюмо.
– Читал ли я ваши произведения? – замешкался Красноперов.
– Напрасно, – вымолвил эссеист, – смею думать, они гениальны. В последние годы я занимаюсь фольклором… Фольклор, фольклор, как бы это перевести?
– Фольклор так и будет – фольклор, – сказал Дебоширин.
– В центре моей диссертации, – продолжил Трюмо, – лежит окулистический разбор сказки «Красная Шапочка».
– Чуть подробнее? – заинтересовался наш герой.
– Не выпить ли? – сказал Дебоширин.
– Я выдвинул, – продолжал мсье Трюмо, – оригинальную идею. Я сумел доказать, что у внучки не могло быть красной шапочки. Известно, что красный цвет отпугивает волков. Недаром охотники пользуются заграждениями, увешанными красными флажками. Волк не решился бы съесть обладательницу красной шапочки. Отсюда – вывод. Либо там фигурирует не волк, а бык. Но это противоречит фабуле Перро. Либо волк был дальтоником!
– Меня чрезвычайно заинтересовало ваше открытие, – произнес Красноперов.
– В дальнейшем я намерен подвергнуть окулистическому разбору «Красное и черное» Стендаля. А потом и «Зеленые цепочки» Матвеева.
– За ваш успех! – произнес Красноперов.
Дебоширин позвал официанта и заказал три бифштекса.
Бармен, выдвинув антенну транзисторного приемника, слушал джаз. Парни в замшевых куртках столпились у телевизора. На экране сборная Дижона проигрывала тайм. Наиболее темпераментные болельщики кричали и жестикулировали.
Официант принес металлические тарелки с бифштексами. Дебоширин ковырнул мясо вилкой и сказал:
– Из-за такой говядины вспыхнул мятеж на броненосце «Потемкин».
– Пропаганда? – насторожился эссеист.
– А мне нравится, – произнес Красноперов. – Вы давно из Союза?
– Пятнадцать лет на чужбине, – ответил Дебоширин.
– Тогда все ясно, – улыбнулся наш герой.
Сборная Дижона уверенно проиграла. Парни в замшевых куртках окружили электрический бильярд «Цинцин».
Разговор между Красноперовым и Трюмо принял строго научный характер.
– Кафка! – восклицал Трюмо.
– Федин, – с улыбкой парировал Красноперов.
– Феллини! – не унимался эссеист.
– Эльдар Рязанов, – звучало в ответ.
– Сальвадор Дали!
– Налбандян!
– Иегуди Менухин!
– Пожлаков!
– Бунин! – выкрикнули они хором.
– Ах да, – произнес Красноперов, – Бунин! Конечно же Бунин! Ведь меня, собственно, интересуют архивы Бунина.
16. Речь о Бунине
– Бунин? – переспросил Трюмо. – Знавал я этого Бунина в Грассе. Все писал чего-то.
– Он самый.
– Бывало, пишет, пишет… И чего, думаю, пишет? Раз не удержался, заглянул через плечо, а там – «Жизнь Арсеньева».
– Если можно, чуть подробнее, – сказал Красноперов.
– Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают…»
Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул.
– Однажды, – продолжал Трюмо, – Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили.
Красноперов записал все это. Потом сказал:
– Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики «Темных аллей», фотоснимки.
– Что может быть проще?! – сказал Трюмо. – Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь… Завтра садимся в машину и едем.
– Чудесно, – сказал Красноперов, – замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта. Но хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России.
– Пропаганда? – встрепенулся Трюмо. – Отказываюсь ехать!
– То есть?
– Не покажу дороги.
– Господа, – вмешался Дебоширин, – что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к «Максиму». Там новое ревю.
– Я не поеду, – испуганно сказал Красноперов, – у меня дела.
– Какие?
– Баня, стирка.
– Вы не романтик, – сказал Дебоширин, – это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к «Максиму»!.. Это все равно что посетить Союз и не увидеть Мавзолея…
17. Пойду к «Максиму» Я…
Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили…
– Едем, – твердил Дебоширин, – реализуем гарантированное Конституцией право на отдых!
– Не могу, – отвечал Красноперов.
– Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать. Только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки.
– Виноват, – сказал Красноперов, – не могу. Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа.
«Однако, – задумался филолог, – уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? В элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч? Может быть, там настоящая жизнь? А все остальное – миф и химера?..
Ну хорошо, съем я еще две тысячи голубцов. Выпью две тысячи бутылок кефира. Изношу пятнадцать темно-серых костюмов. А счастья так и не увижу… Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в „Огоньке»“… Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет! Ни в коем случае! Нельзя! И не о чем тут говорить! Все, не еду! А может быть, рискнуть?»
18. Чрево Парижа
Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «рено». Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.
– Бонжур, месье, – приветливо сказал швейцар у входа.
– Здравствуй, товарищ, – ответил филолог.
И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой.
Француз улыбнулся и не без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик парижского метрополитена.
Красноперов прослезился.
Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала.
В полумраке белели столы. Тени прятались в изгибах лепных карнизов. Плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину. У контрабаса вибрировал Оден Рафф. Над барабанами парил Джо Морелло. Сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина.
Лакеи скользили по залу, огибая танцующих.
Друзья заняли столик под вечнозеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон.
Друзья заказали филе Россини, сыр Шарье и потроха а-ля Канн.
– Сейчас бы молока парного и харьковских галушек, – неуверенно выговорил Дебоширин.
Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже». Песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили. Только не знают – кого…
Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал действительность в локальные и нежные тона.
– Кого только не встретишь у «Максима», – сказал Дебоширин, – любую знаменитость. Весь цвет Парижа. Как-то раз повстречал Владимира Максимова. Сидит, выпивает…
19. Большие люди
Красноперов избегал знаменитостей. Когда-то, еще будучи аспирантом филфака, он напечатал статью. Это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя. Рецензия получилась восторженная. И вот раздается телефонный звонок.
– Да, – говорит Красноперов, – слушаю.
– Извините, вас автор беспокоит. Хочу поблагодарить от всей души. Тонко вы о моей последней книге написали. А я, признаться, и фамилии вашей раньше не слыхал. Рад познакомиться.
– И мне чрезвычайно приятно.
– Не согласитесь ли вместе поужинать? Запросто, без церемоний. Да бросьте, Красноперов, я ведь от чистого сердца. Конечно! Ну вот и прекрасно!
Потом они сидели в «Метрополе». Писатель разливал коньяк. Благодарил. Знакомил Красноперова с друзьями. Даже поцеловал украдкой. Но ближе к закрытию вдруг опьянел. Стал мрачнеть. Сунул очки в боковой карман. Взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил:
– Ты зачем это, сволочь, донос написал?
– Вы перепутали, – сказал Красноперов, – я наоборот…
– Убью! – замахиваясь, крикнул писатель.
Красноперов охнул. Ногти его царапнули скатерть. Огромная люстра косо рванулась вбок. Дюралевый стульчик выпорхнул, как гусь из-под телеги.
Через секунду появился милиционер. Филолог прижимал к губам салфетку. Писатель размахивал удостоверением члена союза. Посетители испуганно молчали.
Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась, шурша и вздрагивая.
20. Богиня слева
– Взгляните налево, – сказал Дебоширин.
Красноперов рассеянно огляделся.
Рядом, почти напротив, буквально в десяти шагах… (И как это сразу он мог не заметить!..) Над скатертью и над хрустальным блеском… Над шорохом танцующих, над их дыханием, над последним, высоким, мучительным звуком рояля… Даже выше мечты и надежды – увидал Красноперов артистку Лорен!
Поблекли феи на сводах зала. Потускнели алебастровые кущи. Все посетители неожиданно оказались статистами. Китайские фаянсовые вазы по углам держались скромнее мусорных баков. Изысканная роспись стен превратилась в аляповатый фон. Отхлынуло великолепие салона, уступив место единственной и главной красоте.
«Что есть жизнь? – подумал Красноперов. – Что есть жизнь без любви?! Что стоят все мои обиды? Все былые муки и нечаянные радости? Все горькие прозрения, улыбки женщин, мятые трамвайные билеты? Все ливни и снега, которые тащил я на плечах? Вся эта жизнь – ничто! Есть лишь тропинка, вьющаяся между запыленных кустов и хижин. Есть лишь тропинка, устремленная в гору. А там, в конце пути, не монумент, не знамя и не орден. Там – мраморные плечи, диковатые глаза, невыносимый рот Софи…»
– Кто я такой? – вскричал филолог. – Захламленный пустырь? Обломок граммофонного диска? Ржавый велосипедный насос с помойки? Бутылочка из-под микстуры? Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву? Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида? Инвентарный жетон на спинке кресла в партере Мариинского театра? Бывший в употреблении пластырь?.. Я – безработный крысовед. А кто она? Богиня!
Красноперов поднялся, едва не опрокинув фужеры. Вышел из-за стола, оставляя позади тревожный шепот Дебоширина. И далее – огромными шагами пересек безмолвный зал.
Софи держала косточку в руке. Жан Маре что-то, наклонившись, говорил ей. Бельмондо задумался, опустив палец в суп. Кардинале стригла ногти. Анук Эме катала хлебный шарик. Ив Монтан кормил под столом ангорского кота.
Софи подняла глаза. И в этих двух заброшенных колодцах увидел наш филолог многое. Далекие огни матриархата! Стыдливый зов! Покорное могущество! Короче говоря, все то, что преображает самого последнего лентяя и неряху. Ожиревшего смолоду чиновника. Жалкого лакея и медбрата собственной нездоровой печени. Чемпиона кроссвордов. Коллекционера изношенных шлепанцев. Сидячего витязя, порожденного телевизионным рабством. Делает его – воином, охотником, мужчиной!
Все посмотрели на Красноперова.
– Агм… чха… бп… тсс, – простонал Красноперов, – ртха… сть… удств… лямб… нг…
– Красив, злодей, – шепнула Софи Лорен.
– Не робей, старик, – произнес Маре, – зови меня Жаном, усаживайся и глуши шампозу.
– Я хочу пойти с этим человеком на травку, – заявила Кардинале.
Красноперов присел с горящим лицом. Глаза Софи, два миномета, держали его на прицеле.
21. Настольный теннис
Красноперов знал, что его не любят женщины. Он к этому привык. Когда-то, еще в школьные годы, он жил на даче с братом Левушкой. Родители сняли им комнату в запущенном поселке. Поселок лежал около безымянной горы, на вершине которой темнели руины старинного замка. Центр поселка был ознаменован новым трехэтажным зданием универмага. Живописные, бесформенные развалины и пена сирени над косыми заборами дружно оспаривали его убогое, модное величие.
Братья часто ходили в семью Мешкевицер, где три загорелые насмешливые дочки явно радовались их приходу. Дочки звали пить чай, купаться, играть в настольный теннис. До заката стучал по фанерному листу маленький, гулкий, неуловимый шарик.
Левушка нравился дочкам. Он становился в красивые позы. Много курил и разгуливал по берегу в синтетических трусиках. А Красноперова девицы почти не замечали. Потому что Лева был на три года старше.
Если начиналась гроза, дождь стучал по фанере, они бросали ракетки и мчались к веранде. Там они причесывали мокрые волосы. Играли в домино. И Красноперова опять не замечали дочки. Хотя играл он лучше всех. Ему везло. И он умел курить не хуже Левы. Более того – догадывался, что побеждает в жизни не самый ловкий, умный, храбрый. Скорее – наоборот. Кто выиграл, тот и ловок. Кто победил, тот и храбр…
Брат начал исчезать, возвращался поздно. А Красноперов тосковал и ездил по шоссе на велосипеде. А затем, примерно на год, возненавидел брата. Чего брат Лева даже не заметил…
22. Стихи и проза
Красноперов встал, поднял чужой фужер и глухо заговорил.
КРАСНОПЕРОВ:
- От всех невзгод мне остается имя,
- От раны – вздох. И угли – от костра.
- Софи Лорен! Позволь мне до утра
- Бродить с дождем под окнами твоими.
- А на заре, прелестная Софи…
ЛОРЕН (перебивая Красноперова):
- Не искушай! Не мучай! Не зови!
Красноперов усаживается с нею рядом.
Софи прыгает ему на колени.
КАРДИНАЛЕ (в отчаянии):
- Я хочу пойти на травку!
КРАСНОПЕРОВ (демонстративно поворачиваясь к ней спиной):
- Прочитай сначала Кафку!
Кардинале непритворно рыдает.
Заметим, что искренние слезы не украшают актрису.
ЛОРЕН (с глубоким волнением):
- Боюсь, я для тебя стара!
КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ (хором, вполголоса):
- Давно в утиль тебе пора!
КРАСНОПЕРОВ (невозмутимо):
- Ты обольстительна, Софи!
КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ (хором, не тая своих чувств):
- Фи!
ЛОРЕН (с грустью):
- Ах, сколько лет ты дал бы мне?
МОНТАН (раздраженно встает):
- Кончайте, вы тут не одне!
КАРДИНАЛЕ (указывая на Софи Лорен):
- Так сколько лет ей можно дать?
КРАСНОПЕРОВ (твердо):
- Ну, тридцать шесть… От силы – двадцать пять.
Бельмондо и Маре, поскучнев, удаляются к стойке. Монтан бросает на Красноперова ревнивые взгляды.
Оркестр заиграл «Памяти Джанго».
– Пойдем отсюда, – шепнула Софи.
– Куда? – спросил филолог.
– Куда угодно. Лишь бы вместе.
Она взглянула на Красноперова. Повернулась, добивая уже не глядя. Сошла по лестнице вниз. И если не ступени, так устои рушились под ее каблучками.
Красноперов, тихо напевая, полузакрыв глаза, отправился следом.
23. Новенький
Неожиданно кто-то взял его за локоть.
Красноперов, застонав, обернулся. Рядом стоял человек в пожарном шлеме, тельняшке и гимнастических брюках.
– Ты Красноперов? – спросил он.
– Да, – с беспокойством кивнул наш герой.
– Шатен, росту малого, без особых примет?
– Допустим, – с легкой обидой произнес Красноперов.
– А то я без очков не вижу.
– Вы, собственно, кто?
– А ты и не знаешь?
– Понятия не имею.
– Вот как?
– Представьте себе. К тому же я спешу.
– Я – твоя совесть, Красноперов.
– Позвольте, – сказал филолог, – это недоразумение. Вы что-то путаете. Насколько я знаю, меня курирует другой товарищ. Приятный обходительный товарищ в галифе.
Тут незнакомец снял пожарный шлем. Три секунды молча держал его в отведенной руке. Затем торжественно выговорил:
– Малафеева больше нет.
– Боже, а что с ним?
– Сгорел на работе.
Красноперов скорбно опустил голову. Незнакомец забубнил:
– Ушел верный друг, надежный товарищ, примерный семьянин, активный член месткома…
Затем он вдруг сказал:
– Ты за Малафеева не горюй. Ты за себя, Красноперов, горюй. Командировка твоя прерывается.
– То есть как?
– Элементарно. Не умеешь ты себя вести. Завтра утром жду тебя в аэропорту. А сейчас езжай в отель. Дома поговорим как следует. Чао!
Ошеломленный Красноперов медленно вышел на улицу. У входа стоял плоский «ягуар», филолог увидел, как парафиновая нога Софи исчезает в машине. Захлопнулась дверца. Обдав Красноперова бензиновой гарью, «ягуар» растворился во мраке.
24. Помните, у Есенина?
Аэропорт напоминал пустырь, что возле Щербаковских бань.
Залитую солнцем асфальтовую дорожку, как шкуру леопарда, пересекали тени елок. На горизонте алели черепичные крыши. Вдалеке гудел невидимый катер.
Красноперов уныло стоял возле трапа. Затем, в последний раз оглядевшись, шагнул на ступеньку.
Тотчас же из-за отдаленного пакгауза выбежали двое. Один – в распахнутом драповом пальто. Другой – изящный, маленький, в плаще. Они бежали рядом, задыхаясь, перегоняя друг друга.
Бегущие приблизились. Красноперов узнал Дебоширина и Трюмо.
– Черт возьми, – прокричал Дебоширин, – едва не опоздали!
– Я кепи уронил, – сказал Трюмо, – но это пустяки. Надеюсь, его поднимет хороший человек.
– Друзья мои! – начал Красноперов.
Волнение мешало ему говорить.
Прощание было недолгим. Трюмо подарил Красноперову ржавый гвоздь.
– Это необычный гвоздь, – сказал Трюмо, – это – личная вещь Бунина. Этим гвоздем Бунин нацарапал слово «жопа» под окнами Мережковского. Бунина рассердило, что Дмитрий Константинович прославляет Муссолини.
Дебоширин тоже сделал Красноперову подарок. Вручил ему последний номер газеты «Известия». Там была помещена заметка Дебоширина о росте в мире капитала цен на яхты.
У Красноперова сжалось горло. Он взбежал по трапу и махнул рукой. Затем, нагнувшись, исчез в дверях салона.
– Кланяйтесь русским березам, – выкрикнул Дебоширин, – помните, у Есенина?..
Но его последние слова растворились в грохоте мотора.
Крылатая тень, не оставив следа, пронеслась над землей.
25. Транзит
На следующий день Красноперов шел по Ленинграду. В мутной, как рассол, Фонтанке тесно плавали листья.
Красноперов шел по набережной с тяжелым чемоданом. Мимо проплывали газеты на фанерных стендах. Обесцвеченные дождями фасады. Унылые деревья в скверах. Зеленые скамейки. Головные уборы, ларьки, витрины. Ящики из-под картошки. Мечты, надежды, грустные воспоминания… Красноперов шел и думал:
«Это все! Прощай, Франция! Прощайте, дома и легенды. Звон гитары и умытые ветром площади. Веселые устрицы и тихий шепот Софи… Прощай, иная жизнь! Меня ждут неприятности и заботы».
26. Чуть подробнее
Заботы в жизни Красноперова принимали нередко фантастический, даже безумный характер. Однажды наш герой приобрел себе кальсоны. Заурядные румынские кальсоны фирмы «Партизан». Казалось бы, ну что особенного? Голубые кальсоны с белыми пуговками. И сначала все было хорошо. Но затем, в ходе стирки, пуговицы утратили форму. Филолог маникюрными ножницами подровнял их края. Очередная стирка – новое разочарование. Пуговицы вновь стали неровными, как блины. Красноперов их снова постриг. Наконец пуговицы смылись окончательно. И тогда Красноперов был вынужден пришить себе новые, железные, от сохранившейся армейской гимнастерки. Что стоило ему немалых трудов.
27. Тротуар и мостовая
Опустив голову, шел Красноперов, нес тяжелый чемодан. Вдруг дорогу ему преградила толпа. Теснились женщины в старой одежде. Шумно переговаривались мужчины в телогрейках. Дети ползали среди галош.
Красноперов, задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг прилавка.
– Что дают? – задыхаясь, спросил он.
– Читать умеете?
– Да, – растерянно ответил Красноперов, – на шести языках.
На листе картона было выведено зеленым фломастером:
«СВЕЖИЙ ЛЕЩЬ»
– А почему у вас «лещ» с мягким знаком? – не отставал Красноперов.
– Какой завезли, такой и продаем, – грубовато отвечала лоточница.
Руки ее были серебряными от чешуи.
Филолог свернул по направлению к дому. Переулок был украшен модернизированным стеклянным ларьком. Внутри алел сухорукий Миша, любимец публики и балагур. Два ефрейтора в гимнастерках, стянутых широкими ремнями, отошли под навес. В руках они держали кружки с пивом. Легкая пена опускалась на мостовую. Красноперову вдруг показалось, будто чокаются ефрейторы своими непутевыми головами.
Красноперов замедлил шаги у витрины фотоателье, разглядывая лица пасмурных мужчин и женщин. Потом, чуть выше, обнаружил транспарант:
«ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ»
Вдруг за спиной его раздался крик. Мужчина, нетрезвый, как ртуть, бежал через дорогу, пытаясь остановить такси. Он то замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле, мчался автомобилю наперерез. С велюровой шляпой он давно разминулся. Теперь она катилась в противоположном направлении. А именно – к Владимирской площади.
Машина гудела. Пьяный уцепился за бампер.
Автомобиль резко затормозил, прочертив две линии на сером асфальте. Оттуда вышел инкассатор с парабеллумом.
Пьяный шарахнулся в сторону. Филолог оказался на пути его. Они столкнулись. Красноперов деликатно отступил.
– Хочешь, понесу твой чемодан? – спросил незнакомец.
– Что вы? – запротестовал наш герой. – Я уже дома.
– Давай помогу, – настаивал человек.
– Это совершенно лишнее.
– А я все равно помогу.
– Ни в коем случае.
– Сказал – помогу, значит – помогу!
– Я не устал. И вообще, мой дом за поворотом.
– Нет, помогу! – сказал незнакомец.
– Категорически отказываюсь.
– Ты Леву Сивого знаешь?
– Нет, – удивился филолог, – кто это?
– Это я, – скромно потупился человек.
– Очень приятно. И тем не менее…
– Со мной шутки плохи, – незнакомец рванул чемодан, – молчи, гад, убью…
28. Отражение
Забулдыга нес чемодан, ударяя то и дело себя по колену. Красноперов шел рядом. Потом Красноперов нес чемодан. Незнакомец сопровождал его, задевая плечом водосточные трубы.
Мимо, громыхая, проехал трамвай. Видны были залитые светом деревянные кресла.
Наконец они приблизились к шестиэтажному дому с балконами. Красноперов остановился.
– С тебя полбанки, – ухмыльнулся незнакомец.
– Но я спешу, – возразил филолог, – мы так не договаривались. И денег у меня, честно говоря, немного. Впрочем, если угодно, тут рубль с мелочью.
– Тогда я сам куплю полбанки, – не унимался человек.
– Как это?
– Очень просто. Разве мне твои деньги нужны? Мне с тобой поговорить хочется!
И сразу же ощущение покоя возникло у Красноперова. Все показалось ему мучительно дорогим и близким. Забулдыга в дорогом, испачканном сметаной пальто. Трещины на асфальте. Эмалированная табличка над подъездом. И то, что ждет его: холодный полумрак, щербатые ступени. Тусклая лампочка в проволочной сетке. Обитая коленкором дверь. Коммунальные соседи – Гендлины, Моргулисы, Шерошенидзе. Заваленная книгами берлога. Все то, что было. И все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь…
– Вы мне чрезвычайно симпатичны, – улыбнулся Красноперов, – но я тороплюсь. Заходите как-нибудь. Вон мои окна.
Пьяный не обиделся. Он сказал:
– Тогда я сделаю вот что. Я тебя поцелую.
– И это лишнее, – возразил Красноперов.
Забулдыга постоял в раздумье. Затем взглянул на Красноперова и твердо произнес:
– Тогда уж я как минимум – спою.
И спел-таки негромко «Кукарачу».
29. Мы идем по уругваю…
Вечером Красноперов брел по залитому светом Невскому. Люди толпились у дверей кинотеатров, заслоняли сияющие витрины гастрономов. Лица под неоновым огнем казались благороднее и чище.
Помедлив, Красноперов толкнул вертящиеся двери.
В холле ресторана было прохладно от зеркал. Девушка в малиновых брюках красила ресницы. Красноперов бегло сосчитал – их оказалось девять. Рядом томился высокий парень с бородой. Швейцар подозрительно его разглядывал.
Филолог двинулся наверх, беззвучно ступая по истертой ковровой дорожке. В руке он держал алюминиевый номерок.
Его подхватила волна джазовой грусти и аромата кавказских блюд. Мужчины в белых куртках, лавируя, пересекали зал.
Музыканты играли, сняв пиджаки и раздвинув колени. Перед каждым возвышалась тумба, украшенная сияющей лирой из жести. Флейтист и барабанщик переговаривались о чем-то. Певица вытирала салфеткой лаковые бальные туфли.
Музыка стихла. Все расселись, шумно передвигая стулья.
Красноперов оглядел помещение и вздрогнул. Алюминиевый номерок, звякнув, покатился к выходу.
Возле пальмы сидела артистка Лорен. Жан Маре протягивал ей сигареты. Бельмондо разглядывал деревянную матрешку. Ив Монтан сосредоточенно штопал замшевый пиджак. Анук Эме с Кардинале ели харчо из одной тарелки.
Ошеломленный филолог приблизился к столу.
– Экстраординаре, – закричала Софи Лорен, – какая встреча! А мы на фестиваль прилетели. Хочешь контрамарку в первый ряд?
– Кривляка, – фыркнула Эме.
– Заметь, – шепнула нашему герою Кардинале, – Сонька туфли разула. Мозоли у ней – это страшное дело!
– Интересно, где здесь могила Евтушенко? – спросил Бельмондо.
– Нет ли трешки до среды? – поинтересовался Монтан.
– Что сегодня по телевизору? – задал вопрос Жан Маре.
Красноперов поднял руки и отчаянно воскликнул:
– Где это я? Где?!
– Рифмуй, – пикантно ответил ему грубиян Бельмондо.
Дирижер взмахнул палочкой. Оркестр заиграл «Сентябрь в Париже». Анук Эме протянула свою фотографию с надписью:
«Милому товарищу Красноперову.
- Если любишь – береги
- Как зеницу ока,
- А не любишь – то порви
- И забрось далеко.
Твоя Анук».
Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры – все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить…
Ослик должен быть худым
Сентиментальный детектив
События, изложенные в этой грустной повести, основаны на реальных фактах. Автор лишь изменил координаты мощного советского ракетодрома, а также – отчество директора химчистки, появляющегося в заключительных главах.
Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ЦРУ, майору Гарри Зонту и лейтенанту Билли Ярду, предоставивших в его распоряжение секретные документы огромной государственной важности.
И наконец, автор приносит извинения за те симпатии, которые он питает к центральному герою, и более того – корит себя за это, но, увы, глупо было бы думать, что наши страсти рвутся в бой лишь по приказу добродетели!
Утро Джона Смита состояло из ледяного душа, вялой перебранки с массажистом, чашки кофе и крепчайшей сигареты «Голуаз».
Джон выглянул в окно. В бледном уличном свете растворялись огни реклам. Последние назойливые отблески мерцали на крышке радиолы.
Джон Смит лег на диван и разорвал бандероль с американским военным журналом.
Раздался звонок. Джон Смит, тихо выругавшись, поднял трубку.
– Да, сэр, – произнес он, – отлично, сэр, как вам будет угодно, сэр. О’кей!
Джон Смит оделся и после тщетных попыток вызвать лифт спустился вниз. На уровне второго этажа его догнала ярко освещенная кабина. Там целовались.
Джон Смит с раздражением отвернулся и тотчас подумал: «Я стар».
У подъезда его ожидал маленький служебный «бугатти». Шофер кивнул, не поворачивая головы. Джон сел в машину и профессионально откинулся на апельсинового цвета сиденье, чтобы его нельзя было видеть с улицы.
Через несколько минут автомобиль затормозил у кирпичного здания с широкими викторианскими окнами.
Джон Смит кинул в узкую щель свой жетон и, миновав турникет, поднялся на четвертый этаж.
Майор Кайли встретил его на пороге. Это был высокий офицер с мужественными чертами лица. Даже лысина не делала его смешным.
Секретарша принесла бутылку виски, лед и два бокала. Приветливо улыбнувшись Джону Смиту, она незаметно шевельнула плечами, поправляя белье.
– Я обеспокоен вашим состоянием, Джонни, – начал майор, – вы теряете форму. Недавно один из сотрудников видел вас в Музее классического искусства. Вы разглядывали картины старых мастеров. Если разведчик подолгу задерживается около старинных полотен, это не к добру. Вы помните случай с майором Барлоу? Он пошел на концерт органной музыки, а через неделю выбросился из небоскреба. На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет…
– Какой ужас, – произнес Джон Смит.
– Я рад, что сотрудник заметил вас в музее и предупредил меня.
– Позвольте узнать, сэр, что делал в музее ваш сотрудник?
– Так, пустяки, – ответил майор, – брал дактилоскопические оттиски у конголезского генерала Могабчи. Накануне генерал Могабча знакомился с экспозицией, и отпечатки его пальцев сохранились на бедрах мраморной Венеры.
– Я знаю эту копию, сэр, – произнес Джон Смит, – эклектическая вещь, бесформенная, грубая.
– Генерал придерживался иного мнения. Впрочем, мы отвлеклись.
– Слушаю вас, сэр.
Майор разлил виски. Кусочек льда звякнул о стенку бокала.
– Мне бы не хотелось потерять вас, Джонни. Я не намерен лишать себя ваших услуг. Мы вас ценим. В прошлом вы отличный работник и честный американец. Честный американец – это тот, кто продается один раз в жизни. Он назначает себе цену, получает деньги и затем становится неподкупным. В последние месяцы с вами что-то стряслось. У меня такое ощущение, как будто все железные детали в вас заменили полиэтиленовыми. Вы не взглянули на мою секретаршу, вы не допили виски, короче, вы не в форме.
– Видно, я старею, сэр.
– Чепуха! Возьмите себя в руки. Мы решили помочь вам, Джонни. Необходимо, чтобы вы вновь поверили в себя. Два года простоя отразились на вашем состоянии. Вам надо жить нормальной жизнью.
Джон Смит прикрыл глаза. Он тотчас увидел пологий берег Адриатического моря, стук мяча неподалеку, сборник Джойса, темные очки…
– Мы решили послать вас в Москву, Джон Смит. Вы чем-то недовольны?
– Я офицер и не обсуждаю приказы начальства, – сказал Джон Смит.
Майор Кайли с удовольствием хлопнул его по плечу, шагнул к стене и, откинув муаровую занавеску, указал на карту мира:
– Нас интересуют стратегические объекты русских в квадрате У-15. Так вот, вы оказываетесь в России, поступаете на работу, заводите друзей, а через год к вам является коллега, и вы начинаете совместные акции. Все ясно?
– Да, сэр.
– Полагаю, вы не утратили навыки оперативной работы. Мне стоило большого труда отстоять вашу кандидатуру перед генералом Ричардсоном. Вы должны оправдать мои надежды, Смит.
– Не сомневайтесь в этом, господин майор.
– Вас ожидает цепь злоключений. Мало ли что встретится на вашем пути. Вам придется рисковать. От вас потребуется физическая сила и выносливость. Например, вы сможете переплыть реку?
– Да, сэр.
– Главное – плыть не вдоль, а поперек.
Джон Смит кивнул, давая понять, что считает это замечание ценным.
– Вам нужно подготовиться, усовершенствоваться в языке. Как по-русски «гуд бай»?
– До свидания, пока, счастливо оставаться, будь здоров.
– В СССР надо работать осторожно. Не вздумайте предлагать русским деньги. Вы рискуете получить в морду. Русских надо просить. Просите, и вам дадут. Например, вы знакомитесь в ресторане с директором военного завода. Не дай бог совать ему взятку. Вы обнимаете директора за плечи и после третьей рюмки говорите тихо и задушевно: «Вова, не в службу, а в дружбу, набросай мне на салфетке план твоего учреждения».
– Я учту ваши советы, мистер Кайли.
– Вы должны будете принимать во внимание известную строгость русских нравов. Гомосексуализм, например, у них в полнейшем упадке. В России за это судят.
– А за геморрой у них не судят? – ворчливо поинтересовался Джон Смит.
Майор подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда брикет сливочного мороженого и разломил его.
– Мороженое заменит вам пароль, – сказал он, – одна половинка будет у вас, другая – у человека, который явится год спустя. Вы соединитесь и начнете действовать вместе. Ну, кажется, все. Можете идти. В девятом отделе получите легенду и необходимое снаряжение. Дайте-ка я пожму вашу руку.
Джон Смит вышел на крыльцо особняка. Посреди зеленого газона вращался шланг с блестящим наконечником. Был полдень. Возле государственных учреждений скапливались автомобили.
Джон Смит шел вдоль ограды. Остановился, достал сигарету. Из кулака его узким белым лезвием выскользнуло пламя газовой зажигалки. Огонек на солнце был почти невидим.
Разведчик свернул за угол… «Бугатти» медленно ехал за ним, прижимаясь к тротуару. Затем он наклонился к шоферу, который выслушал его, не поворачивая головы.
– Вы бы ехали домой, Роджер, мне надо побыть одному.
Машина рванулась вперед, тотчас затерявшись в уличном потоке.
В этот день Смит пришел домой позже обычного. Галстук торчал у него из кармана. Он одолел три лестничных пролета, словно забрался по вантам в девятибалльный шторм. Дверь кокетничала с ним, водила за нос, наконец в замочной скважине со стуком утвердился ключ. Джон Смит, качаясь, пересек свои апартаменты, чмокнул боксерскую грушу и уснул на диване, не снимая континентальных стетсоновских полуботинок.
Темной мартовской ночью американский военный «Спитфайр» пересек западную границу Советского Союза.
Джон сидел рядом с пилотом. В кабине было тесно. Летчик, передвигая рычаги, задевал колени Джона Смита.
Сквозь иллюминатор виднелось усыпанное звездами небо. Внизу редко и беспорядочно мерцали огни.
– Мы приближаемся, сэр, – заметил летчик, взглянув на фосфоресцирующий пульт. – Желаю удачи, – добавил он после того, как разведчик откинул крышку люка.
– Благодарю, – сказал Джон Смит и шагнул в черную бездну.
«Спитфайр» промчался мимо.
Минута. Вторая. Третья. Земля, быстро увеличиваясь, летела навстречу. Стали видны очертания деревьев.
– Ах черт, едва не забыл! – воскликнул Джон Смит и рванул дюралевое кольцо.
В ту же секунду из ранца, который болтался у него за спиной, со свистом выскользнуло шелковое белое пламя парашюта, последовал сильный толчок, стропы натянулись, и над головой Джона Смита утвердился широкий, слегка вибрирующий купол.
Еще через минуту разведчик, согнув колени, опустился в податливый мартовский снег.
Парашют лежал рядом, медленно опадая.
Джон Смит огляделся. Темный лес окружал небольшую поляну. Из-за деревьев выглядывали звезды.
«Для начала неплохо», – подумал Джон Смит.
Он встал, скинул ранец, притянул за ремни белую ткань, скомкал ее и поджег.
В правом кармане лежали фальшивые документы, в левом – браунинг, ампула с ядом оттягивала воротничок сорочки.
«Омниа меа мекум порто, – невесело усмехнулся Джон Смит, – все мое ношу с собой!»
Он достал консервы и поел. Затем подбросил сучья в костер, расстелил брезентовый плащ и задремал.
Снились ему далекие годы. Залитый солнцем стадион политехнического колледжа. Футбольное поле. Зеленая трава. Полосы мокрой известки. За барьером толпы зрителей с программками в руках. Музыканты в белых куртках исполняют национальный гимн. Гуськом выходят футболисты. Вторым идет он, Джонни Смит, молодой, загорелый. На нем бутсы с шипами, полосатая фуфайка и гетры. В согнутой руке он держит шлем…
Джон Смит ощутил на себе чей-то пристальный взгляд.
Он выхватил пистолет из кармана.
Перед ним стоял тамбовский волк и дружески улыбался.
– Привет, – сказал тамбовский волк.
– Хеллоу! – произнес разведчик, смущенно пряча браунинг в карман.
– Не разбудил?
– Мне как раз пора вставать.
– Озябли?
– Есть маленько.
– Вы, собственно, что тут делаете?
– Да так… грибы собираю.
– А парашют сожгли?
– Естественно. Садись, погрейся.
– Благодарю. Дела.
– Как знаешь.
– Пойду.
– До свидания, дружище.
– Чао, – произнес тамбовский волк и растворился во мраке.
Рано утром Джон Смит вышел из лесу и по горбатой дороге зашагал к темнеющим на фоне снега домам рабочего поселка.
Маленькие ветхие лачуги были вынесены на окраину прибоем шиферных и черепичных крыш, а в самом центре попадались двухэтажные каменные строения с яркими вывесками и заманчивыми витринами.
Навстречу шли мужчины в ватниках и женщины в темных платках. Их лица были по-утреннему хмуры.
Джон Смит замедлил шаги у дверей сельмага.
Со стуком бился на ветру газетный лист. У обочины, наклонившись, стояла грузовая машина.
Разведчик зашел в магазин, купил велосипед «ХВЗ», сел на него и поехал в Москву.
Солнце без усилий катилось рядом. Его невесомые мартовские лучи падали на обода и спицы. По бокам от дороги лежала белая гладь, штопанная заячьими следами. Колеса вязли в жидком снегу. Лес издали казался глухим и мрачным.
Джон Смит крутил педали и насвистывал песенку, которую слышал от одного лейтенанта в оперативном центре:
- Каждый вечер бьют кремлевские куранты
- И сияет над бульварами закат,
- Вся Москва давно уснула, но не дремлют диверсанты,
- До утра у передатчиков сидят.
- Если Бог не наградил тебя талантом,
- Не печалься, в этом нет твоей вины,
- Кто-то вырос коммерсантом, кто-то вырос диверсантом,
- Ведь на свете все профессии нужны!
В эту секунду черная тень метнулась под колеса. Посреди дороги стоял тамбовский волк.
– Я передумал, – сказал он, – возьми меня с собой. Вместе будем хулиганить. Тошно, брат, в лесу. Ни друзей, ни близких. Опротивела мне вся эта некоммуникабельность.
– Проблема номер один, – кивнул Джон Смит.
– Знаешь, как шутят у нас в тамбовских лесах? «Волк волку – человек». Сразиться не с кем. Одни зайцы. Мечтаю о настоящем деле. Короче, возьми меня с собой – денщиком, ординарцем, комиссаром…
Разведчик поглядел на него с сомнением:
– Вести себя умеешь?
– Еще бы. И вообще, я могу сойти за крашеного пса.
Джон Смит задумался. Велосипед лежал у его ног. Переднее колесо вращалось, и спицы мерцали в лучах небогатого зимнего солнца.
– Ладно, – сказал наконец разведчик, – беру. Только учти, главное в нашем деле – дисциплина. Понял?
– Да, сэр, – просто ответил волк.
– И чтоб на людей не кидался.
– Это я-то? – обиделся серый. – Да мое основное качество – человеколюбие.
Разведчик сел на велосипед, и они помчались дальше.
Волк делал огромные скачки, напевая:
- В разгар беспокойного века,
- В борьбе всевозможных идей,
- Люблю человека, люблю человека,
- Ведь я гуманист по природе своей!
- Люблю человека в томате,
- А также люблю в сухарях,
- И в супе люблю, и в столичном салате,
- Люблю человека и славлю в веках!
Москва встретила наших героев сиянием церковных куполов, бесконечным людским потоком, комьями грязного снега из-под шин проносившихся мимо автомобилей.
Разведчик пообедал в буфете самообслуживания, а новому другу, которого оставил на улице, привязав к велосипедной раме, вынес два бутерброда с ветчиной, завернутые в салфетку.
Затем они направились к рынку. Вдоль стен темнели и поблескивали лужи, капало с крыш. Теплый мартовский ветер налетал из-за угла.
Друзья, не торгуясь, сняли у грустной вдовы комнату с панорамой на Химкинское водохранилище.
– А пес по ночам не будет лаять? – спросила хозяйка.
Серый от унижения чуть не выругался. Джон Смит вовремя наступил ему на лапу.
– Не будет, – заверил разведчик, – он воспитанный.
– Умные глаза у вашей собачки, – произнесла вдова, – как будто хочет что-то сказать, но не может.
Комната была светлой и просторной. Над столом висела пожелтевшая фотография мужчины в солдатской гимнастерке и в очках. Хозяйка унесла ее с собой.
Джон Смит сунул браунинг под подушку, расстелил в углу для волка старое пальто.
– Вот мы и устроились, – сказал он.
– А когда идем на дело? – поинтересовался тамбовский волк.
– Главная наша задача – освоиться в Москве. Дальнейшие указания поступят вскоре.
– Может, покусать кого из членов правительства?
– Категорически запрещаю! – Джон Смит хлопнул по столу ладонью. – Ты провалишь нас обоих. Никакой спешки. Терпение и мужество – вот основные добродетели разведчика.
– Тогда хоть слово какое нацарапаем на заборе?
– Я сказал – нет.
– Может, намусорим где? – не унимался волк.
– Ни в коем случае, – сказал разведчик, принимая официальный тон, – вы поняли меня, капрал?!
– Да.
– Вы хотели сказать: «Да, сэр».
– Да, сэр, – пробормотал тамбовский волк и негромко добавил: – Анархия – мать порядка!
Каждое утро Джон Смит гулял со своим другом на пустыре, огибая напластования бетонных секций, полусгнившие доски, ржавые фрагменты арматуры, шагая среди битых стекол, окаменевших и непарных башмаков, консервных банок, мерцавших из-подо льда, как рыбы, потом он отводил тамбовского волка домой, сбегал по лестнице вниз, хлопала дверь за его спиной, и оказывался на тронутых неуверенными мартовскими лучами улицах древней столицы.
Он заходил в булочные и пивные, часами сидел без нужды в приемной исполкома, томился в очереди за говяжьими сардельками, оглашал пронзительными криками своды зала в Лужниках, присматривался к незнакомой державе. Он покупал лотерейные билеты, ездил в метро, смотрел, как работают водолазы, переводил старушек через улицу, листал «Неделю», замирал перед картинами в Третьяковской галерее, разнимал мальчишек в городском саду, кормил воробьев и, распахнув пальто, глядел на солнце.
Наступил апрель. Сверкающая ледяная бахрома увенчала карнизы, роскошью напоминая орган протестантского собора в Манхэттене.
Как-то раз Джон Смит заметил объявление, листок из школьной тетрадки, приклеенный к водосточной трубе. На нем расплывшимися буквами было написано: «Химчистке № 7 требуется механик».
Это мне подходит, решил Джон Смит, именно то, что мне надо. Скромный маленький труженик химчистки ни у кого не вызовет подозрений.
Через пять минут он сидел в кабинете заведующего. Над столом висел портрет Дмитрия Ивановича Менделеева. Рядом белели графики и прейскуранты. На дверях болталась табличка – «Не курить!». Трусливая рука перечеркнула «НЕ» дрожащей линией.
«Оппозиция не дремлет», – подметил Джон Смит.
– Я прочитал ваше объявление, – сказал разведчик.
– Механик вот так необходим, – сказал заведующий, – был у нас отличный механик, сгорел на работе. В буквальном смысле. Пошел он к тестю на именины. Семь дней потом на работу не выходил. На восьмой день явился, заказал в буфете горячий шницель, только откусил и сразу вспыхнул, как бенгальская свеча…
– Я хотел предложить свои услуги, – молвил Смит.
– Документы позвольте взглянуть.
Разведчик вынул из кармана фальшивые новенькие дивные бумаги.
– Оформляйтесь, – произнес заведующий.
С тех пор каждое утро разведчик сворачивал в задохнувшийся среди каменных глыб переулок, надолго исчезал в машинном отделении химчистки, где вибрировала центрифуга, краска летела с потолка и нестерпимо пахло вареными ботами.
Джон Смит зачищал клапана, следил за уровнем воды в баллонах, менял индикаторные трубки, чутко вслушиваясь в неровный пульс машин.
Как-то раз он задержался, меняя изоляцию, а когда вышел из-за прилавка, направляясь к дверям, то увидел Надю, которая стояла перед зеркалом и, нахмурившись, себя разглядывала.
Они пошли рядом, окунулись в солнечный и мокрый день апреля, а у них за спиной ночная вахтерша тетя Люба тотчас же с грохотом перегородила дверь железной балкой и навесила замки.
– Ну и ветер, – произнес Джон Смит, – как бы вас не унесло. В такую погоду надо обязательно взять под руку толстяка вроде меня.
– Вы не толстый, – сказала Надя, – вы самостоятельный.
– Можно, я вас провожу? – сказал разведчик и добавил: – По-товарищески.
– Я далеко живу, – сказала Надя.
– Вот и хорошо, – обрадовался Джон Смит, наступая в лужу, – вот и прекрасно.
Приемщица Надя не считала себя красавицей, но она была милая, с голубыми глазами и мальчишеской фигурой, а когда сидела за барьером, положив локти на отполированный до блеска стол, клиенты в брюках пытались разговаривать с ней и шутить, но девушка лишь постукивала карандашом, и в голосе ее рождались особые, неприятные, судебно-исполнительные нотки:
«Распишитесь, гражданин!»
Джон Смит взял Надю под руку, им стало тесно, а через двадцать минут разведчик и девушка уже сидели в ресторане ВДНХ под фикусом.
Официант подал меню, измятый листок бумаги в гладком коленкоровом переплете, отступил на шаг и замер.
Джон Смит повернулся к Наде.
– Виски, джин? – спросил он.
Надя рассмеялась в ответ и говорит:
– Мне водки капельку, а то я ноги промочила.
Смит продиктовал заказ. Надя в ужасе пыталась его остановить.
Официант чиркнул в невидимом блокноте и удалился, ловко огибая столы.
На эстраду вышли музыканты. Пиджаки их висели на стульях. Музыканты о чем-то беседовали, смеясь. Потом они все нахмурились и разошлись по своим местам.
– Давайте потанцуем, – сказал Джон Смит.
– Не могу, – ответила Надя, – я туфли сняла.
Девушка приподняла скатерть, и оттуда выглянул кончик ступни.
У шпиона замерло сердце.
«Не знаю, как выглядит счастье, – подумал он, – мне сорок лет, но я не уверен, что почувствую, если хотя бы частица его встретится на моем пути».
Музыканты играли дружно и отрешенно. Они куда-то шли под звон бокалов, и глаза их были полузакрыты.
Вечером Джон Смит прощался с Надей в подъезде возле батареи отопления. Из-за шахты лифта торчали ручки детских колясок.
– Иди ко мне, – сказал шпион.
– Перестаньте.
Девушка вырвала руку, и на секунду он увидел перед собой приемщицу химчистки в шелковом черном халате и с негодующими вибрациями в голосе: «Распишитесь, гражданин!»
– Ладно, – сказал Джон Смит, – не буду. Простите.
– Если вы меня в ресторан пригласили, то еще не значит, что можно руки распускать!
– Как вам не стыдно, – покачал головой Джон Смит, – ай-ай-ай!
Он повернулся и шагнул к дверям, но Надя догнала его и тронула за хлястик.
– Подождите, – сказала она, – ох, какой же вы громадный. Мне придется встать на цыпочки.
Джон Смит вернулся поздно, снял ботинки и хотел уже выключить свет, но в это время его окликнул тамбовский волк:
– Шеф, я не сплю. Мне нужно с вами поговорить.
– В чем дело, капрал? – спросил Джон Смит, вновь зажигая люстру.
– Я вынужден сделать признание. Оно облегчит мне душу.
– Слушаю вас.
– Шеф, мне трудно говорить.
– Будьте мужчиной, капрал.
– Шеф, я сошелся с легавой. Да, да, я, волк и сын волка, связал свою жизнь с охотничьей собакой. Это случилось на пустыре, когда вы читали газету.
Джон Смит вынул папиросу и задумался, не прикурив.
Ночь лежала за потемневшими стеклами. Мир дремал у порога. Вся мера глубины и разнообразия жизни ясно предстала в этот час на грани тьмы и света.
– Сердцу не прикажешь, – едва слышно выговорил шпион.
– Это верно, – кивнул тамбовский волк.
– Ну а как она вообще? – спросил разведчик.
– Красивая сука, – откровенно произнес капрал.
Джон Смит взволнованно шагал по комнате. Видны были холостяцкие дыры на носках.
– Не надо прятаться от счастья, – говорил он, – ведь жизнь коротка. Позади океан рождения, впереди океан смерти, а наша жизнь лишь узкая полоска суши между ними.
– Истинная правда, – молвил серый…
– В конце концов, мы даже не нарушаем инструкций, – задумчиво сказал шпион, – ведь сам майор Кайли приказал мне обзавестись друзьями в СССР.
Они проговорили до утра, а когда взглянули на часы, луч солнца заглядывал в комнату вместе с первыми гудками речных катеров.
С тех пор каждый вечер Джон Смит покидал ателье вместе с Надей. Девушка прятала в стол пачку голубоватых квитанций, переодевалась, вешала на гвоздик черный шелковый халат, и они, держась за руки и огибая лужи, шли в какой-нибудь музей. В просторных залах было тихо, кружевные занавески покачивались на окнах, экспонаты соперничали с лепными украшениями на потолке и замысловатой мозаикой пола.
– Когда я стою перед шедевром, – говорил Джон Смит, – то ощущаю, что картина вглядывается в меня, проникает в сокровенные глубины моей души. Мне делается стыдно за те пороки, которыми я наделен. Я дрожу, как на суде.
– Мне знакомы эти ощущения, – кивала Надя.
– Искусство читает наши сокровенные мысли. Под его взором хочется быть великодушным, честным и добрым.
Девушка на секунду прижималась к его плечу, а потом они шли дальше, и служащие музея в темной форменной одежде провожали их глазами.
А ровно через месяц на последние деньги, которыми снабдил его разведывательный центр, Джон Смит арендовал помещение диетического буфета, чтобы отпраздновать свадьбу.
Гостей было много. Пришли сотрудники ателье и кое-кто из постоянных клиентов. Заведующий произнес речь.
– Я пью за новобрачных, – сказал он, – которые вместе со всем личным составом химчистки борются за то, чтобы не было грязных пятен на брюках советского человека, труженика и творца. И если на карте мира еще имеются кое-где белые пятна, то в недалеком будущем мы эти пятна, товарищи, выведем. Более того, даже пятна на солнце не вечны. Штурмуя космические пространства, мы сумеем устранить и эти загрязнения. Жизнь, друзья, обгоняет мечту!
Тут все начали поздравлять молодоженов, чокаться и пить за их здоровье. Бутылки маршировали по столу, как рекруты. Закуски отливали всеми цветами радуги. Шум стоял невообразимый.
Тамбовский волк лежал под столом, грыз рафинад и время от времени орал: «Горько!»
Молодые поселились у Нади в комнате с окном на бульвар. Волку постелили в коридоре.
Теперь Джон Смит и Надя каждое утро ехали вместе на работу в полупустом девятом трамвае. Джон вынимал из чемоданчика инструменты и уходил в машинное отделение, а Надя раскладывала на столе чистые бланки и копировальную бумагу. С заказчиками теперь она вела себя приветливее.
Однажды шпион постучался в кабинет заведующего.
– Понимаете, какая штука, – сказал он, – я тут перелистывал техническую литературу и подумал: а что, если карданную ось соединить под углом с одним из валиков и одновременно снизить обороты передаточного диска? Таким образом можно коэффициент изнашиваемости ткани в процессе обработки практически свести к нулю. Вот посмотрите.
Джон порылся в карманах спецовки, достал лист бумаги и моментально начертил схему.
– Интересная мысль, – сказал заведующий, – вы мне оставьте эту бумажку, я на досуге подумаю.
Джон Смит вышел из кабинета, насвистывая «Лалабай оф бердленд», а директор в это время с интересом разглядывал схему, которую шпион рассеянно начертил на обратной стороне миниатюрной географической карты, где птичкой был отмечен советский ракетодром в квадрате У-15.
На следующий день заведующий вызвал Джона Смита к себе.
– Входи, Петр Иванович, присаживайся. Что это ты всегда такой нерешительный и робкий? Посмелее надо быть. Я бы даже сказал, понахальнее. Ну-ка, брат, хлопни меня по шее! Да не бойся ты, хлопни! Здорово, мол, Кузьма Петрович! Размахнись и хлопни, кому говорю.
Джон Смит покорно размахнулся, но тотчас же замедлил движение и осторожно убрал пылинку с директорского пиджака.
– Э-э… – сказал директор, – ну да ладно. Садись, Петр Иванович, располагайся. Обдумал я твое изобретение, вник, как говорится. Здорово, ей-богу, здорово ты это придумал. Оригинально. Тысячи рублей экономии может дать твое изобретение. Решили к майским праздникам тебя премировать, а портрет – на Доску почета! Молодец, Петр Иванович, орел! Кулибин!
Директор с чувством пожал шпиону руку.
– Как у тебя с жилплощадью? – спросил он.
– Тесновато, конечно, – сказал Джон Смит, – но в общем ничего, жить можно.
– Дадим квартиру, – сказал заведующий, – первым будешь на очереди. Мы эту самую рационализацию очень поощряем, стимулируем, как говорится. Сам знаешь, какое значение приобрела химчистка в наши дни. Он, – директор указал на портрет Менделеева, – все это гениально предвидел. Наши задачи состоят в том, чтобы воплотить в жизнь его мечты и планы. В первую очередь для этого нужно освоить методы родственных предприятий у нас и за рубежом. В общем, мы хотим послать тебя в командировку. Есть два пункта – Нью-Йорк и Сыктывкар. На выбор. Что тебе больше по вкусу?
– Сыктывкар, – ответил Джон Смит, не задумываясь.
Директор слегка удивился.
– То есть, я понимаю, идейно тебе, конечно, ближе Сыктывкар, – сказал он, – но ведь, с другой стороны, – Америка, пальмы, попугаи…
– Чего я там не видел, – сказал разведчик, – поеду в Сыктывкар.
– Ну, как хочешь. Может, ты и прав. Во-первых, ты, брат, лысоватый и потому не можешь вполне достойно представлять наш народ за границей. Еще, чего доброго, подумают, что в СССР все лысые. К тому же языков, поди, не знаешь. А ведь они там, как сбесивши, все не по-русски шпарят. Так что, может, ты и прав. И вообще, ты для Запада больно уж тихий. Столько времени знакомы, а я голоса твоего не слыхал. Ну-ка, спой что-нибудь. Спой, не стесняйся. Хочешь, вместе споем «Раскинулось море широко…».
Через неделю Джон Смит обнял жену, сел в поезд и уехал в Сыктывкар. Долгое время на поворотах ему был виден темный от дождя перрон, далеко выступающий вдоль железнодорожных рельсов, и две застывшие фигурки на нем: Надина в широком дождевике, а возле ее ног маленькая и взъерошенная – тамбовского волка.
В Сыктывкаре шпион провел четыре дня. Он обошел все родственные предприятия, побывал в библиотеке и картинной галерее, а также посетил местный краеведческий музей, где осмотрел хребет вымершего доисторического животного – семги.
На четвертый день шпион заметил, что скучает. Он долго бродил под фонарями городского парка, выпил рюмку водки в ресторане «Пингвин», но мысли его были далеко, в Москве.
Разведчик пересек центральную площадь, обогнул гранитный монумент и вдоль забора, над которым видны были освещенные окна больницы, бездумно зашагал к горизонту.
На пути ему встретилась фанерная крашеная будка под вывеской «Пневматический тир». Джон Смит зарядил ружье, облокотился на барьер и выстрелил в пузатого Дядю Сэма, который со стуком опрокинулся, а на его месте вырос негр в комбинезоне.
– Меткий выстрел, – похвалил хозяин тира.
От этих слов Джон Смит, как и любой другой мужчина на его месте, слегка повеселел.
Подняв воротник плаща, разведчик под конвоем собственной тени брел через картофельное поле туда, где мерцали над землей огни аэропорта.
– Который на Москву? – спросил он у заспанного диспетчера.
– Кажись, вон тот, – ответил диспетчер и указал на серебристый лайнер ТУ-104.
Джон Смит поднялся в салон, неслышно прошел по ковровой дорожке вдоль кресел и сел у окна.
Когда из мрака выступили огни русской столицы, бесчисленные светящиеся трассы, Джон Смит закурил, чтобы скрыть волнение.
– Застегните ремни, – приказала стюардесса.
Через час разведчик был у своего порога. Надя осторожно приоткрыла дверь. На ней был пестрый фланелевый халатик.
– Это ты? – спросила Надя.
– Я, – ответил шпион, – ты рада?
– Я не рада, – сказала Надя, – я ни капельки не рада. Я счастлива.
В этот миг кто-то лизнул ему руку. В дверях стоял тамбовский волк, по-собачьи виляя хвостом.
В химчистке Джона Смита встретили приветливо.
– Это ты, – сказал директор, – вернулся?
Разведчик кивком головы подтвердил эту гипотезу.
– Материалы привез?
– Да. Вот они.
– А мы тебя заочно в местком избрали. Оказали доверие. Человек ты справедливый, идейно закаленный. В общем, проголосовали единодушно.
– Кузьма Петрович, разве я достоин?
– Народу, брат, видней.
Джон Смит вышел в коридор, прочитал очередной номер стенной газеты «Брак мой – враг мой!», а когда он направился в машинное отделение, то увидел на Доске почета, на малиновом бархатном фоне свой портрет.
Шпион невольно расправил плечи.
Дни потянулись вереницей.
Однажды утром, когда Джон Смит перелистывал свежий номер «Московского комсомольца», Надя сказала ему:
– Знаешь, что ты произнес сегодня ночью? Ты сказал: «Гуд бай».
Джон Смит притворно рассмеялся.
– А, – сказал он, – это я готовил уроки. Я ведь, милая, на курсы записался, иностранных языков. Мечтаю «Сагу о Форсайтах» в подлиннике читать. Да и вообще без языка в наше время не обойтись.
В тот же день шпион был вынужден записаться на курсы иностранных языков.
– К сожалению, прием окончен, – сказала директриса.
– Я вас очень прошу, – настаивал Джон Смит.
– Заходите через год.
– Я не могу так долго ждать. Мне бы «Сагу о Форсайтах»…
– Так и быть, – сказала директриса, – сделаем исключение. Давайте проверим ваши способности. Повторяйте за мной: «Май нэйм из Джон Смит». Ну, что ж вы растерялись? «Май нэйм из Джон Смит».
– Провал! – воскликнул Джон Смит и надкусил ампулу с ядом.
Стены отшатнулись, пол рванулся из-под ног, разведчик упал, и сознание оставило его, не прощаясь.
Директриса, проливая воду, старалась привести его в чувство, кто-то звонил через коммутатор в «Скорую помощь», через весь город под вой сирены летел малолитражный автобус с крестом на борту, люди в халатах тащили носилки по лестнице…
Шпион не подавал признаков жизни. Душа рассталась с ним без горечи и с облегчением, как женщина, уставшая от мук.
Разведчик лежал на гладком холодном столе, закинув подбородок. Полы его дождевика касались земли.
Наконец вошел профессор. Он склонился над Смитом, стиснул его запястье, как тренер по дзюдо в центральной оперативной школе, затем твердым и уверенным голосом поставил диагноз:
– Острый катар верхних дыхательных путей!
От изумления Джон Смит немедленно пришел в себя:
– Этого не может быть!
– Вы сомневаетесь в моей компетентности? – усмехнулся профессор. Затем он достал чистый бланк, поставил на нем какую-то закорючку в виде перевернутого китайского иероглифа и сказал: – Вот рецепт. Вы будете принимать эти таблетки три раза в день. На ночь – горячее молоко с боржомом. До свидания.
Он уже двигался к следующему больному так стремительно, что расстегнутый белый халат за его спиной летел, как шлейф.
Джон Смит сунул рецепт в карман и, шатаясь, побрел домой.
Шло время. Солнечное лето, шурша и остывая, катилось к сентябрю.
Джон Смит и Надя обедали в молочном буфете.
Разведчик шел к столу с подносом в руках. Он молча смотрел на жену и улыбался.
Девушка сидела у окна, и предвечерние лучи касались легких ее волос.
– Неужели ты ничего не заметил? – вдруг спросила Надя.
«Наследил!» – подумал Джон Смит и огляделся, нет ли «хвоста».
– У нас будет ребенок, – сказала Надя.
Качнулись на подносе молочные бутылки, со стуком покатились крутые яйца, дрогнул студня брикет.
– Надья! – воскликнул разведчик. – Надья! Ит’з бъютифл, ит’з вандерфул! У меня нет слов! Ай кан’т поверить! Ай вонт надеяться! Це дуже гарно! Но почему ты плачешь?
Надя достала из сумочки платочек, вытерла слезы и сказала:
– Я плачу от счастья. Какое счастье, что я тебя встретила. А представляешь, если бы мы жили в разных частях света?..
С тех пор Джон Смит не знал покоя. Он стал печальным и задумчивым настолько, что однажды, сидя в буфете и рассеянно орудуя вилкой и ножом, отрезал кончик собственного галстука.
Вечерами после работы Джон Смит уходил из дому и часами бродил в районе Лубянки, замедляя шаги возле гранитного фасада. Молодые сержанты, которые пили чай с плавленым сыром, сидя возле распахнутых окон, быстро привыкли к высокому сутулому гражданину в драповом пальто и жестами приглашали его зайти. Но шпион со вздохом уходил прочь, махнув рукой.
Как-то раз он дольше обычного простоял перед дубовой дверью, потом решительно взялся за ручку и вошел.
Младший лейтенант с лицом и манерами старшего лейтенанта проводил его к майору Зотову.
Майор, утомленный несовершенством этого мира, поднял глаза.
Джон Смит пересек кабинет и со стуком положил на стол перед майором бельгийский браунинг № 2.
– Ваши документы! – сказал майор.
– У меня фальшивые документы, – виновато произнес диверсант.
– Давайте какие есть, – сказал майор, пряча оружие в ящик письменного стола.
Джон Смит вынул паспорт.
Майор внимательно перелистал его.
– Документы вроде бы в порядке, – сказал он, – а что вам, собственно, угодно?
– Да шпион я, шпион! – воскликнул Джон Смит.
– Из-за границы, что ли?
– Ну разумеется. Из Калифорнии я.
– Так, – произнес майор Зотов, снимая трубку, – товарищ полковник?! Зотов рапортует. Тут ко мне шпион один явился. Нет, вроде бы тверезый… Что ему надо? Сейчас узнаю.
– Что вы, собственно, хотите?
– Дело в том, что я изменил убеждения, – сказал Джон Смит, – точнее говоря, разочаровался в ценностях, под знаком которых проходила вся моя жизнь. В общем, кому бы тут сдаться?
– Товарищ полковник, он сдается. Сдается, говорю, раскаивается… Симпатичный такой. Зажигалку мне подарил в виде пистолета. Ага, понятно. Есть, все понял.
Он повесил трубку.
– Вы посидите, – сказал майор Джону Смиту, – нет, нет, не здесь, – остановил он диверсанта, который уселся в кресло под огромным портретом Дзержинского, – вы посидите в камере, а затем полковник Громобоев лично вас допросит.
– Меня будут пытать? – спросил Джон Смит.
Майор искренне расхохотался:
– Мы такими делами не занимаемся. Вы не в гестапо, а в советском учреждении.
Однако майор сказал неправду. Пытки начались сразу после того, как захлопнулся штырь на обитых железом дверях. Дело в том, что за стеной какой-то пьяный уголовник целый день фальшиво распевал:
- А я иду, шагаю по Москве…
Это была страшная пытка. Измученный шпион хотел уснуть, но ежеминутно его будил звонкий тенор соседа-арестанта:
- …И я пройти еще смогу
- Далекий Тихий океан,
- И тундру, и тайгу…
Джон Смит начал колотить в стену табуреткой, но в ответ раздавалось:
- …И если я по дому загрущу…
День и ночь прошли в страшных мучениях.
Тем временем в Москву через Никитские ворота проник Боб Кларк, американский шпион, задачей которого было разыскать Джона Смита и объединиться с ним для совместных действий.
То и дело оглядываясь, Боб Кларк шел по улице. Костюм его был тщательно продуман. Мягкая, надвинутая на глаза шляпа, темные очки, поднятый воротник. В правой руке он держал кусок сливочного мороженого. Левый карман его заметно оттопыривался. Там лежала портативная рация.
Все с удивлением провожали его глазами, ибо там, где шел Боб Кларк, на мягком асфальте оставались четкие следы в форме раздвоенного копыта.
– Видать, шпион, – сказал один прохожий, – у них всегда так, специальные чурки привяжет к галошам и коровой притворяется. Так и шастают через границу, так и шастают.
– Эвон сколько развелось ихнего брата, шпиона, – произнес другой.
– Не говори, – поддакнул третий, – от этих приезжих коренному москвичу житья не стало…
Боб Кларк поднялся на второй этаж. Вышла молодая полная женщина и сказала:
– Петра Ивановича нет дома. Я жду его. Заходите, выпейте чаю. Он должен был вернуться час назад. Я уже начинаю волноваться. Заходите же.
– Нет, нет, не беспокойтесь, – сказал Боб Кларк, – я загляну попозже.
Несколько часов он бродил по городу, спускался в метро, пил газированную воду, читал газеты, смотрел, как плещется река, стоял перед витриной антикварной лавки, которая оказалась салоном модных шляп, затем вновь направился по адресу.
– Еще не приходил, – сказала Надя, – не знаю, что и думать.
– Вы только не нервничайте, – сказал Боб Кларк, – вам нельзя… Сидит он где-нибудь с друзьями за кружкой пива…
Надя вздохнула. Она знала больше, чем предполагал Джон Смит, а чего не знала, о том догадывалась. Итак, Надя вздохнула и запела высоким чистым контральто:
- Эх, нет цветка милей пиона
- За окошком на лугу,
- Полюбила я шпиона,
- С ним расстаться не могу.
- Эх, у Прасковьи муж водитель,
- У Натальи муж завмаг,
- У Татьяны укротитель,
- У меня – идейный враг.
- Эх, прилетел он из Небраски
- На советские луга,
- Но зато какие глазки
- У идейного врага.
- Эх, не шуми под ветром, поле,
- Не дрожи, кленовый лист,
- Ох, ты, дроля, милый дроля,
- Почему ж ты не марксист?..
До вечера Боб Кларк ждал у ворот на лавочке, но Джон Смит так и не появился.
Боб Кларк расстегнул пуговку на вороте, снял пиджак и задумался. Потом он рассеянно откусил кусок сливочного мороженого и внезапно съел его целиком.
– Что же делать, – опомнился шпион, – как же я теперь без мороженого? Один в незнакомом городе. Загляну-ка я в Третьяковскую галерею. Столько слышал от разных туристов, а побывать не довелось.
Так он и сделал.
Наутро Джона Смита вызвал к себе полковник Громобоев. Он шагал по кабинету, задорно напевая:
- Я суровый контрразведчик,
- Не боюсь глубоких речек,
- Не боюсь высоких крыш,
- А боюсь я только мышь!
Джон Смит вошел.
– Кто вы такой? – спросил полковник.
– Майор Джон Паркер Смит, сотрудник американской разведки.
– Люди делом занимаются, а ты?..
– Я больше шпионить не буду, – сказал Джон Смит.
– Почему это вдруг?
– Мне надоело.
– А много ль ты успел набедокурить? – спросил полковник.
– Да как вам сказать, порядочно. Месяц назад в ресторане стул опрокинул, шуму было. Потом как-то раз за автобусом бежал, толкнул старушку. Стукнула она меня кошелкой по спине, но ничего, отлежался. Вот, кажется, и все.
Полковник задумался. В кабинете тикали часы. По карнизу шумно прогуливался голубь.
– Ладно, – сказал наконец Громобоев, – можешь идти.
– То есть как? – не понял диверсант.
– Ты свободен. Коллектив благодари. Химчистка № 7 берет тебя на поруки.
Бывший шпион недоверчиво взглянул на офицера, но тот с улыбкой кивнул ему и придвинул к себе бумаги, давая понять, что разговор окончен.
Джон Смит попрощался дрогнувшим голосом, направился к дверям, потом вернулся и сказал:
– Гражданин полковник, мне стыдно злоупотреблять вашим благородством, но один вопрос не дает мне покоя. Дело в том, что у меня есть домашнее животное.
– Какое именно? – спросил Громобоев.
– Да так, – ответил Джон Смит, – волчишка небольшой. Нельзя ли о нем позаботиться? Приобщить к созидательному труду?
– Ну что ж, – сказал полковник, – будет какой-нибудь склад охранять.
– Вы понимаете, какая штука, – возразил недавний диверсант, – он у меня, вообще-то, работник кабинетного толка.
– А как по характеру?
– Тонкий лирик со склонностью к унынию.
– Минутку, – сказал полковник и набрал короткий местный номер. – Майор Кузьмин? Говорит полковник Громобоев. Как у нас с медперсоналом в детских учреждениях? Острая нехватка? Ясно. Ну вот, – обратился он к Джону Смиту, – пускай оформляется в детские ясли на улице Чкалова, 5.
Через минуту Джон Смит вышел на улицу и быстрой походкой зашагал домой.
Полковник Громобоев встал, подошел к окну и взглянул сверху вниз на нашу землю, которая крутится испокон века, таская на себе нелегкую поклажу – человечество!
Роль
Около двенадцати спиртное кончилось. Лида достала из шкафа треугольную коробку с надписью «Русский бальзам».
Дорожинский повертел в руках крошечные бутылочки и говорит:
– Это все равно что соблазнить малолетнюю…
Дорожинскому было пора идти, он нам мешал. Сначала я думал, что ему нравится Лида. Но когда он поинтересовался – где уборная, я решил, что вряд ли. Просто он не мог уйти. Знал, что пора, и не мог. Это бывает…
На кухне был диван, и Лида предложила:
– Оставайся.
– Нет, – сказал Эдик, – я буду думать, чем вы там занимаетесь.
– Не говори пошлостей, – сказала Лида.
– А что я такого сказал? – притворно удивился Дорожинский.
Он заявил, что хочет выкурить сигарету. Все молчали, пока он курил. Я – оттого, что злился, а Лида всегда была неразговорчивой.
Я боялся, что он захочет чаю.
Наконец Дорожинский сказал: «Ухожу». Затем, уже на лестнице, попросил стакан воды. Лида достала «Нарзан», и Эдик, стоя, выпил целую бутылку…
– Ушел, – сказала Лида, – наконец-то. Мне ужасно хотелось побыть с тобой наедине. Знаешь, что я ценю в наших отношениях? С тобой я могу помолчать. С остальными мужчинами все по-другому. Я знаю – от меня чего-то ждут. И если угощают, например, шампанским, то это ко многому обязывает. А с тобой я об этом не думаю. Просто хочу лежать рядом, и все…
– Хорошенькое дело, – сказал я.
– Глупый, – рассердилась Лида, – ты просто не в состоянии оценить…
С Лидой у меня все это продолжалось год или чуть больше.
Работала она бортпроводницей. К своей работе относилась чрезвычайно добросовестно. Работа для нее была важней любви.
В этом смысле Лида напоминала актрису или балерину. Будущее для нее определялось работой. Именно работой, а не семьей.
Иногда ей приходилось летать двенадцать часов в сутки. Она смертельно уставала. Вернувшись, могла думать только о развлечениях.
Как выяснилось позже, она меня не любила. Но я звонил ей каждый день. Лишал ее возможности увлечься кем-нибудь другим.
Лида была привлекательна, этого требовала работа стюардессы. В ее привлекательности был какой-то служебный оттенок. Высокая и стройная, Лида умело пользовалась косметикой. Она следила за ногтями и прической. Случись пожар – она не вышла бы из дому в штопаных чулках.
Голос у нее был одновременно ласковый и требовательный. Лицо не казалось глупым, даже когда она танцевала или вертелась перед зеркалом.
Как-то раз я ждал ее ночью в аэропорту. Сначала через узкий турникет высыпали пассажиры. Затем я ждал еще минут пятнадцать. И наконец увидел Лиду. Она шла рядом с тремя пилотами. Она была в изящном форменном пальто и сапожках. На пилотах были теплые куртки. Все они казались усталыми и молчали, четыре товарища после нелегкой работы…
Лиде, как я понимаю, было тоскливо со мной. Достоинства, которыми я обладал, ей не импонировали. Например, я был эрудитом. Вот и сейчас у меня был наготове подходящий афоризм Шопенгауэра. Что-то о равновесии духовных и плотских начал.
Но Лида шепнула: «Я поставлю чайник». И ушла на кухню.
Я не зря так много говорю об этой женщине. Правда, не она – центральная героиня рассказа. Однако все произошло у нее дома. И к тому же она мне все еще нравится.
Около часа ночи раздался телефонный звонок. Лида прибежала из кухни, схватила трубку.
– Тошка! – закричала она. – Радость ты моя! Откуда? На съемках? Ну конечно, приезжай. Какой может быть разговор?! Едешь до Будапештской, шестнадцать, квартира – тридцать один… Все, жду!..
Я сказал:
– Это что же, выметаться мне или как?
– Зачем? – сказала Лида. – Тошку мы уложим на кухне. Она же понимает…
– Я думал, Тошка – это он.
– Что значит – он?
– Например, Тошка Чехов.
– Тошка – актриса. Работает на Малой Бронной. Снимается в кино. Помнишь – «Мужской разговор», «Назову тебя Юркой»?.. Она играет женщину, которая падает на рельсы.
– Не помню, – сказал я.
– Она в купе с Джигарханяном едет.
– Не помню.
– Картина Одесской студии. «Назову тебя Юркой». Может, ты и фильма не видел?
– Нет, – сказал я…
Через полчаса телефон зазвонил снова.
– Господи, – кричала Лида, – до чего же ты бестолковая! Если автобусом, то до Будапештской. А в такси – до проспекта Славы, шестнадцать…
– Роскошная дама, – засмеялась Лида, – такси ей подавай…
Антонина Георгиевна мне сразу не понравилась.
Крупная, рыжая, в модной блузке с пятном на груди, она чересчур шумела. А увидев меня, как закричит:
– Это тот самый Генрих Лебедев, который украл из музея нефритовую ящерицу?!
– Нет, – смутилась Лида, – ты все перепутала.
Возникла неловкая пауза. Мне удалось сдержаться.
– Я, – говорю, – представьте себе – другой, еще неведомый избранник.
– Чего это он? – поразилась гостья.
– Не обращай внимания, – сказала Лида.
Антонина Георгиевна подошла к столу. Зябко поеживаясь, сложила руки на груди. Потом спросила:
– Хоть выпить-то есть?
– Все кончилось, – сказала Лида, – поздно. Тебе уже хватит.
– Что значит – хватит? Я только начала. Нельзя послать этого типа?
– У меня нет денег!
Эту фразу я почему-то счел нужным выговорить громко и отчетливо. С каким-то неуместным вызовом… И даже с оттенком торжественной угрозы.
– Денег навалом, – брезгливо обронила гостья.
– Все равно, – сказала Лида, – уже третий час ночи. Рестораны закрыты…
Коробку с «Русским бальзамом» она незаметно поставила в шкаф.
– Ну и жизнь в этой колыбели революции! – сказала гостья.
Затем потребовала чаю и начала рассказывать о себе. Воспроизвожу ее рассказ дословно. Он прерывался восторженными восклицаниями Лиды. А также моими скептическими репликами. Итак:
«Весь этот год – сплошной апофеоз! Людка Чурсина завалила пробу. Браиловский вызывает меня. Я отказываюсь, но еду. Людка в трансе. Платье у нее такое страшненькое, а я целый гардероб везу. Туфель – двенадцать пар, нет, вру, одиннадцать. Явилась, значит, с чемоданом на площадку. Браиловский кричит: „Шапки долой! Перед вами – актриса!“ Общий восторг! Короче, Людка – в трансе. Я – в люксе. Приносят сценарий. Я три страницы прочитала и говорю: „Дрэк, а не сценарий. Где фактура? Где подтекст, вашу мать?..“ Собираю шмотки и в аэропорт. Браиловский в трансе. Людка прыгает от счастья… Через три недели сижу в ЦДЛ. Заходит Евтушенко с Мариной Влади…»
– Женька Евтушенко? – спросила Лида.
«Ну… Высоцкий был на съемках. Заходит Евтушенко. Естественно, шампанское, коньяк… Знакомит с Мариной. У Марины, я посмотрела, ни грамма косметики, один тон. Я, говорит, Марина Влади. Ты представляешь? А я сижу в открытом платье и ни звука. У Женьки шары вот такие…»
Несколько раз мы с Лидой переглядывались. Затем она сказала:
– Я с утра в резерве. Так что надо спать ложиться.
– Ерунда, – протянула гостья, – сиди. Успеете еще…
Тут мы услышали пошлость. Лида смутилась, я отвернулся и закурил. Мне все это стало надоедать.
Я умылся. Затем поставил будильник на восемь утра. То есть вел себя почти демонстративно.
Лида сложила в раковину грязную посуду. Она казалась такой усталой. Наша гостья тоже приуныла. Потом мы все легли.
– Ой, нет, – сказала Лида, когда я тронул ее за плечо, – успокойся, ради бога. Поздно… Какие все мужчины – гады!
– Все! Что значит – все? – сказал я.
Но девушка уже спала. Или притворялась, что спит…
Проснулся я около шести часов. Комната была залита невесомым июньским светом. Я сел, огляделся и едва не вскрикнул.
За стеклянной дверью на кухне танцевала Антонина Георгиевна. Танец был изысканный, грациозный, с необычными фигурами, долгими паузами. В руке она держала легкий газовый платок. Бесшумно двигаясь, взмахивая платком, она задевала то край умывальника, то стенные часы, то цветочный горшок.
Глаза ее были полузакрыты. На лице я заметил выражение тихого счастья. Этот безмолвный хореографический номер производил ужасное и трогательное впечатление.
Я разбудил Лиду, и несколько мгновений она следила за гостьей. Потом натянула халат, включила магнитофон и с грохотом отворила рамы. Мне нравилось, что Лида всегда так быстро переходила от глубокого сна к активной деятельности. За исключением тех минут, когда я домогался ее любви…
Я посмотрел в окно. С девятого этажа казалось, что на земле царит абсолютный порядок. Газоны ярко и аккуратно выделялись на сером фоне. Ровные линии деревьев образовывали четкие углы на перекрестках. В эту секунду я испытал знакомое чувство, от которого мне делается больно. Мне захотелось оказаться там, на ветру перекрестков. Там, где человеческое равнодушие успокоило бы меня после всей этой духоты, любви и нежности…
Гостья услышала шум и оказалась на пороге.
– Чего ты поднялась? – спросила Лида. – Еще автобусы не ходят.
– Нужно позвонить в Москву. – Антонина Георгиевна решительно сняла трубку.
По неумолимым законам абсурда ее тотчас же соединили.
– Семен, – крикнула она, – ты дома?
– Ты всех разбудишь, ненормальная, – сказала Лида.
– Семен, значит, ты дома! А я была уверена, что ты развлекаешься!
– Тошка, перестань, – сказала Лида и добавила: – Это ее муж…
– Я думала, что у тебя сублимация. Должен же ты сублимировать научный потенциал?! Отвечай, вейсманист-морганист!.. Где Митя? Позови Митю! Позови моего сына, негодяй! Позови, иначе я буду звонить каждые три минуты! Причем не тебе, а самому Косыгину!..
– Перестань, – сказала Лида, – ты у меня в гостях. Ты не должна оскорблять людей. Мне это неприятно.
Антонина Георгиевна бросила трубку. На лице ее выступили розовые пятна.
– Поеду на «Ленфильм» и все скажу Киселеву. Кисель меня поймет.
– В шесть часов утра? – засмеялась Лида. – Тебе придется излить душу швейцару.
– Я скажу им все, – продолжала гостья, – абсолютно все. Я им такое припомню! Пушкина убили, Лермонтова убили, Достоевского сделали эпилептиком… Достоевского им не прощу! Вот кого жалко, хоть он и украл, паскуда, мой сюжет!..
– Успокойся, – говорила Лида, – успокойся. Ложись и спи. Дать тебе валерьянки?
– Поеду на «Ленфильм» и крикну в матюгальник: «Да здравствует Солженицын!»…
Лида обняла ее и с трудом уложила в постель. Мы тоже легли.
– Ненормальная, – шепнула Лида, – Тошка – ненормальная. Я в этом окончательно убедилась. Ей нельзя пить. Ей надо лечиться. Казалось бы, жизнь дала человеку все! Славу, деньги, общественное положение, муж – кандидат наук, зоолог… Сын шахматами увлекается, близорукий, правда…
– Ты понимаешь, – начал я, – кино – это многоступенчатая иерархическая система. На заводе, скажем, все трудящиеся более или менее равны. А значит, тяжелым комплексам нет места. В кино же расстояние от нуля до высшей точки – громадное. А значит, все показатели на шкале достоинств…
– Откуда ты знаешь про кино? – спросила Лида.
– Догадываюсь. Существует интуиция…
– А про завод?
– Допустим, я был на экскурсии, читал и вообще…
– Что ты можешь знать, сидя в этой дурацкой библиотеке? – усмехнулась Лида.
– Да, я работаю в библиотеке. Не понимаю, что тут смешного. По-твоему, старший библиограф не имеет отношения к литературе?
– Старший продавец ювелирного магазина тоже имеет отношение к золоту.
– Ты не учитываешь…
– Хватит, – шепнула Лида, – я все это слышала тысячу раз. Спи, дорогой.
– Я только хотел объяснить, что есть внешняя сторона жизни, которую индусы называют пеленой Майа…
Но Лида уже спала. Или притворялась, что спит…
Не прошло и часа, как отворилась дверь. Тошка стояла на пороге в дождевике и газовой косынке.
– Все, – заявила она, – беру такси до Комарова. Там живет Светка Маневич, и я поселюсь у нее. Буду загорать, купаться. И еще меня привлекает живопись в духе раннего Босха.
– Какая же ты беспокойная! – сказала Лида. – Подожди минут двадцать. Поедем вместе.
И она подошла к зеркалу. С этой минуты Лида была так далека от нас!
Мне нравилось смотреть, как Лида одевается. Как она причесывает волосы. То есть занимается всеми этими женскими делами.
Лично я пребываю в жестоком конфликте с одеждой. Надевая брюки, всегда теряю равновесие. Мучительно просовываю голову в узкий хомут застегнутой сорочки. Расправляю мизинцем подвернувшийся задник ботинка.
Лида жила в полном мире с косметикой, тряпками, обувью. Одевалась спокойно, умело и даже талантливо. Вся процедура напоминала строгий классический танец.
Она тронула щеки розовой кисточкой. Законченным резким движением подвела губы. В ее руках пронзительно чирикнул флакон с духами. Легкий след пудры остался на зеркале.
В заключение был обеими руками медленно натянут короткий рыжеватый парик.
– Зачем? – спрашивал я месяца два назад. – У тебя же чудесные волосы!
Лида мне объяснила:
– В парикмахерской много народу и душно. А на работе я обязана быть интересной в смысле головы. Мы летим в десяти километрах над землей. Расстояние ощущается, даже если не смотреть в иллюминатор. Кто-то летит впервые, боится, нервничает. Ну и так далее. А я должна быть в форме. Я таким образом показываю – не бойтесь! Все нормально. Ничего особенного. Видите, как я мило улыбаюсь? Конфеты и лимонад – это для вида. В действительности я существую, чтобы каждого пассажира заверить – не бойся. Если уж эта красивая, юная девушка – и то не боится… Пойми, это такая роль. Бортпроводница – не профессия, а роль…
Лида надела форменный костюм с металлическими пуговицами. Мы спустились в лифте. Антонина Георгиевна без конца твердила:
– Еду на «Ленфильм». Буквально на одну минуту. Плюну в рожу Киселеву и скажу: «Чиновнику – от драматической актрисы! Распишитесь в получении!» Или – еще лучше. Зайду в художественную часть и крикну: «Идиоты! Не может художественное целое подчиняться художественной части!..»
Лида ее не слушала. Моя девушка находилась где-то вдали. Может быть, на холодном поле аэродрома. А может быть, выше, еще выше, за облаками…
На перекрестке мы расстались. Лида села в автобус, махнув нам рукой. Антонина Георгиевна пыталась остановить такси.
Я чувствовал себя неловко. Жаль, что у меня не было денег. Обычная история…
– Ну, мне пора, – сказал я Тошке, – извините. Проводить вас, к сожалению, не могу. Библиотека на территории порта, режим довольно строгий. А мне еще надо домой заехать…
Тут я заметил, что она плачет. Это страшное дело, когда актрисы плачут в нерабочие часы. Это ужасно, просто ужасно…
Я быстро попрощался и зашагал к троллейбусной остановке.
Было утро. Машины прижимались к тротуарам. Солнце поднялось над крышами. Лучи его коснулись стекол.
Оглядевшись, я неожиданно подумал, что сижу в театре. Занавес раздвинут, свет погас. Актеры давно уже на сцене. Реальная жизнь осталась за кулисами. И ты, как мальчишка, – бессилен. Ты знаешь, что Яго, допустим, подлец, и не вмешиваешься. Все равно ты не можешь помочь. И вообще – где артисты, где зрители? Кто за кем наблюдает? Кому надо хлопать в финале?.. Все перепуталось… А что, если сам барометр рождает непогоду?..
Вдоль ограды под липами желтели скамейки. Я сел, достал из кармана помятый «Беломор». Слабость и горечь мешали подняться. А может, это было следствием кошмарной ночи?
Через несколько минут я овладел собой. Решил идти пешком до «Горьковской» и там сесть в метро. К этому времени моя походка уже напоминала походку Брюса из фильма «Золотая долина».
Назавтра я прочитал в газете траурное сообщение. ИЛ-124, следовавший по маршруту Ленинград – Адлер, разбился. Все погибли. В том числе знаменитый эстрадный артист, корреспондент «Огонька» и несколько японских дипломатов. И еще группа пионеров, летевших в Артек.
Я позвонил диспетчеру аэропорта. Мне сказали, что Лида жива. Она находилась в резерве.
Солдаты на Невском
Рано утром на плацу капитан Чудновский высказался следующим образом:
– Кто шинель укоротит хотя на палец – будем взыскивать!
Он задумался и добавил как-то совсем не по-военному:
– Притом это не модно, если верить журналу «Силуэт»…
У ефрейтора Гаенко шинель была обрезана, подшита, но все равно из-под нее едва виднелись ослепительно начищенные яловые сапоги.
Стоял ефрейтор Гаенко в шеренге последним. Он и только он на вечерней поверке, делая шаг вперед, задорным голосом восклицал:
– Расчет окончен!
Друг его, ефрейтор Рябов, как это нередко случается, был противоположностью Гаенко. Высокий, медлительный и сильный, он жутко терялся от крика, а всех людей со звездами на погонах спокойно, искренне боготворил.
Любовные истории, которые Гаенко рассказывал после отбоя, волновали ефрейтора Рябова, открывая перед ним, уроженцем глухой Боровлянки, таинственный мир с красивыми вдовами, ночными поездками в такси, умелыми драками, загадочными нежными словами: декольте, будуар, гонорея…
Ефрейтор Рябов уважал приятеля и часто будил его ночами, тихо спрашивая:
– Это верно, Андрюха, есть такая птичка – колибри, размером с чмеля´?..
У Рябова было суровое детство, но Васька так и остался покладистым человеком. Отец его, мрачный боровлянский конюх, наказывал Ваську своеобразно. Подвешивал за ногу к ветке дерева…
В армии Рябову нравилось. Он гордился своим хлопчатобумажным тряпьем. Усердно козырял сержантам. И с натугой, однако без лености, преодолевал солдатское ученье…
Ефрейтор Гаенко вырос среди пермской шпаны, где и приобрел сомнительный жизненный опыт, истерическую смелость и витиеватый блатной оттенок в разговоре.
Наука давалась ему легко, с сержантами он был на «ты», одежду свою без конца перешивал и любил смущать замполита каверзными вопросами:
– А вот отчего, к примеру, в той же сэшэа каждый чучмек автомобиль имеет, а у нас одни до`центы, генералы и ханурики?
Рябову часто шли посылки, и ефрейтор охотно делился с другом, которому мать, нянечка детского сада, только писала, да и то изредка:
«Может, ты в армии станешь на человека похож. А то совсем не знаю, что и делать. Так и сказала майору в военном комате: или он будет человек, или держите его под замком. Боюсь я за тебя, Андрюша, повис ты надо мной, сынок, как домкратов меч…»
Начальство ценило в Рябове послушание, а Гаенко многое прощалось за ум и так называемую смекалку. Как-то раз Гаенко напился, уронил питьевой бачок и обозвал сержанта Куципака генералиссимусом. Его вызвали на комсомольское собрание дивизиона…
– Обещаю, – сказал, чуть не плача, ефрейтор, – обещаю, товарищи, больше не буду. Пить больше не буду!
Потом он сел и тихо добавил:
– И меньше тоже не буду.
И все-таки его любили. Если Рябов внушал к себе почтение, то Гаенко любили, любили за остроумие, за какую-то вздорную блатную независимость, за веселый нрав, а главное – за его умение рассказывать истории, которое высоко ценится на Руси, потому что скрашивает будни.
Клеймит наш народ болтунов и лоботрясов, славословит дельного и неразговорчивого человека, но вот какой-нибудь чудак на стройке или в цехе вытирает руки паклей, закуривает и тихим голосом заводит речь:
– А вот у нас был случай в прошлом годе, так пил один в лесу из родника, и в голову ему личинка жабы просочилась, стала натурально жить, расти за счет его мозог, а у того головные боли начались – это страшное дело, врачи, значит, трепанацию ему сделали и видят – жаба, белая, как калач, потому что она, блядища, без хлорофилла росла…
И вот уже протягивают болтуну и лентяю портсигары, улыбаются: «ну и трепло», а ведь слушают, хохочут, и каждый в гости зовет…
Друзья служили под Ленинградом четвертый месяц, но в увольнении были раз, да и то в поселке, до Эрмитажа ехать времени не хватило бы, на три часа всего отпускали. Час дорога туда, час – назад, а на остальное не разгуляешься, зато поселок вот он, близко, и клуб с репродуктором, и велосипеды, прислоненные к соснам у входа, и хмурые парни в шелковых кашне, и девушки в брюках, которые с солдатами танцевать отказываются…
На этот раз пустили с утра до отбоя.
В десять часов Гаенко и Рябов уже шагали к переезду, и каждый из них сжимал в кармане заполненный бланк увольнительной.
Мрачные, без окон, склады и пакгаузы не сдерживали порывов осеннего ветра, который гонял по пустырям омертвевшие листья, бумажки и сор, образуя тут и там крошечные случайные водовороты. Трубы цементного завода четко выделялись на фоне бледного невидимого неба, их параллельные стволы казались такими надежными среди всей этой зыбкой и потускневшей осенней природы. Над мокрыми крышами покачивались бедноватые сентябрьские кроны, и сами крыши выглядели мрачно, в сыром их блеске не было утренних красок…
Гаенко и Рябов вышли на платформу и стали под часами.
– Ну, куда пойдем? – спросил ефрейтор Рябов.
– Программа такова, – ответил друг его, – сначала – естественно – Эрмитаж, потом – Медный всадник, дальше, значит, Петропавловская крепость, и под конец – Третьяковская галерея.
– За день столько всего?
– Нормально. Мы особенно вдаваться не будем. Раз, сфотографировано, и дальше… Так, для общего развития.
– Неплохо бы с девушками познакомиться, – мечтательно произнес Васька Рябов, – со студентками.
– Это бы да, – согласился Гаенко, – взяли бы «маленькую» или там шартрезу, пошли бы к ним в общежитие…
– Студентки белое и пить-то не станут, – высказал предположение Рябов.
– Что?! – обиделся за студенток Гаенко. – Да они его ведрами хлещут, на лекцию не идут, покудова не опохмелятся.
– Уж ты скажешь, – не поверил Рябов.
– Да я, – расшумелся Гаенко, – да у меня этих студенток навалом было, штук пятьдесят как минимум.
– Пятьдесят? – испугался Рябов.
– Ну, пять, – сжалился Гаенко, – ей-богу, Эмкой звали, газотопливный техникум кончала, на сплошные пятерки шла…
Билеты они покупать не стали, зато честно поехали в тамбуре. Стекла были выбиты, холодный ветер мешал им прикурить. Напротив двери сидела девушка в забавной вязаной шапке, но, когда Васька начал любоваться красным помпоном, она сразу достала из сумки книгу и углубилась в чтение.
– Кокетничает, – установил Гаенко, – завлекает. Действуй, Вася, не робей.
Но Рябов действовать не стал, да и не имел он этого в виду, просто ему нравилось смотреть на девушку, и он смотрел, как она читает, пока электричка не замерла у перрона Московского вокзала.
Друзья оказались в толпе, сразу потеряв девушку из виду, а затем Гаенко вытащил карту и пытался развернуть ее на ветру, как парус.
– Так, – сказал он, – это Невский, а тут, значит, река. Пешком, я думаю, надо идти, тут недалеко.
Андрей ткнул в карту растопыренными пальцами.
– Так. Масштаб – один к десяти тысячам. Это значит… это значит… В общем, тут километра два…
В этот сумрачный день толпа на Невском оказалась пестрой, как и бесчисленные витрины, разноцветные автомобили, непохожие друг на друга дома. Гаенко то и дело разворачивал карту, огромную, как пододеяльник.
– Так, – говорил он, – это Фонтанка, а мы вот тут находимся. Тут мы, Васька, стоим. Понял?
– Чудеса, – охотно поражался Рябов.
Таких красивых девушек, как здесь, на Невском, ему доводилось видеть лишь в заграничном фильме «Королева „Шантеклера“». Высокие, тонкие, нарядные, с открытыми смелыми лицами, они шли неторопливо, как пантеры в джунглях, и любая обращала на себя внимание в густой и непроницаемой, казалось бы, толпе.
Рябов глазел на девушек, пока тощий майор не сделал ему замечание:
– Здороваться надо, ефрейтор!
– Так точно. Виноват…
– …товарищ майор.
– Виноват, товарищ майор!
– Вашу увольнительную!
– Разрешите обратиться, – вмешался переминавшийся с ноги на ногу Андрей Гаенко, – товарищ майор, как нам в Эрмитаж попасть?
Лицо майора несколько смягчилось.
– По Невскому до конца и через площадь. Который год служите?
– Первый, товарищ майор.
– Ну так еще встретимся. А сейчас – идите.
– Спасибо, товарищ майор, – проникновенно выкрикнул Гаенко и, уже ни к кому не обращаясь, добавил: – Красивый город! Я бы даже так выразился: город-музей.
– Эх ты, – сказал Гаенко другу, когда опасность миновала, – так ведь и на «губу» угодить недолго. А ловко я его про Эрмитаж спросил? Тут, брат, психология. Человеку нравится, когда ему вопросы задают. У меня в Перми такой был случай. Заловили меня раз урки с левого берега. Идут навстречу, рыл пятнадцать, с велосипедными цепями, а сзади тупик, отвал сыграть некуда. Один уже замахиваться начал. Амбал с тебя ростом, пошире в плечах. Тут я ему и говорю: «Але, не знаешь, как наши со шведами сыграли?» Молчит. Руку опустил. Потом отвечает: «Три – два». – «В нашу, что ли, пользу?» – «Да нет, – говорит, – в ихнюю». А уж после этого и бить человека вроде бы неприлично. Короче, спасла меня психология. Отошел я метров на двести, изматерил их от и до и бегом на правый берег…
С этой минуты Рябов уже не глядел на девушек, а только на офицеров, которых ему и в подразделении хватало…
Эрмитаж Ваську разочаровал, по крайней мере – снаружи. Ему казалось, что дворец непременно должен быть сложен из цельных мраморных глыб, увенчан золоченым куполом и шпилем, а этот, в принципе, не отличался от любого дома на Невском, разве что был втрое шире и стоял на виду.
Они скинули шинели. Затем, нацепив шлепанцы, изменившейся походкой двинулись вверх по широкой мраморной лестнице.
Интерьеры Васька одобрил. Сперва он разглядывал драгоценности, медали, оружие, полуистлевшие знамена, но вдруг Андрей Гаенко зашептал:
– Идем, я тебе одного Рембрандта покажу, вот это художник. Там у него голая баба нарисована до такой степени железно, что даже не стоит… Факт из религии подобран…
– Обнаженная? – с натугой и сомнением переспросил Рябов.
– Да голая, я тебе говорю. Пошли.
К «Данае» Васька подойти не решился, стоял у окна и глядел на нее тайком. Но поразило Ваську другое. Девчонки, молоденькие, в очках, гуляют по залам, не отворачиваются и спокойно глазеют на раздетых каменных мужиков. Даже беседуют о чем-то, вроде бы обсуждают…
«Взбесились городские окончательно, – думал Васька Рябов и тут же мысленно прибавлял: – Вот бы с такой бесстыжей познакомиться…»
В Эрмитаже они пробыли час. Потом Гаенко заявил:
– Ну, все. Главное мы ухватили. Обедать пора.
Денег у них было много, две нетронутых получки, то есть – семь шестьдесят.
К этому времени погода изменилась. На серой ткани неба разошлись какие-то невидимые швы, и голубые отмели возникли тут и там, будто тронулся лед на реке и блеснула вода под солнцем среди шершавых льдин…
Они подошли к столовой, внимательно изучили меню на фасаде и начали было снимать ремни, но тут Андрей Гаенко заявил:
– Пошли отсюдова. Самообслуживание мне и в казарме надоело.
Через двадцать минут они сидели под люстрой за столиком, на котором, помимо солонки, перечницы, блюдечка с горчицей и забытого стакана, лежал измятый клочок папиросной бумаги с расплывшимся, плохо отпечатанным текстом. Васька Рябов смущенно ерзал, ударяя то и дело латунной бляхой по краю стола. Гаенко нетерпеливо оглядывался. Подошла официантка с унылым лицом, в стоптанных домашних туфлях и с пятнами ржавчины на фартуке. Она стояла молча, держа в руке крошечный блокнотик, утомленно ждала.
– Так, – сказал Гаенко, – три антрекота для начала.
– Кончились, – еле слышно произнесла женщина и снова замолчала, видимо совершенно обессилев.
– Тогда, – сказал Андрей, розовея и приподнимаясь, – тогда, – выговорил он с отчаянным размахом, – тогда давайте жареной картошки с чем-нибудь!
– Биточки? – вяло предложила официантка.
– Да, – сказал он, – пять биточков!
– Пять порций? – уточнила официантка.
– Да, и еще пива. Две бутылки. Три. И пачку «Казбека».
– Гуляем, значит? – шепнул восхищенно Рябов.
Вернулась официантка с подносом.
– Биточки с макаронами, – выговорила она.
– Годится, – снизошел Андрей.
Они ели медленно, курили, выпившие посетители заговаривали с ними. Гаенко шутил, даже чокнулся с кем-то раза два, и так все это было непохоже на казарменную столовую с голубыми клеенками и репродуктором в углу, где все едят торопливо и невнимательно, а вышел через пять минут и кто-нибудь спросит тебя: «Что давали на ужин?» – а ты и не помнишь, то ли рыбу, то ли кашу…
– Три двадцать, – холодно произнесла официантка.
– Четыре, – Андрей разжал кулак с приготовленными заранее измятыми бумажками, – держите четыре, – в голосе его появились угрожающие нотки, – и сдачи не надо!
Стало прохладнее. День остывал. Друзья перешли Аничков мост, чуть замедлив шаги у ограды. Над крышей лодочной станции трепетал застиранный бледно-розовый флаг. Тесно прижатые бортами лодки веером расходились от серого дощатого пирса.
– Были бы у нас знакомые студентки, – говорил Васька Рябов, – можно было бы на лодке покататься…
Они прошли метров двести по Невскому, свернули на Литейный, остановились возле тира. Стойка была покрыта истертой ковровой дорожкой. Четыре лампы под жестяными козырьками ярко освещали противоположную стену. Там были укреплены фигурки, грубые, аляповатые, рябые от пуль. Они то и дело переворачивались, повисали вверх ногами, на месте жирного империалиста в цилиндре вырастал фиолетовый негр со сжатыми кулаками, львы прыгали через обруч, лопасти мельницы сливались в ровный блестящий круг, а когда флотский мичман всадил пулю в едва различимую белую точку, сначала раздалось шипение, а потом зазвучали слова довоенной песни:
- В запыленной связке старых писем
- Мне недавно встретилось одно,
- Где строка, похожая на бисер,
- Расплылась в лиловое пятно…
- Что же мы тогда не поделили,
- Разорвав любви живую нить…
– А! – сказал хромой начальник тира. – Вот служивые покажут, как нужно стрелять.
– Это же не боевое оружие, – возразил Андрюха, – из боевого я бы показал, а тут все мушки сбиты, и траектория как у футбольного мяча…
Друзья облокотились на стойку. Рябов прицелился в гуся. Мишень была величиной с чайное блюдце. Он слышал, как полный юноша с бакенбардами, наклонившись и не отрывая щеки от приклада, сказал своей знакомой:
– В тире, как нигде, мы ощущаем тождество усилий и результата.
«Видать, не русский», – подумал Рябов.
Гаенко промахнулся. Васька тоже. Через минуту пульки кончились.
– Ну и ружья у тебя, хозяин, – сказал Андрей, – из такого ружья по динозаврам бить, да и то в упор. Слыхал про динозавра? Большой такой…
– Целиться надо как следует, – усмехнулся хромой, – а ну, смотри!
Он поднял ружье и тотчас же выстрелил – зеленый арбуз распался надвое.
– А ты говоришь, – некстати произнес Гаенко, и друзья покинули тир.
Заметно стемнело. В свете неоновых огней лица прохожих казались бледными, осунувшимися. Мир выглядел ожесточенно, загадочно, трудно. Все наводило на мысль о таинственной глубине и разнообразии жизни.
– Куда мы теперь? – спросил Васька Рябов. – Вот если бы с девушками познакомиться, – мечтательно добавил он, – да к ним бы в гости зайти, и не то что рукам волю давать, а так посидеть, чаю бы купили, сахару…
– Это запросто, – сказал Гаенко, – это в элементе. Ты только покажи, какая тебе нравится.
– Да я не знаю, – смутился Рябов, – все они ничего.
– Эта слишком толстая, – прикинул Андрюха, – а эта какая-то задумчивая. Может, сифилис у ней…
– Да ну? – удивился Васька. – А ведь никогда бы не сказал, в очках, с портфелем…
– Во-во, – заверил Гаенко, – эти-то самые опасные и есть.
Солдаты миновали витрины «Динамо» с мотоциклом «Иж-Юпитер» и рядами двустволок, обувной магазин, пирожковую, за стеклами которой толпились люди, бордовый фасад с кариатидами, шумный перекресток на углу Литейного и Чайковского, а там дома внезапно раздвинулись, и они вышли на набережную.
– Смотри, – вдруг шепнул Гаенко, – видишь?
Мимо почти бежали две девушки в одинаковых курточках.
– Девушки, – каким-то изменившимся, высоким голосом сказал Гаенко. Маленький и кривоногий, он едва поспевал за ними. – Девушки, вы не нас дожидаете?
Те ускорили шаг, не обернувшись. Гаенко сказал:
– Дела у них. Может, экзамены сдают.
– Наверное, – поддакнул Рябов и добавил: – А у меня в Ленинграде знакомая есть.
– У тебя?! – до обидного поразился Гаенко.
– Три года назад у нас веранду снимали на лето. И дочка у них была, Наташа. На лицо и на фамилию всех помню, только адрес забыл. В гости звали…
– Да как же ты в Ленинграде найдешь человека по фамилии? Тут одних Петровых миллион.
– В том-то и дело, что фамилия редкая – Ли.
– Как?
– Ли.
– Просто Ли?
– В том-то и дело.
– Пошли в Ленсправку, есть такая будочка. Там за пятак кого хочешь найдут, любого рецидивиста.
Старушка в будке долго листала толстую книгу, переспрашивала и отчего-то сердилась.
– Фамилия?
– Чья, моя?
– О господи! Того, кто вам нужен.
– Ли.
– Как?
– Ли, – отчетливо повторял Васька, – лэ, и-и, Ли.
– Инициалы?
– Да вроде бы из русских.
– Инициалы, я вас спрашиваю.
– Русские, я же сказал. Отец, тот на китайца смахивает малость, а Наташа русская…
– Нет, вы просто издеваетесь! Имя-отчество мне надо знать.
– Так бы и сказали. Чье, мое?
– Я этого не вынесу… Имя-отчество того, кого разыскиваете.
– Вот этого не знаю, не помню!..
В Ленинграде оказалось два семейства по фамилии Ли. Гаенко записал оба адреса, на Марата, 12, и в Дачном.
– «Малыша» возьмем? – сказал он. – Думаю, не повредит.
Дом на Марата был украшен старинными лепными колоннами. Солдаты миновали полутемный двор. По углам возвышались мусорные баки. Чахлый газон с оградой из проржавевших труб лишь подчеркивал массивное убожество этих неоштукатуренных стен с желтыми и розовыми окошками. Старик с лохматой болонкой указал им дорогу. Солдаты поднялись на четвертый этаж.
– А не попрут нас отсюдова? – вдруг испугался Гаенко.
– Так ведь сами звали. И потом, кабы мы пьяные или что…
Дверь отворил рослый мужчина с жесткими прямыми волосами. На нем была теплая домашняя куртка. Увидев военных людей на площадке, мужчина забеспокоился. Гаенко козырнул.
– Здравия желаем, – бодро начал он, – мы извиняемся…
Но по коридору уже шла девушка, взволнованная, рыжеволосая, в какой-то странной треугольной накидке.
– Папа, это же Вася, – крикнула она, – сын тети Шуры из Боровлянки, помнишь, он меня еще курить учил! Заходите, мальчики, ну что же вы?..
Пол в квартире блестел, отражая свет импортных немецких бра. Рябов и Гаенко молча стащили сапоги, обернув портянки вокруг голенищ. Когда друзья шли босиком по коридору, тесемки от галифе волочились следом. Гаенко достал из кармана «маленькую» и нес ее перед собой, как фонарик.
– Да тут можно баскетбольные кольца повесить! – воскликнул он.
Комната была просторная, с высоким потолком. На фоне старинной темной мебели выделялись пестрые безделушки, кричащие яркие репродукции, заграничные конверты от пластинок. В кресле сидел худой печальный юноша с интеллигентным лицом. За его спиной девица в брюках перелистывала книгу.
– Я вам шлепанцы дам, – сказала Наташа.
– Да ничего, и так сойдет, – отмахнулся Гаенко. – Абстракция? Уважаю, – добавил он, показав на одну из картин.
Наступила тишина. Чтобы как-то ее заполнить, юноша, который назвался Федей, включил магнитофон. Раздались тоскливые звуки. Гаенко с «маленькой» в руке стал притоптывать в такт. Затем он сказал, шевельнув пальцами босой ноги:
– А вот у нас в Перми был случай. Один мужик ботинки носил сорок восьмого размера. В магазинах не достать. А ему из дому не в чем выйти, старые начисто прохудились. Короче – завал. Что делать? Он и в министерство писал, и в газету обращался, ничего не помогает. Тут ему жена и говорит: «Ты бы, Паша, мозоли срезал». А мозоли у него были – это страшное дело. Мужик послушался, наточил саксан и р-раз, все мозоли долой! Теперь он сорок третий размер носит и хоть бы хны…
Все то время, что Андрюха рассказывал, Наташа и ее гости как-то встревоженно переглядывались. В конце интеллигентный юноша фальшиво засмеялся, а Васька Рябов покраснел.
– Рассказали бы, как вы служите, – попросила Наташа.
– Пардон, но это военная тайна, – отчеканил Гаенко.
И снова наступила тишина.
– Сообразим, – поднялся Гаенко с «маленькой» в руке, – что-то стало холодать, не пора ли нам… – Он умолк, выжидательно глядя на девицу в брюках.
– Поддать, – с испугом шепнула та.
– Что-то стали ножки зябнуть, не пора ли нам…
– Дерябнуть, – еле слышно пролепетала гостья.
Наташа достала рюмки. К удивлению Рябова, девушки тоже выпили. «Верно, белое пьют, не соврал Андрюха».
– Вы бы рассказали что-нибудь, – обратилась хозяйка к Ваське Рябову.
– А чего рассказывать?
– Ну, я не знаю, мало ли…
– Зато он штангу жмет сто килограмм, – вставил Гаенко.
– Ого, – произнесла Наташа, – Федя, ты бы мог?
– Увы, – сказал юноша, – я потерян для спорта.
И снова наступила тишина.
– А вот у нас в Перми был случай, – заговорил Андрей, – так это чистая фантастика.
Потом он, как бывалый рассказчик, выдержал томительную паузу, достал папиросы, закурил, сунул обгоревшую спичку в коробок и продолжал:
– Был у нас случай в Перми, как один мой дружок с похмелья глаз выпил.
Наташа и ее гостья обеспокоенно переглянулись.
– Глаз? – переспросила хозяйка. – Собственный глаз?
– Дело было так. Керосинили мы с Жекой Фиксатым четыре дня. Я аванс пропил, он аванс пропил, и занять не у кого. Я свои «котлы» за десятку вшил. Пропили десятку. На следующий день весь город обошли – непруха. Вечереет, а мы еще и не опохмелялись. Тут Жека мне и говорит: «Идея. У моей мамаши глаз заспиртованный хранится». Мать его в школе ботанику вела и зоологию. И у нее там всякие зародыши в банках стояли. Ну, мы бегом в эту школу. Жека выносит банку. А там, значит, глаз. Большой такой, как помидор, я даже удивился. Фиксатый его выловил и в сортир, а спирт мы тут же и употребили. Жеку выворачивать стало, пена идет со рта, да и мне не по себе. Хорошо, у его мамаши как раз переменка, звонок с урока. Грамотная женщина, шуметь не стала, а сразу за врачом.
Гаенко стих.
– Ну и что же? – поинтересовался Федя.
– Да у меня-то все о’кей, – сказал Гаенко, – а вот с Фиксатым хуже.
– Помер? – тихо вскрикнула Наташа.
– Да нет. В тот-то раз его спасли, оклемался, а к весне ушел этапом. На танцах одного пощекотил. Шабером под ребра…
Гости сидели бледные, притихшие. Беззвучно, чуть покачиваясь, крутилась заграничная пластинка.
– Пора нам, – сказал Васька Рябов.
– Ой, да вы же и чаю не выпили, – забеспокоилась хозяйка, – это буквально три минуты.
– Пора, – упрямо настаивал ефрейтор.
– Нет, так я вас не отпущу.
Наташа достала из шкафа хрустальную вазу, полную яблок:
– Берите, тут каждому по яблоку, вы же видите, хватит всем, да не стесняйтесь, Андрюша, Вася…
Когда они натягивали сапоги, в прихожую выглянул отец.
– До свидания, молодые люди, – сказал он, – берегите, как говорится, честь смолоду, зорко охраняйте наши рубежи…
– Служим Советскому Союзу! – негромко выкрикнул Рябов.
– Все будет о’кей, – заверил Гаенко.
Не глядя друг на друга, они спустились по лестнице. Моросил дождь. В сыром полумраке желтели фары машин и огни автоматов с газированной водой. Толпа поредела, лишившись ярких красок. Темнота, казалось, приглушила звуки. Над городом стоял негромкий мерный гул.
Некоторое время друзья шли молча.
– А ты ей, видать, понравился, – осторожно начал Гаенко.
Рябов недоверчиво взглянул на него и промолчал.
– Зуб даю, – поклялся Гаенко, – знаешь, как она на тебя смотрела?
Он выпучил глаза, изобразив всем своим видом женский трепет.
– Это она с испугу, – произнес Васька Рябов.
У каждого из них под сукном шинели рельефно и тяжело обозначалось яблоко. Гаенко вытащил свое и с хрустом надкусил. Рябов тоже. Часы над головой показывали без двадцати восемь.
– Успеваем, – сказал Гаенко, разворачивая карту, – до вокзала пять минут и в электричке сорок, а там рукой подать…
Вдруг он засмеялся, свободной от яблока рукой крепко ухватил Ваську за ремень и попытался кинуть его через бедро. Тот широко расставил ноги и без труда избежал приема. Но Гаенко сразу же ушел влево, рванул Ваську на себя, чтобы дать заднюю подсечку. Смятая карта упала на асфальт. Огрызок яблока покатился через трамвайные рельсы.
Слабея от хохота, друзья возились под фонарем, и редкие прохожие без злобы смотрели на них…
Спустя час они подходили к зеленым воротам. Рядом желтело окошко караульной будки. Дневальный, не глядя, пропустил их, звякнув штырем. В десяти метрах начинался забор, увенчанный тремя рядами колючей проволоки. На углу возвышался сторожевой пост.
Из канцелярии доносились звуки аккордеона. Там репетировал капитан Чудновский, пытаясь сыграть буги-вуги. Желтоватые клавиши аккордеона были пронумерованы. Чудновский обозначил фломастером, какую нажимать.
– Не опоздали? – спросил он, продолжая тихо музицировать.
Гаенко взглянул на часы, протянул увольнительные.
– Посмотрите в коридоре завтрашний наряд, – сказал Чудновский. – Рябов поведет бесконвойников на отдельную точку. Гаенко в распоряжение старшего надзирателя Цвигуна. Еще раз повторяю, с зеками не церемониться. Снова опер жаловался, понимаешь… Никаких костров, никаких перекуров… Родственников гнать! Сахара кусок найду при шмоне – увольнения лишитесь, ясно?
– Ясно! – выкрикнул Рябов.
– Все будет о’кей, – заверил Гаенко.
– И с зеками, говорю, построже.
– Да я бы передушил их, гадов! – сказал Андрюха.
– Это точно, – подтвердил Васька Рябов.
– Можете идти.
Друзья козырнули и вышли. Вслед им раздавалось:
- От Москвы и до Калуги
- Все танцуют буги-вуги…
Зона
Записки надзирателя
Имена, события, даты – все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.
Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным.
Автор
Письмо издателю
4 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Дорогой Игорь Маркович!
Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.
Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года – как можно быстрее.
Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.
Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.
Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:
Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта…
Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?
Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну, лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами…
Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын – великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.
Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.
Это – своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.
Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея – что мир абсурден…
Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.
Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпопей.
Дело осложнилось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.
В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.
Местами пленка испорчена. (Уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы.) Некоторые фрагменты утрачены полностью.
Восстановление рукописи с пленки на бумагу – дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко. И кстати, недешево.
На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать.
С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.
Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями.
Главное – будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело, – с Богом!..
Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.
– В здешних краях должны жить одни эстонцы, – говорил Пахапиль, – и больше никто. Чужим здесь нечего делать…
Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.
Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.
Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче – жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.
«Зачем эстонцу медаль?» – долго раздумывал Пахапиль.
И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз – в магазине Лансмана.
Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.
– Здесь должны жить эстонцы, – сказал он, уходя, – а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..
Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.
Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.
А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли…
Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллине, на улице Луйзе, и получил диплом радиста.
По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:
– Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде, и больше нигде…
Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными псами.
Кроме того, в одиночестве – пил, если мешали – дрался. А также допускал – «инциденты женского порядка». (По выражению замполита Хуриева.)
– До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! – осторожно корил его замполит.
Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:
«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».
После некоторого раздумья он всегда добавлял:
«Прошу не отказать».
Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом – фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил.
– Эстонцы должны жить в Канаде, – тихо бормотал он под мерное гудение насекомых.
Они его почему-то не кусали…
Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам – идеологический работник. Было объявлено собрание.
– Заходи в ленкомнату, – прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев.
– Политику не хаваем! – ворчали солдаты. Однако зашли и расселись.
– Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, – начал подполковник Мар.
– Стихи, – разочарованно протянул латыш Балодис…
За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.
Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве…
… – В частях Советской Армии развивается благородная традиция, – говорил подполковник Мар.
И дальше:
– Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию – долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними… Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений…
Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.
Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая…
– Ваша рота дислоцирована напротив кладбища, – тянул подполковник, – и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденоносцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями…
Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови…
– Кто здесь Пахапиль?
Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха:
– В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!
– Кто здесь Пахапиль? – недоверчиво отозвался Мар. – Вы, что ли, Пахапиль?
– Так, – ответил Густав, краснея.
– Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажете о своих достижениях. В дороге набросаем план.
– Я вообще-то эстонец, – начал было Пахапиль.
– Это даже хорошо, – оборвал подполковник, – с точки зрения братского интернационализма…
В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации, толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.
Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На площадке их окружили.
– Знакомьтесь, – гражданским тоном сказал подполковник, – это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаметьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян…
«Перкеле, – задумался Густав, – одни жиды…»
Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал…
И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева – президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку – контрабас, из зала он не виден.
Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.
– Я вообще-то эстонец, – начал он.
В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай…
Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля… Что-то насчет – подхватить, развивать и стараться… И еще относительно патриотического воспитания… Что-то вроде преемственности и неразрывной связи… С целью шефства над могилами павших героев… Хотя Пахапиль эстонец вследствие братской дружбы между народами…
Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бедными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.
Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу:
– Здесь я сойду.
Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.
Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.
Здесь его карманы тяжело наполнились.
Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.
Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру.
Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.
После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.
17 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Если не ошибаюсь, мы познакомились в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.
Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился.
Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.
Сиротского комплекса у меня не возникло. Скорее – наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.
Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев. (Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным.) То есть использовал все преимущества любящего сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.
Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные сбережения дают хороший процент.
У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.
Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.
Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.
Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.
Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастная любовь, долги, женитьба… И как завершение всего этого – лагерная охрана.
Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.
То, что я увидел, совершенно меня потрясло.
Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели – разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.
В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.
Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.
Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость.
Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.
Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.
В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.
Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.
Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости – оставалось неизменным.
В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.
Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.
Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились – еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное – нереальным.
Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.
На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов.
Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.
Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.
Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами…
Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.
Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха.
Его окружили притихшие зеки.
Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка – девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав.
На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:
– Сеанс!..
Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире – всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне – сеанс. Порнографическая фотография – сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде – это тоже сеанс.
– Сеанс! – повторил Енин.
И окружавшие его зеки дружно подтвердили:
– Сеанс!..
Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил – не чаще.
Будет время, расскажу об этом подробнее…
Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.
Р. S. В нашей русской колонии попадаются чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!
Чуть левее, на телефонной будке:
ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.
СПРОСИТЬ АРИКА…
Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. При том что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.
Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.
Мищуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:
– Тебя ждут «вилы»… Тебя ждут «вилы»…
– Вас понял, вас понял, – ответил Мищук.
Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.
Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:
– Малыш испекся, наматывается трояк…
Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.
– СВП, – шипели зеки, – сука выпрашивает половинку!
Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху – Пупс.
– Ну и прозвище у вас, – говорил ему зека Лейбович, – назвались бы Королем. Или же – Бонапартом.
Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:
– По-вашему, Бонапарт – это что? По-вашему, Бонапарт – это должность?
– Вроде, – мирно соглашался Лейбович, – типа князя…
– Легко сказать – Бонапарт, – возражал Мищук, – а если я не похож?!.
В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.
Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.
Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.
Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек – сухое поле незадавшейся жизни…
– И что вы себе мыслите – делает прокурор? – говорил Адам.
– Прокурор таки делает выводы, – откликался зека Лейбович.
Конвой дремал у забора. Так было каждый день.
Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.
– Турбовинтовой МИ-6, – заметил Пупс, вставая. – Ё-ё! – лениво крикнул он.
Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.
– О-ё-ё! – крикнул Пупс.
И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить…
Вертолет шел на посадку.
– Чудеса, – первым констатировал Адам.
– Чтоб я так жил! – воскликнул Лейбович.
– Зуб даю, – коротко поклялся Чалый.
– Сеанс, – одобрительно заметил Мурашка.
– Феноменально, – произнес Белуга, – итс вандерфул!
– Не положено, – забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.
– Зафлюгировал винт! – надсаживаясь, кричал Мищук. – Скинул обороты! О-ё-ё… (Непечатное, непечатное, непечатное…)
Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони – самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.
– До чего ты худой, – сказал Маркони.
Затем они час хлопали друг друга по животу.
– Как там Вадя? – спрашивал Мищук. – Как там Жора?
– Вадя киряет. Жора переучивается на «ТУ». Ему командировки опротивели.
– Ну а ты, старый пес?
– Женился, – трагически произнес Маркони, опустив голову.
– Я ее знаю?
– Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял…
– А помнишь вальдшнепную тягу на Ладоге?
– Конечно помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?
– А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?
– Ох и напьемся… Это будет посильнее, чем «Фауст» Гёте…
– Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги…
– Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.
– Естественно, – согласился Мищук.
Помолчав, он добавил:
– Зря я тогда пристегнул этот шелк.
– Есть разные мнения, – последовал корректный ответ.
– Мне-то что, – сказал ефрейтор Дзавашвили, – режим не предусматривает…
– Ясно, – сказал Маркони, – узнаю восточное гостеприимство… Денег оставить?
– Деньги иметь не положено, – сказал Мищук.
– Ясно, – сказал Маркони, – значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.
– Мерси, – ответил бывший пилот.
– Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.
– Запрещено, – сказал Мищук, – у нас единая форма.
– У нас тоже, – сказал Маркони, – ясно… Ну, мне пора.
Он повернулся к Дзавашвили:
– Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям…
– Запрещено, – сказал конвоир, – мы на довольствии.
– Прощайте, – сунул ему руку Маркони.
И взошел по трапу.
Мищук улыбался.
– Мы еще полетим, – крикнул он, – мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!
– В элементе, – подтвердил Мурашка.
– Зуб даю, – однообразно высказался Чалый.
– Оковы тяжкие падут! – закричал фарцовщик Белуга.
– Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, – философски заметил Адам.
– Вы можете хохотать, – застенчиво произнес Лейбович, – но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно…
Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.
Мищука освободили через три года, по звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.
Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем…
А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры…
23 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.
Отвечаю на вопросы.
«Кукольник» по-лагерному – аферист. «Кукла» – афера.
«Скокарь» означает – грабитель. «Скок» – грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.
Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.
Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.
Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:
«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс… Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы…»
Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик – голодные, униженные, измученные страхом.
Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.
Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.
Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.
Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция.
Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:
«Птицы замерзали на лету…»
Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.
Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.
Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.
Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска – все становилось материалом неутомимого сознания.
Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной.
Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова…
Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко.
Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального…
Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.
Это были своеобразные люди.
Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами…
Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.
Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.
В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.
Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.
На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.
Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщовую лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.
Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом прокутившими гражданское тряпье.
Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО…
В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.
Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров – было небезопасно.
Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях. Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов.
В казарме его уважали, хоть и считали чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам? Почтение без особой любви…
Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять…
Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа. Это было в конце декабря.
Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:
– Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка – это неминуемое чепэ… Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние… Поговори с Балодисом, Воликовым… Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис – пей, но знай меру. Вообще не пить – это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия. Но свою меру знай… Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь…
В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли – Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро…
Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор Прищепы:
– Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепэ. В общем, пей, Фидель, но знай меру…
– Я меру знаю, – сказал Фидель, подтягивая брюки, – кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь… А твой Прищепа – гондовня и фраер. Он думает – праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть «капуста» – гудим. А без «капусты» что за праздник?!. И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть… Давай скорее, я тебя жду… Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать…
Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.
Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке.
– Наступит дембель, – мечтал Фидель, – приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар…
Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.
Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.
– Кругом! – закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. – Кругом! Сержант Мелешко – кру-у-гом! Головной убор – на месте!..
Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.
На кухне уже пили водку. Ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борщовой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн:
- Хотят ли цирики войны?..
- Ответ готов у старшины,
- Который пропил все, что мог,
- От портупеи до сапог.
- Ответ готов у тех солдат,
- Что в доску пьяные лежат,
- И сами вы понять должны,
- Хотят ли цирики войны…
Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут.
Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.
Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.
– До Нового года еще шесть часов, – отметил замполит, – а вы уже пьяные как свиньи.
– Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, – сказал Фидель.
У замполита было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили…
– Товарищи, – сказал Хуриев, – нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин…
– А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда – Лопатин, Лопатин… Ну, я Лопатин, – басом произнес Андрей Лопатин.
– Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны…
«Политработа должна быть конкретной». Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.
– Ты понял, Лопатин?
Лопатин подумал и громко сказал:
– Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!..
Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх.
На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:
– Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился… Молитву сам придумал. Изложить?
– Ну, – произнес Алиханов.
Фидель поднял глаза и начал:
– Милый Бог! Надеюсь, Ты видишь этот бардак?! Надеюсь, Ты понял, что значит вохра?!. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса…
Милый Бог! За что Ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью… И то не каждый день…
Милый Бог! Совесть есть у Тебя или нет? Если Ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски… Как ты думаешь, Бог есть?
– Маловероятно, – сказал Алиханов.
– А я думаю, что пока все о’кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить…
Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес:
– Мне в рай попасть охота. Я еще со Дня Конституции такую цель поставил.
– Попадешь, – заверил его Алиханов, – в охране у тебя не много конкурентов.
– Я и то думаю, – согласился Фидель, – публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы… Какой уж там рай… Таких и в дисбат не примут… А я на этом фоне, может, и проскочу как беспартийный…
…К десяти часам перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их.
По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары.
Двоих уже связали телефонным проводом. Их уложили в сушилке на груду тулупов.
В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:
– Тигр идет!
Участники игры залезли под стол.
– Отставить! – скомандовал Кунин.
Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:
– Тигр идет!
И все опять залезли под стол.
– Отставить! – скомандовал Кунин…
На этот раз кто-то остался под столом. Затем – второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести: «Тигр идет!» Он дремал, положив голову на кумачовую скатерть…
Около двенадцати прибежал инструктор Воликов с криком:
– Охрана, в ружье!
Его окружили.
– На питомнике девка кирная лежит, – объяснил инструктор, – может, с высылки забрела…
В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом – проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными…
Парни толпились возле инструктора.
– У Дзавашвили есть гандон, – сказал Матыцын, – я видел.
– Один? – спросил Фидель.
– Тоже мне, доцент! – рассердился Воликов. – Личный гандон ему подавай! Будешь на очереди…
– Банальный гандон не поможет, – уверял Матыцын, – знаю я этих, с высылки… У них там гонококки, как псы… Вот если бы из нержавейки…
Алиханов лежал и думал, какие гнусные лица у его сослуживцев.
«Боже, куда я попал?!» – думал он.
– Урки, за мной! – крикнул Воликов.
– Люди вы или животные?! – произнес Алиханов. Он спрыгнул вниз. – Попретесь целым взводом к этой грязной бабе?!
– Политику не хаваем! – остановил его Фидель.
Он успел переодеться в диагоналевую гимнастерку.
– Ты же в рай собирался?
– Мне и в аду не худо, – сказал Фидель.
Алиханов стоял в дверном проеме.
– Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!.. Что, не так?!.
– Не возникай, – сказал Фидель, – чего ты разорался?!. И помни, в народе меня зовут – отважным…
– Кончайте базарить, – сказал верзила Герасимчук.
И вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные.
Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском»…
Латыш Балодис разувался, сидя на питьевом котле. Балодис монотонно дергал себя за ногу. И при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати.
Балодис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука. Ключи Балодис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена…
– А я не пошел, – гордо сказал Балодис.
– Почему? – Алиханов захлопнул книгу.
– У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь? Анеле зовут. Любит меня – страшно.
– А ты?
– И я ее уважаю.
– За что же ты ее уважаешь? – спросил Алиханов.
– То есть как?
– Что тебя в ней привлекает? Я говорю, отчего ты полюбил именно ее, эту Анеле?
Балодис подумал и сказал:
– Не могу же я любить всех баб под Ригой…
Читать Алиханов не мог. Заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть.
Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Так начался год.
Алиханов поднялся и выключил репродуктор…
Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями. Но они молча легли.
Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темные одеяла. Ряды обернутых портянками сапог. Лозунги и плакаты на стенах.
Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине.
Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку. Захватил в сушилке полушубок. Затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.
Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужающегося к горизонту леса.
Алиханов миновал заснеженный плац. Дальше начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блокпостах.
Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину.
Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы.
Алиханов шел на свет в полузанесенном окне.
Затем постучал, и дверь отворилась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов, щурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная мандаринами и продуктовыми этикетками.
– Пей! – сказал электромонтер.
Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом.
– Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя порода!
Электромонтер положил голову на клеенку, видимо совершенно обессилев.
– Премного благодарен, – сказал Алиханов.
Через пять минут Тонечка сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей.
Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая, длинная тень Алиханова. И вновь темнота упала под ноги.
Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.
Когда Борис снова шел мимо вольеров, псы опять зарычали.
На питомнике было тесно. В одной комнате жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран». Кинозвезды улыбались, чуть разомкнув губы.
Борис остановился на пороге второй комнаты. Там на груде дрессировочных костюмов лежала женщина. Ее фиолетовое платье было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе, нагнулся.
– Девушка, – сказал он.
Бутылка «Пино-гри» торчала у него из кармана.
– Ой, да ну иди ты! – Женщина беспокойно заворочалась в полусне.
– Сейчас, сейчас, все будет нормально, – шептал Алиханов, – все будет о’кей…
Борис прикрыл настольную лампу обрывком служебной инструкции. Припомнил, что обоих инструкторов нет. Один ночует в казарме. Второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка…
Дрожащими руками он сорвал красную пробку. Начал пить из горлышка. Затем резко обернулся – вино пролилось на гимнастерку. Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность. Несколько секунд молчали оба.
– Это что? – спросила женщина.
В голосе ее звучало кокетство, подавляемое нетрезвой дремотой.
– «Пино-гри», – сказал Алиханов.
– Чего? – удивилась женщина.
– «Пино-гри», розовое крепкое, – добросовестно ответил надзиратель, исследуя винную этикетку.
– Один говорил тут – пожрать захвачу…
– У меня нет, – растерялся Алиханов, – но я добуду… Как вас зовут?
– По-разному… Мамаша Лялей называла.
Женщина одернула платье.
– Чулок у меня все отстЯгивается. Я его застЯгиваю, а он все отстЯгивается да отстЯгивается… Ты чего?
Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона.
– Все нормально, – сказал он.
Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.
– Ах ты, сволочь! – последнее, что услышал надзиратель…
Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы. Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах.
– Господи, куда я попал, – выговорил Алиханов, – куда я попал?! И чем все это кончится?!.
Невнятные ускользающие воспоминания коснулись Алиханова.
…Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы…
Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится… Школьники хватают Вову, держат его за плечи… Суют его голову в потемневший мешок… Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно…
Школьники хохочут. Среди других – Боря Алиханов, звеньевой и отличник…
…Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие. Но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря за Коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы. В сумерках танцуют несколько пар. На песке стоит маленький черный и блестящий транзистор.
Борис прижимает к себе Галю Водяницкую. На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки. Там, где место для судей. В его руке белеет свернутая газета.
Галя – студентка индонезийского отделения. Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он, тоже шепотом, повторяет за ней:
– Кером даш ахнан… Кером ланав…
Галя прижимается к нему еще теснее.
– Ты можешь не задавать вопросов? – говорит Алиханов. – Дай руку!
Они почти бегут с горы, исчезают в кустах. Наверху – бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого. Потом – его растерянный окрик:
– Э, э?!.
Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся точки. Похищенные у отца серебряные монеты… Растоптанные очки после драки на углу Литейного и Кирочной… И брошка, ослепительная желтая брошка в грубом, анодированном корпусе.
Затем Алиханов снова увидел квадрат волейбольной площадки, белеющий на фоне травы. Но теперь он был собой, и женщиной в мокром купальнике, и любым посторонним. И даже хмурым аспирантом с газетой в руке…
Что-то неясное происходило с Алихановым. Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся делом его рук, представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным. Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище.
Алиханов перестал негодовать и радоваться. Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе.
Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно выдвинул ящик письменного стола. Обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной ленты, пачку ванильных сухарей. Затем – мятые погоны с дырочками от эмблем. Две разбитые елочные игрушки. Гибкую коленкоровую тетрадь с наполовину вырванными листами. Наконец – карандаш.
И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы. Услышал довоенное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками…
Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради:
«Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак…»
За окном начиналась метель. Белые хлопья косо падали на стекло из темноты.
– Летом так просто казаться влюбленным, – шептал надзиратель.
Полусонный ефрейтор брел коридором, с шуршанием задевая обои.
«Летом так просто казаться влюбленным…»
Алиханов испытывал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал:
«Летом… непросто казаться влюбленным…»
Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью – «Орион»…
– Летом непросто казаться влюбленным, – снова и снова повторял Алиханов…
В десять часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой.
– Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, – сказал он, – это – чистый театр… Кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем…
Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками…
– Обстановка напряженная, – говорил сменщик, раздеваясь. – Мой тебе совет – возьми Гаруна. Он на третьем блокпосту. Спокойнее, когда пес рядом…
– Это еще зачем? – спросил Алиханов.
– То есть как? Может, ты Анаги не боишься?
– Боюсь, – сказал Алиханов, – очень даже боюсь… Но все равно Гарун страшнее…
Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую.
Повар Балодис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла.
Надзиратель огляделся.
Выцветшие обои, линолеум, мокрые столы…
Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем. Сел лицом к окну. Вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь. Подумал о том, что ждет его впереди… И спокойная торжествующая улыбка преобразила его лицо.
Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны.
И казалось, чего-то ждал от него…
11 марта 1982 года. Нью-Йорк
Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром, с шести и до восьми. Дальше – газета, радиостанция «Либерти»… Одна переписка чего стоит. Да еще – младенец… И так далее.
Развлечение у меня единственное – сигареты. Я научился курить под душем…
Однако вернемся к рукописи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература.
В этой связи мне бы хотелось коснуться природы литературного творчества. (Я представляю себе вашу ироническую улыбку. Помните, вы говорили: «Сережу мысли не интересуют…» Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее – буквально два слова.)
Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.
Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.
Как в этой ситуации поступает деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается…
Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной душе. Путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием…
Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой.
Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют…
Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной банальности». Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны.
Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта.
Тысячу раз я слышал: «Главное в браке – общность духовных интересов».
Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».
Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность. Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму.
В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин.
Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи. Скорее – наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку. А телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием.
Древние говорили:
«В здоровом теле – соответствующий дух!»
По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физически люди чаще бывают подвержены духовной слепоте. Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия.
В охране я знал человека, который не испугался живого медведя. Зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия.
Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость…
Вторая усвоенная мною истина еще банальнее. Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также – на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже – на мужчин и женщин.
Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в лагере – особенно.
Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шушере. Лекторы общества «Знание» пополняют ряды стукачей. Инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами. Расхитители государственного имущества пишут стихи. Боксеры-тяжеловесы превращаются в лагерных «дунек» и разгуливают с накрашенными губами.
В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему или к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.
Со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился. Тем более не изменилось человеческое сознание.
А значит, нет прогресса. Есть – движение, в основе которого лежит неустойчивость.
Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством. Пространством меняющихся обстоятельств…
Как это поется:
«Был Якир героем, стал врагом народа…»
И еще – лагерь представляет собой довольно точную модель государства. Причем именно Советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата (то есть – режим), народ (заключенные), милиция (охрана). Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве.
Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства.
То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана – типично советское учреждение…
Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все остальное – бесполезно?..
Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете.
У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину.
Только что звонил Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова.
Лена вам кланяется…
Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое – еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой. Поскольку живых евреев в Коми нет.
В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми. Но чаще всего там было пустынно и сыро.
Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации.
Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах…
Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.
Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме девяносто шесть томилось похотью. Остальные лежали в госпитале на Койне.
При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа.
Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь…
Летом в казарму явился новый инструктор – Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и говорит:
– Ну а барышни тут есть?
– И даже много, – заверил его Ханнисте, подрезая ногти штыком от автомата.
– Как это? – спросил инструктор.
– Солоха, Рая и восемь «дунек»…
– Сууре пярасельт! – воскликнул Густав. – Тут можно жить!
Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. «Дуньками» называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой…
В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые марлевые занавески. Еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных.
Инструктор был абсолютно здоров, но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля и ругались матом.
Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии. Вернее, о Таллине, об игрушечном городе, о Мюнди-баре. Он рассказывал, что таллинские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям.
Иногда Пахапиль добавлял:
«Настоящий эстонец должен жить в Канаде…»
Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал: «Замолчать!» – и повалил Раю на койку.
В санчасти пахло больницей, и это многое упрощало. Пахапиль лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз и подтянул брюки.
Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо ратуши…
Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе. Пахапиль сказал:
– Ты разбила мне сердце…
Ночью он снова пришел. Когда он постучал, за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок.
На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу.
– Вольно! – сказал Фидель, придерживая брюки. – Вольно, говорю…
– Курат! – воскликнул Густав. – Падаль!
– Мамочки! – сказала Рая и добавила: – Выражаться не обязательно.
– Ах ты нерусский, – сказал Фидель.
– Сука! – произнес инструктор, заметив Раю.
– А что, если мне вас обоих жалко? – сказала Рая. – Что тогда?
– Чтобы все дохли! – сказал инструктор.
В коридоре громко запел дневальный:
- …Сорок метров крепдешина,
- Пудра, тушь, одеколон…
– Ваша жена может приезжать, – сказала Рая, – она такая интересная дама. Я видела фотку…
– Надо сейчас давать по морде! – крикнул инструктор.
Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка: голая женщина и рядом слова:
«Милэди, я завтра буду с вами!»
– Хромай отсюда, – сказал Фидель.
Пахапиль умел драться. С любой позиции он мог достать Фиделя. Его учил боксу сам Вольдемар Хансович Ней.
Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели.
– Пришел, – возмутилась Раиса, – и стоит как неродной. Скромнее надо быть. Ваша нация почище евреев. Те хоть не пьют…
– Кругом! – сказал Фидель.
– Подождал бы до завтра, – сказала Рая.
Пахапиль засмеялся и ушел досматривать телепередачу.
– Живет недалеко, – сказала Рая, – взяла бы да приехала. Тоже уж мне, генеральша…
– Одно слово – немцы, – покачал головой Фидель.
19 марта 1982 года. Нью-Йорк
Наш телефонный разговор был коротким и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге.
Недавно я прочитал книгу – «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа. О его деятельности революционера и провокатора.
Как революционер он подготовил несколько успешных террористических актов. Как агент полиции выдал на расправу многих своих друзей.
Все это Азеф проделывал десятилетиями.
Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савинкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской?
Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором – одновременно.
Полицейские и революционеры действовали одинаковыми методами. Во имя единой цели – народного блага.
Они были похожи, хоть и ненавидели друг друга.
Поэтому-то Азеф и не выделялся среди революционеров. Как, впрочем, и среди полицейских. Полицейские и революционеры говорили на одном языке.
И вот я перехожу к основному. К тому, что выражает сущность лагерной жизни. К тому, что составляет главное ощущение бывшего лагерного надзирателя. К чертам подозрительного сходства между охранниками и заключенными. А если говорить шире – между «лагерем» и «волей».
Мне кажется, это главное.
Жаль, что литература бесцельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого…
«Каторжная» литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами. Начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом». Плюс – Чехов, Шаламов, Синявский.
Наряду с «каторжной» имеется «полицейская» литература. Которая также богата значительными фигурами. От Честертона до Агаты Кристи.
Это – разные литературы. Вернее – противоположные. С противоположными нравственными ориентирами.
Таким образом, есть два нравственных прейскуранта. Две шкалы идейных представлений.
По одной – каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник – соответственно – монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия.
По второй – каторжник является чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно, – героем, моралистом, яркой творческой личностью.
Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном – жертву. А в себе – карателя и душегуба.
То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы. И разумеется, более убедительной. (Все же Сименон – не Достоевский.)
Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая – тем более.
Я, вслед за Гербертом Маркузе (которого, естественно, не читал), обнаружил третий путь.
Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации.
По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир.
Мы говорили на одном приблатненном языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали одни и те же лишения.
Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под машинку. Наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми пятнами. Наши сапоги распространяли запах конюшни. А лагерные робы издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов.
Мы были очень похожи и даже – взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы.
Повторяю – это главное в лагерной жизни. Остальное – менее существенно.
Все мои истории написаны об этом…
Кстати, недавно пришла бандероль из Дартмута. Два куска фотопленки и четыре страницы текста на папиросной бумаге.
Кое-что, я слышал, попало в Голубую Лагуну…
Жаль, если пропадет что-нибудь стоящее. Ладно…
Буду лететь из Миннеаполиса – сойду в Детройте. Встретите на машине – хорошо. Нет, доберусь сам.
Крышу ремонтировать не обязательно…
Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно миновать знаменитое Осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь. Затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции. И лишь тогда оказаться в поселке Чебью.
Половина его населения – сезонники из бывших зеков. Люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду.
Годами они тянули срок. Затем надевали гражданское тряпье, двадцать лет пролежавшее в каптерках. Уходили за ворота, оставляя позади холодный стук штыря. И тогда становилось ясно, что желанная воля есть знакомый песенный рефрен, не больше.
Мечтали о свободе, пели и клялись… А вышли – и тайга до горизонта…
Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых. Храня, если можно так выразиться, идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов.
Они женились бог знает на ком. Калечили детей, внушая им тюремные премудрости:
«Только мелкая рыба попадается в сети…»
В результате поселок жил лагерным кодексом. Население его щеголяло блатными повадками. И даже третье поколение любой семьи кололось морфином. А заодно тянуло «дурь» и ненавидело конвойные войска.
И не стоило появляться здесь выпившему чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались тучи. За спиной его хлопали двери. И хорошо, если парень был не один…
Год назад три пильщика вывели из шалмана бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил, упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась под крыльцо. А потом сделали «качели». Положили ему доску на грудь и шагнули коваными сапогами.
Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала думали – пьяный. Но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову.
Затем приезжал сюда военный дознаватель. Говорил о вреде алкоголя перед картиной «Неуловимые мстители». А на вопросы: «Как же ефрейтор Дымза?! Испекся, что ли?! И все, с концами?!» – отвечал:
– Следствие, товарищи, на единственно верном пути!..
Пильщики же так и соскочили. Хотя на Чебью их знала каждая собака…
Чтобы выйти к лесоповалу, нужно миновать железнодорожное полотно. Еще раньше – шаткие мостки над белой от солнца водой. А до этого – поселок Чебью, наполненный одурью и страхом.
Вот его портрет, точнее – фотоснимок. Алебастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба. Лавчонка, набитая пряниками и хомутами. Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага. Афиша Леонида Кострицы. Мертвец или пьяный у обочины.
И над всем этим – лай собак, заглушающий рев пилорамы…
Впереди шел инструктор Пахапиль с Гаруном. В руке он держал брезентовый поводок. Закуривая и ломая спички, он что-то говорил по-эстонски.
Всех собак на питомнике Густав учил эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны. Они жаловались старшине Евченко:
«Ты ей приказываешь – к ноге! А сучара тебе в ответ – нихт ферштейн!»
Инструктор вообще говорил мало. Если говорил, то по-эстонски. И в основном не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда сопровождал его.
Пахапиль был замкнутым человеком. Осенью на его имя пришла телеграмма. Она была подписана командиром части и секретарем горисполкома Нарвы:
«Срочно вылетайте регистрации гражданкой Хильдой Кокс находящейся девятом месяце беременности».
Вот так эстонец, думал я. Приехал из своей Курляндии. Полгода молчал, как тургеневский Герасим. Научил всех собак лаять по-басурмански. А теперь улетает, чтобы зарегистрироваться с гражданкой, откликающейся на потрясающее имя – Хильда Кокс.
В тот же день Густав уехал на попутном лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун. Наконец Пахапиль вернулся.
Он угостил дневального таллинской «Примой». Сшибая одуванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям. Сунул руку каждому из нас.
– Женился? – спросил его Фидель.
– Та, – ответил Густав, краснея.
– Папочкой стал?
– Та.
– Как назвали? – спросил я.
Мне в самом деле было интересно, как назвали ребенка. Ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс.
Вот так эстонец, думал я. Год прожил на краю земли. Перепортил всех конвойных собак. Затем садится на попутный лесовоз и уезжает. Уезжает, чтобы под крики «горько» целовать невообразимую Хильду Браун. Вернее – Кокс.
– Как назвали младенца? – спрашиваю.
Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук.
– Терт ефо снает…
И ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом.
Теперь они снова появлялись вместе. Пес казался более разговорчивым.
Однажды я увидел Пахапиля за книгой. Он читал в натопленной сушилке. За столом, пожелтевшим от ружейного масла. Под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног.
Я подошел на цыпочках. Заглянул через плечо. Это была русская книга. Я прочитал заглавие:
«Фокусы на клубной сцене»…
Впереди идет Пахапиль с Гаруном. В руке у него брезентовый поводок. То и дело он щелкает себя по голенищу.
На ремне его болтается пустая кобура. ТТ лежит в кармане.
С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров. Маленький и неуклюжий, Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно привязали к автомату.
Зеки его презирают. И в случае чего – не пощадят.
Год назад возле Синдора Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. Зеки стояли молча, понимая, как опасен шестидесятизарядный АКМ в руках неврастеника и труса.
Фидель минут сорок держал их под автоматом, распаляясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние запели. Над рекой пронеслось:
- А дело было в старину,
- Эх, под Ростовом-на-Дону,
- Со шмарой, со шмарой…
- Какой я был тогда чудак,
- Надел ворованный пиджак,
- И шкары, и шкары…
Фидель стал пятиться. Он был маленький, неуклюжий, в твердом полушубке. Крикнул с побелевшими от ужаса глазами:
– Стой, курва, приморю!
И вот тогда появился рецидивист Купцов. (Он же – Коваль, Анаги-заде, Гак, Шаликов, Рожин.) Вышел из первой шеренги. И в наступившей сразу тишине произнес, легко отводя рукой дуло автомата:
– Ты загорелся? Я тебя потушу…
Пальцы его белели на темном стволе.
Фидель рванул на себя АКМ. Дал слепую очередь над головами. И все пятился, пятился…
Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука казалась изящной. Телогрейка в морозный день была распахнута. Рядом вместо замершей песни громоздились слова:
«Я тебя потушу…»
Он напоминал человека, идущего против ветра. Как будто ветер навсегда избрал его своим противником. Куда бы ни шел он. Что бы ни делал…
Потом я видел Купцова часто. В темной сырой камере изолятора. У костра на лесоповале. Бледного от потери крови. И ощущение ветра уже не покидало меня.
Впереди шагает Пахапиль с Гаруном. Щелкая брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке инструктор обращается только к собакам.
Слева колонну охраняет распятый на берданке ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что значит модернизированный АК в руках такого воина, как Фидель.
Мы переходим холодную узкую речку. Следим, чтобы заключенные не спрятались под мостками. Выводим бригаду к переезду. Ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь. И направляемся к лесоповалу.
Так называется участок леса, окруженный символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные сторожевые вышки.
Охрану несет караульная группа. Возглавляет ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП.
Мы заводим бригаду в сектор охраны. После этого наши обязанности меняются.
Пахапиль становится радистом. Он достает из сейфа Р-109. Выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну. Затем роняет в просторный эфир таинственные нежные слова:
– Алло, Роза! Алло, Роза! Я – Пион! Я – Пион! Вас не слышу. Вас не слышу!..
Фидель с гнусным шумом двигает ржавые штыри в проходном коридоре. Он считает карточки. Берет ключи от пирамиды. Осматривает сигнальные «Янтари» и «Хлопушки». Трогает, хорошо ли растоплена печь. Превращается в контролера хозяйственной зоны.
Зеки разводят костры. Шоферы лесовозов выстраиваются за соляркой. Перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает. Хотя наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от караула.
Двенадцать сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день.
Вокруг – дым костров, гул моторов, запах свежих опилок, перекличка часовых. Эта жизнь медленно растворяется в бледном сентябрьском небе.
Гулко падают сосны. Тягачи волокут их, подминая кустарник. Солнце ослепительными бликами ложится на фары машин. А над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова:
– Алло, Роза! Алло, Роза! Я – Пион! Я – Пион! Часовые на вышках! Сигнализация в порядке! Запретная полоса распахана! Воры приступили к работе! Прием! Вас не слышу! Вас не слышу!..
Контролер пропустил меня в зону. Сзади неприятно звякнул штырь. У костра расконвоированный повар Галимулин заряжал чифирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чифира было строго запрещено. Режимная инструкция приравнивала чифиристов к наркоманам. Однако все бакланье чифирило, и мы это знали. Чифир заменял им женщин.
Галимулин подмигнул мне. Я убедился, что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить ему кондеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой. Передние зубы у него отсутствовали.
Я прошел мимо балана, любуясь желтым срезом. Уступил дорогу тягачу, с шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской.
Зеки раскатывали бревна, обрубали сучья. Широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром.
– Поживей, уркаганы, – крикнул он, заслонив ладонью глаза, – отстающих в коммунизм не берем! Так и будут доходить при нынешнем строе…
Сучкорубы опустили топоры, кинули бушлаты на груду веток. И опять железо блеснуло на солнце.
Я шел и думал:
«Энтузиазм? Порыв? Да ничего подобного. Обычная гимнастика. Кураж… Сила, которая легко перешла бы в насилие. Дай только волю…»
Переговариваясь с часовыми, я обогнул лесоповал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото. И вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем.
У низкого костра спиной ко мне расположился человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал бутерброд с томатной пастой.
– А, Купцов, – сказал я, – опять волынишь?! В крытку захотел?
В отголосках трудового шума, у костра – зек был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал и судно движется навстречу ветру…
…Зима. Штрафной изолятор. Длинные тени под соснами. Окна, забитые снегом.
За стеной, позвякивая наручниками, бродит Купцов. В книге нарядов записано: «Отказ».
Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. Тридцать слов, похожих на взрывы: БОМЖ (без определенного места жительства). БОЗ (без определенных занятий). Гриф ОР (опасный рецидивист). Тридцать два года в лагерях. Старейший «законник» усть-вымского лагпункта. Четыре судимости. Девять побегов. Принципиально не работает…
Я спрашиваю:
– Почему не работаешь?
Купцов звякает наручниками:
– Сними браслет, начальник! Это золото без пробы.
– Почему не работаешь, волк?
– Закон не позволяет.
– А жрать твой закон позволяет?
– Нет такого закона, чтобы я голодал.
– Ваш закон отжил свое. Все законники давно раскололись. Антипов стучит. Мамай у кума – первый человек. Седой завис на морфине. Топчилу в Ропче повязали…
– Топчила был мужик и фраер, зеленый, как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабкин «угол» – вот его фортуна. Так и откороновался…
– Ну а ты?
– А я – потомственный российский вор. Я воровал и буду…
Передо мной у низкого костра сидит человек. Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд…
– Привет, – сказал Купцов, – вот рассуди, начальник. Тут написано – убил человек старуху из-за денег. Мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента – штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до семидесяти прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет… Более того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, десять миллионов угробить, или там сколько, а потом закурить «Герцеговину флор»…
– Слушай, – говорю я, – ты будешь работать, клянусь. Рано или поздно ты будешь шофером, стропалем, возчиком. На худой конец – сучкорубом. Ты будешь работать либо околеешь в ШИЗО. Ты будешь работать, даю слово. Иначе ты сдохнешь…
Зек оглядел меня как вещь. Как заграничный автомобиль напротив Эрмитажа. Проследил от радиатора до выхлопной трубы. Затем он внятно произнес:
– Я люблю себя тешить…
И сразу – капитанский мостик над волнами. Изорванные в клочья паруса. Ветер, соленые брызги… Мираж…
Я спрашиваю:
– Будешь работать?
– Нет. Я родился, чтобы воровать.
– Иди в ШИЗО!
Купцов встает. Он почти вежлив со мной. На лице его застыла гримаса веселого удивления.
Где-то падают сосны, задевая небо. Грохочет лесовоз.
Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без сигарет, без воздуха, на полухлебе.
– Ты даешь, начальник, – говорит он, когда я прохожу мимо амбразуры.
Наконец контролер отпускает его в зону.
В тот же день у него появляются консервы, масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес, снабжает его всем необходимым…
Февраль. Узкие тени лежат между сосен. На питомнике лают собаки.
Покинув казарму, мы с Хедояном оказываемся в зоне.
– Давай, – говорит Рудольф, – иди вдоль простреливаемого коридора, а я тебе навстречу.
Он идет через свалку к изолятору. По уставу мы должны идти вместе. Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит: «Двое – это больше, чем Ты и Я. Двое – это Мы…»
Мы расстаемся под баскетбольными щитами. Зимней полночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками свалки, Рудольф Хедоян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикают ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись. Но для этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте каждый раз.
Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный чайник. Значит, в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами и картами. Кругом – человек двадцать в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают игру.
– Не торопись, ахуна, – говорит карманник Чалый, – всех пощекочу!
– Жадность фраера губит, – замечает валютчик Белуга.
– С довеском, – показывает карты Адам.
– Задвигаю и вывожу, – тихо роняет Купцов…
Я мог бы уйти. Водворить на место чайник и захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики. Я мог бы остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной. Три минуты постоять, наблюдая, как алеет в снегу окурок. А потом на вахте я бы слушал, как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех:
– Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как по ошибке на старшину Евченко забрался…
Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак…
Я говорю с порога:
– Когда заходит начальник, положено вставать.
Зеки прикрывают карты.
– Без понта, – говорит Купцов, – сейчас нельзя…
– Это вилы, начальник, – произносит Адам.
Остальные молчат. Я протягиваю руку. Сгребаю податливые мятые бумажки. Сую в карманы и за пазуху. Чалый хватает меня за локоть.
– Руки! – приказывает ему Купцов.
И потом, обращаясь ко мне:
– Начальник, остынь!
Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный чайник.
Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги. Ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих мятых бумажек. Горечь всех слез. Злую волю…
Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно. Чужие тени кинулись под ноги. Мигнула лампочка в проволочной сетке. И я упал, не расслышав собственного крика…
В госпитале я лежал недели полторы. Над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстилался морозный день. Пейзаж в оконной раме…
Сухое чистое белье… Мягкие шлепанцы, застиранный теплый халат… Веселая музыка из репродуктора… Клиническая прямота и откровенность быта. Все это заслоняло изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автоматам часовых. И тем не менее я вспоминал Купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайди он ко мне в своей лагерной робе. Да еще и с книгой в руках.
Я не знал, кто ударил меня возле пожарного стенда. И все же чувствовал: неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка Купцова. Упала, как тень, на его лицо…
В шлепанцах и халате я пересек заснеженный двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги. Затем приехал в штаб на лесовозе. Явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьем чугунный витязь. Тон был начальственно-фамильярный:
– Говорят, на тебя покушение было?
– Просто сунули шабер в задницу.
– Ну и что хорошего? – спросил подполковник.
– Да так, – говорю, – ничего.
– Как это произошло?
– Играли в буру. Я отнял деньги.
– Когда тебя обнаружили, денег не было.
– Естественно.
– Зачем же ты приключений ищешь?
– Затем, что подобные вещи кончаются резней.
– Товарищ подполковник…
– Резней, товарищ подполковник.
– Это в наших интересах.
– Я думаю, надо по закону.
– Ладно, считай, что я этого не говорил. Ты питерский?
– С Охты.
– В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на Ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит: «Я из штаба части!» Дневальный в ответ: «А я – с Лиговки!..» Ты приемами самбо владеешь?
– Более или менее.
– Говорят – от топора и лома нет приема… Можно перевести тебя в другую команду.
– Я не боюсь.
– Это глупо. Отошлем тебя в Синдор…
– А в Синдоре – не зеки? Такое же сучье и беспредельщина.
– Права думаешь качать?
– Не собираюсь.
– Товарищ подполковник.
– Не собираюсь, товарищ подполковник.
– Вот и замечательно, – сказал он, – а то прижмуриться недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься…
Штабной грузовик отвез меня к переезду.
Я шел по укатанной гладкой дороге. Затем – по испачканной конским навозом лежневке. Сокращая дорогу, пересек замерзший ручей. И дальше – мимо воробьиного гвалта. Вдоль голубоватых сугробов и колючей проволоки.
Сопровождаемый лаем караульных псов, я вышел к зоне. Увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы. Покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого солдата у колодца. Чистые дрова, сложенные штабелем под навесом. И вдруг ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни. По этой жизни с куревом и бранью. С гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном…
Я зашел к старшине. Отдал ему продовольственный аттестат. Затем направился в сушилку.
Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель.
Вопросов мне не задавали. Только писарь Богословский усмехнулся и говорит:
– А мы тебя навечно в списки части занесли…
Как я затем узнал, из штаба части присылали военного дознавателя. Он прочитал лекцию:
«Вырождение буржуазного искусства».
Потом ему задали вопрос:
– Как там наш амбал?
Лектор ответил:
– Следствие на единственно верном пути, товарищи…
Купцова я увидел в зоне. Это случилось перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил:
– Как здоровье, начальник?
– Ничего, – говорю, – а ты по-прежнему в отказе?
– Пока закон кормит.
– Значит, не работаешь?
– Воздерживаюсь.
– И не будешь?
Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они шли группами и поодиночке – к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду…
– Не будешь работать?
– Нихт, – сказал он, – зеленый прокурор идет – весна! Под каждым деревом – хаза.
– Думаешь бежать?
– Ага, трусцой. Говорят, полезно.
– Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения.
– Заметано, – ответил Купцов и подмигнул.
Я схватил его за борт телогрейки:
– Послушай, ты – один! Воровского закона не существует. Ты один…
– Точно, – усмехнулся Купцов, – солист. Выступаю без хора.
– Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав…
Купцов произнес медленно, внятно и строго:
– Один всегда прав…
И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова.
Это было так неожиданно, глупо, противно… Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой.
Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее – ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта – мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же – Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. Что он – дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы – одно. Потому что так ненавидеть можно одного себя.
И еще я почувствовал, как он устал…
Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью.
Мы втроем на КПП.
Фидель греет руки около печной заслонки. Козырек его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега бурках.
– Фамилия наша Купцовы, – говорит она, развязывая платок.
– Свидание не положено.
– Так я же издалека.
– Не положено, – твердит Фидель.
– Мальчики…
Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглея и стыдясь.
Вводят Купцова. Он идет по-блатному, как в миру. Сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик…
Зек останавливается в проходном коридоре. Заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит… Не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке.
– Боря, – шепчет женщина, – совсем зеленый.
– Как огурчик, – усмехается тот.
– Свидание не положено, – говорит Фидель.
– Они предложили, – женщина с тоской глядит на мужа, – они предложили… Мне срамно повторить…
– Найду, – тихо, одному себе говорит Купцов, – найду я вас, ребята… А уж получать буду – не скощу…
– Баклань, – угрожающе произносит Фидель, – в изоляторе клеток навалом.
И потом, обращаясь к дежурному надзирателю:
– Увести!
Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой.
– Соглашайся, Тамара, – неожиданно и внятно говорит он, – соглашайся. Соглашайся, чего предложили начальники…
Надзиратель берет его за локоть.
– Соглашайся, Томка, – говорит он.
Надзиратель тащит его, почти срывая робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди.
– Соглашайся, – все еще просит и умоляет Купцов…
Я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же кромешной тьме дорога едва различима. Я оступаюсь, падаю в снег. Вижу небо, белое от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей…
Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю море, дюны, обесцвеченный песок. И девушку, которая всегда была права. И то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки. И то, как я поймал окунька, бросил его в море. А потом уверял девушку, что рыбка крикнула: «Мерси!»…
Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел. Хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать…
Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров. Увидел белый дым над вахтой.
Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики на отполированную тягачами лежневку…
Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было…
– Такая бикса эта Нюрка, – говорил Фидель, – придешь – водяра, холодец. Сплошное мамбо итальяно. Кирнешь, закусишь, и понеслась душа в рай. А главное – душевно, типа: «Ваня, не желаешь ли рассолу?»
– Нельзя ли договориться, – хмуро спросил инструктор, – чтобы она мне выстирала портянки?
И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни…
Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зек вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили.
Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей. Но все-таки больше – собак.
Трижды я отпускал его в зону. Трижды у нарядчика появлялась короткая запись:
«Отказ»…
Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список.
– Лесоповал – на выход! – скомандовал он.
Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади.
Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей.
Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной от льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками. Пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал. Миновали огромные цистерны, водокачку и помпезное здание железнодорожного сортира. И уж затем вышли на грязную от дождей лежневку.
– В детстве я любил по грязи шлепать, – сказал мне Фидель, – а ты? Сколько я галош в дерьме оставил – это страшно подумать!..
Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами.
Пахапиль остановил зеков, тронул козырек и начал докладывать.
– Отставить! – прервал его начальник караула Шумейко.
Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейко можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило…
Шумейко пересчитал заключенных. Тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой. И наконец махнул часовым.
Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь.
Пахапиль достал из сейфа рацию. Вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну. И потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями:
– Алло, Роза! Алло, Роза! Я – Пион! Я – Пион! Сигнализация в порядке. Запретка распахана. Урки работают. Вас не слышу, вас не слышу, вас не слышу…
Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня, нарочито громко запел:
- На бану, на бану,
- Эх, да на баночке,
- Чемоданчик грабану,
- И спасибо ночке…
Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там возле огня сидел на корточках человек.
– Не работаешь, бес?
– Воздерживаюсь. Привет, начальник.
– Значит, в отказе?
– Без изменений.
– Будешь работать?
– Закон не позволяет.
– Две недели ШИЗО!
– Начальник…
– Будешь работать?
– Начальник…
– Шофером, возчиком, сучкорубом…
Я подошел и разбросал костер.
– Будешь работать?
– Да, – сказал он, – пойдем.
– Сучкорубом или возчиком?
– Да. Пойдем.
– Иди вперед…
Он шел и придерживал ветки. Ступая в болото не глядя.
Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику:
– Топор.
Нарядчик усмехнулся.
– Топор! – крикнул я.
Нарядчик подал Купцову топор.
– К Летяге в бригаду пойдешь?
– Да.
Пальцы его неумело сжимали конец топорища. Кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке.
Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт. Я бы скинул двадцать веков цивилизации. Я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче. Я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться…
– Ну, – приказал я, стоя в двух шагах. Ощущая каждую травинку под сапогами. – Ну! – говорю.
Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня. Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука.
– Наконец, – сказал он, истекая кровью, – вот теперь – хорошо…
– Чего стоишь, гандон, – обратился ко мне подбежавший нарядчик, – ты в дамках – зови лепилу!..
4 апреля 1982 года. Миннеаполис
Буду краток, поскольку через три дня вас увижу.
Миннеаполис – огромный тихий город. Людей почти не видно. Автомобилей тоже мало.
Самое интересное здесь – река Миссисипи. Та самая. Ширина ее в этих краях – метров двести. Короче, на виду у толпы американских славистов я эту реку переплыл.
Переплыл Миссисипи. Так и напишу в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать…
Знаете, в марте я давал интервью Рою Стиллману. И он спросил:
– Чем тебя больше всего поразила Америка?
Я ответил:
– Тем, что она существует. Тем, что это – реальность.
Америка для нас была подобна Карфагену или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей – это реальность. Тиффани – реальность. Небоскреб Утюг – реальность. И Миссисипи – реальность…
Как-то иду я по Нижнему Манхэттену. Останавливаюсь возле бара. Называется бар – «У Джонни». Захожу. Беру свой айриш-кофе и располагаюсь у окна.
Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь – пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. (Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко.)
И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре «У Джонни». А под столом валяется чернокожий босяк…
Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный. И так далее.
Конечно, все это мишура, серпантин. И бар, и пьяный негр, и айриш-кофе. Но что-то, значит, есть и в серпантине. Сколько раз за последнее десятилетие менялся фасон женских шляп? А серпантин тысячу лет остается серпантином…
Допустим, счастья нет. Покоя – нет. И воли – тоже нет.
Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я?
Живу в отеле «Куртис» с множеством разнообразных увеселений. Есть бар. Есть бассейн. Есть какая-то подозрительная «Гавана-рум». Есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики для Миссисипи. (На передней части изображена сосиска и два крутых яйца…)
Есть чистые простыни, горячая вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед – Эрнст Неизвестный. (Только что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери: «Вертикаль – это Бог. Горизонталь – это Жизнь. В точке пересечения – я, Микеланджело, Шекспир и Кафка…»)
Есть – вы, которому я шлю это дурацкое письмо.
Живу в отеле. Участвую в каком-то непонятном симпозиуме. Денег – около сотни.
Рано утром выйду из гостиницы. Будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит:
– Нет ли спичек?
Я отвечу:
– Держи.
И протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру. И тогда я добавлю:
– В себя, в себя…
И вряд ли он будет глазеть мне вслед. Потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента.
Он скажет:
– Прохладный день сегодня.
И я отвечу:
– Sure.
И мы пойдем – каждый своей дорогой. Два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко…
Ночью мы играли в бинго. И Неизвестный проиграл четыре раза. Значит, он победит в какой-то другой, неведомой игре…
Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так:
«На Севере вообще темнеет рано. А в зоне – особенно…»
Я эту фразу куда-нибудь вставлю.
Ну, до встречи…
Как только оборвался рев моторов, высоко над головами зашумели сосны. Заключенные бросили работу, вытащили ложки из-за голенищ, пошли к сараю.
Баландер погрузил черпак в густую и темную жижу.
Ели молча, затем достали кисеты и прикурили от головни.
Дым костра уходил, становился бледным октябрьским небом. Было тихо. Сосны шумели в опустевшем без гула моторов пространстве над лесоповалом.
– Поговорим о чудесах? – сказал бугор Агешин, надвинув рваный зековский треух.
– Кончай, – отозвался Белуга, – после твоих разговоров не спится.
– Не спится? А ты возьми ЕГО – да об колено! На воле свежий заведешь, куда богаче…
Зеки нехотя рассмеялись. Осенний воздух был пропитан запахом солярки. Покачивались деревья в бледном небе. Солнце припадало к шершавым желтоватым баланам.
В стороне курили двое. Коротконогий парень в застиранной телогрейке – Ерохин. И бывший прораб, уроженец Черниговской области, тощий мужик – Замараев.
– Пустой ты человек, Ероха, – говорил Замараев, – пустой и несерьезный. Таким в гробу и в зоосаде место…
– Уймись, – сказал Ероха, – попер как на буфет!.. А то ведь у меня не заржавеет. Могу пощекотить…
– Испугал… Все треплешь языком, а жизнь проходит…
Ерохин рассердился:
– Брось мансы раскидывать, чернуха здесь не пролазит… Да и что с тобой говорить? Ты же серый! Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался… Одно слово – мужик…
– У нас в каждой избе – радиоточка, – сказал Замараев.
Он мечтательно возвысил глаза и продолжал:
– У меня пятистенка была… Сарай под шифером… Коровник рубленый… За окнами – жасмин… Я жил по совести. Придет, бывало, кум на разговенье…
– Кум? – забеспокоился Ероха. – Опер, что ли?
– Опер… Сам ты – опер. Кум, говорю… Родня… Придет, бывало. Портвейного вина несет бутылку… Кум у меня серьезный человек был, инвалид…
– Партийный, что ли? – снова вмешался Ероха.
– Беспартийный коммунист, – отчеканил Замараев, – ногу потерял в ежовщину…
– Значит, враг народа?
– Не враг, а лейтенант ОГПУ. Таких, как мы, шакалов охранял. Ноги лишился. На боевом посту отморозил… Из рядов его выгнали, но пенсию дали…
– Зря, – сказал Ероха.
Замараев не расслышал. По лицу его бродила счастливая улыбка. Он продолжал:
– А кум мой пошутить любил. Бывало, говорит с порога: «Иди за маленькой!» Я только галоши надену, а кум смеется: «Отставить, у меня есть». И достает бутылку красного. У нас вино продавалось за рубль четыре. А на вкус как за рубль семьдесят две. Разольем, бывало… Благодать, порядок в доме… Я жил по совести…
– По совести… А сел за что?
Замараев молча стукнул веточкой по голенищу.
– За что, говорю, сел? – не унимался Ероха.
– Да за олифу.
– Крал, что ли?
– Олифу-то?
– Ну.
– Олифу-то да.
– По совести… А потом ее куда? На базар?
– Нет, пил заместо лимонада.
– Так, – усмехнулся Ероха, – сколько ж ты олифы двинул?
– Эх, было время, – сказал Замараев, – было время… Олифы-то? Тонны две.
– Сколько ж это денег? Полкуска?
– По иску – сорок тыщ. На старые, конечно…
– Ого! А если взять на кир перевести?
– Пустой ты человек, – рассердился Замараев, – одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк заместо кенгуру. Слыхал про кенгуру? Такая, с гаманцом на брюхе…
– Да не прихватывай ты, – сказал Ероха, – не прихватывай. А то как дам по чавке!
– Ладно, – остановил его Замараев, – проехали… А сел я-то, что за`видно людя´м с чужих миллионов. С деньгами я кругом начальник. Деньги – сила…
– Вот наступит коммунизм, – злобно произнес Ероха, – и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме деньги-то отменят…
– Навряд ли, – сказал Замараев, – без денег все растащат. Так что не отменят. А будут деньги – мне и коммунизм не страшен.
– На что тебе, серому, деньги? Керогаз разжигать? Ты полботинки хоть когда-либо носил? Импортные полботинки? Хотя бы китайские, – шумел Ероха, изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохаря.
– Сапоги у меня были яловые, – откликнулся Замараев, – деверем пошиты.
– Как это – деревом? – не понял Ероха.
– Дикий ты парень. Русского языка не понимаешь…
Но Ероху уже понесло дальше:
– Вот мне бы эти сорок тыщ! Так я бы раскрутился. По-твоему, жизнь – что? Она – калейдоскоп! Уж я давал гастроль на воле. Придешь, бывало, в коктейль-холл. Швыряешь три червонца. Тебе – коньяк, бефстроганов, филе… Опять же музыка играет, всюду девы. Разрешите, как говорится, на тур вальса? В смысле, танго… Она танцует, разодета, блестит, как щука… После везешь ее на хату… В дороге – чего-нибудь из газет. Сергей Есенин, летающие тарелки… Ну, я давал гастроль!.. А если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить по-хорошему. Метод простой: «Ложись, – говорю, – сука, а то убью!..» Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали!..
– Что без толку кричать? – сказал Замараев.
– Эх ты, деревня! А секс?
– Чего? – не понял Замараев.
– Секс, говорю…
– Ты по-людски скажи.
– Да любовь же, любовь. По-твоему, любовь – это что? Любовь – это… Любовь – это… калейдоскоп. Типа – сегодня одна, завтра другая…
– Любовь, – сказал Замараев, – это чтобы порядок в доме. Чтобы уважение… А с твоими и по деревне не ходи. От людей срамотища.
– Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил. А у меня в каждом СМУ – законная жена… Конечно, я не говорю… Бывает… Поймаешь что-либо на кончик…
– А? – не понял Замараев.
– На кончик, говорю… Ну, это… гонорея…
– Чего?
– Во мужик, гонореи не знает! Да трипак же, трипак!
– А-а, – Замараев чуть отодвинулся, – ты вообще как сюда попал? Не за это ли случайно?
– На танцах взяли. Намекнул одному шабером под ребра.
– С концами, что ли?
– Где с концами?! Выжил, гад. Он, падла, на суде кричит:
«Ерохина прощаю!»
А прокурор – в отказ:
«Вы-то – да, а общество простить не может…»
Сначала я в глухую несознанку шел. Кричу:
«Напился, все забыл!..»
Ну а в конце менты подраскололи. Сознался. Кричу:
«Стреляй! Чего не стреляешь, козел?! Видел бы Ленин твою штрафную чавку!..»
Это я – прокурору. Вот он и дал мне три года ни за что. Про меня в газете статья была. Не веришь? Ей-богу! Называлась – «Плесень».
– Оно и видно, – сказал Замараев.
– А хочешь, я тайну скажу? – неожиданно выговорил Ерохин. – Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь. Только – чтобы никому…
– Знаю я ваши тайны. Кабур роете под хлеборезку.
– Кабур – это что… Ну, хочешь, скажу? Тебе одному, как другу. Вот слушай: я по матери – Эпштейн…
– Эпштейн, – недоверчиво прищурился Замараев, – видали мы таких Эпштейнов… Да ты – фоняк, как и не мы… А если ты Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части шел?
– В отца, – коротко пояснил Ероха.
– Эпштейн, – повторял Замараев.
– Деревня, – слышалось в ответ…
Гул сигнального рельса медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы. За деревьями, громыхая, прошел лесовоз.
– Пойду молотить, – сказал Ероха.
Он поднялся, стряхнул табачные крошки. Затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке.
– Вот так мужик, гонореи не знает, – усмехнулся Ероха.
– Пустой человек, несерьезный, – бормотал ему вслед Замараев.
«Кого только не прихватывают», – думал Ероха.
«Откуда такие берутся?» – вторил ему прораб…
Лес наполнился туманом. Залаяла собака на блокпосту. Появился опер Борташевич в узких хромовых сапогах.
Заключенные нехотя встали, потушили костер и разошлись.
На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил прожектор.
17 апреля 1982 года. Нью-Йорк
Я все думаю о нашем разговоре. Может быть, дело в том, что зло произвольно. Что его определяют – место и время. А если говорить шире – общие тенденции исторического момента.
Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности. Неудачным стечением обстоятельств. И даже – плохим эстетическим вкусом.
Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.) Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские – нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.
Разумеется, существует врожденное предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры. Святые и злодеи. Но это – редкость. Шекспировский Яго, как воплощение зла, и Мышкин, олицетворяющий добро, – уникальны. Иначе Шекспир не создал бы «Отелло».
В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло – произвольны.
Так что, упаси нас бог от пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу…
Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетенных. И наоборот, герои войны с удивительной легкостью растворялись в лагерной массе.
Разумеется, зло не может осуществляться в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной огласке. Тем не менее в обоих случаях действуют произвольные факторы.
Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку – друг, товарищ и брат… Человек человеку – волк… И так далее.
Человек человеку… как бы это получше выразиться – табула раса. Иначе говоря – все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств.
Человек способен на все – дурное и хорошее. Мне грустно, что это так.
Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А еще лучше – обстоятельств времени и места, располагающих к добру…
За двенадцать лет службы у Егорова накопилось шесть пар именных часов «Ракета». Они лежали в банке из-под чая. А в ящике стола у него хранилась кипа похвальных грамот.
Незаметно прошел еще один год.
Этот год был темным от растаявшего снега. Шумным от лая караульных псов. Горьким от кофе и старых пластинок.
Егоров собирался в отпуск. Укладывая вещи, капитан говорил своему другу оперу Борташевичу:
– Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями. Найду курортницу без предрассудков…
– Презервативы купи, – деловито советовал опер.
– Ты не романтик, Женя, – отвечал Егоров, доставая из ящика несколько маленьких пакетов, – с шестидесятого года валяются…
– И что – ни разу?! – выкрикивал Борташевич.
– По-человечески – ни разу. А то, что было, можно не считать…
– Понадобятся деньги – телеграфируй.
– Деньги – не проблема, – отвечал капитан…
Он прилетел в Адлер. Купил в аэропорту малиновые шорты. И поехал автобусом в Сочи.
Там он познакомился с аспиранткой Катюшей Лугиной. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин.
Вечером капитан и девушка сидели на остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с танцплощадки доносились прерывистые вопли репродуктора.
