Проявитель. Наследие
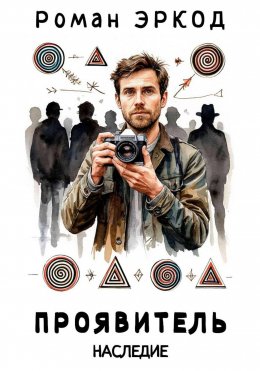
ЧАСТЬ 1
ГЛАВА 1. Шрамы и вспышки
Новый день. Запах. Всегда он начинался с запаха. Едкая, пронзительная смесь уксусной кислоты, тиосульфата натрия и чего-то еще, неуловимого, что пахло пылью и временем. Для Максима этот химический коктейль был надежнее любого транквилизатора, дорогого виски или сеансов у платного психотерапевта. Он был его якорем, ритуалом отключения от внешнего мира. В этом красноватом сумраке домашней лаборатории, под аккомпанемент равномерного бульканья воды в кювете, мир за стеклянной дверью переставал существовать. Здесь не было ни вчера, ни завтра. Был только процесс.
Он снова погрузил в раствор лист фотобумаги и ждал, опершись ладонями о край стола, вглядываясь в багровую мглу, словно пытаясь разглядеть в ней ответы на вопросы, которые не давали ему покоя. Он ждал, пока собственные руки перестанут дрожать. Это была мелкая, предательская дрожь, начинавшаяся где-то глубоко в солнечном сплетении и разбегавшаяся по жилам тонкими, невидимыми струйками адреналина. Следствие «того» дела. «Дело «Садовода»», ‒ мысленно произнес он, и этого было достаточно. В висках застучало, а в горле встал комом тот самый, знакомый до тошноты страх. Не страх смерти, нет. Хуже ‒ страх бессилия. Страх, что ты видишь ужас, фиксируешь его на пленку, а остановить не в силах. Что ты ‒ всего лишь беспристрастный регистратор чужого конца.
Он сжал кулаки, вдавив костяшки в старую, потертую столешницу, и задержал дыхание. Счет до десяти. Выдох. Еще один вдох, глубокий и шумный. Дрожь слегка утихла, отступила, но не исчезла. Она никогда не исчезала до конца. Она стала его сожителем, этой тряской в руках и нервным тиком в углу левого глаза, вечным напоминанием о том, что его нервная система ‒ это порванные провода под напряжением.
На белом листе, как призрак из небытия, начал медленно проступать силуэт, рождаясь из пикселей химической реакции. Еще один его спасительный, нарочито безлюдный пейзаж. Старый, полуразрушенный причал на каком-то заброшенном озере, который он отыскал во время одной из своих бесцельных поездок за город. Кривые, сгнившие сваи, уходящие в черную воду. Серое, низкое небо, намертво сливающееся с серой, свинцовой водой. Ничего живого. Ни одной души, ни птицы в небе, ни рыбы в воде. Ничего, что могло бы напомнить. Только холодные камни, мертвое дерево и вечное, тоскливое, всепоглощающее безмолвие. Максим ловил это безмолвие, пытаясь вдохнуть его в себя, заполнить им каждую клетку, вытесняя память о криках, которые до сих пор звучали в его кошмарах. Почти получалось. Но лишь почти.
Его взгляд, скользнув по кювете, упал на полку над столом. На своеобразный «алтарь», где в идеальной, почти стерильной чистоте, стояли две камеры, разделенные не только временем, но и самой своей сутью. Слева ‒ современная, дорогая, цифровая зеркалка, точный, быстрый и бездушный инструмент, выдающий мгновенный, плоский результат. Справа ‒ «Зенит-Е». Тяжеленный, увесистый слиток металла, кожи и стекла, пахнущий машинным маслом, историей и чем-то еще, что Максим никогда не мог определить ‒ может, порохом с войны, а может, потом долгих раздумий. Подарок деда. Вернее, не подарок в праздничном, теплом смысле слова. Наследие. Обязанность. Последняя, туго натянутая нить, связывающая его с человеком, которого он одновременно боготворил и боялся всей душой.
Он вытер руки о застиранную тряпку, на которой остались вечные пятна проявителя, и взял «Зенит». Знакомая, увесистая, почти одушевленная тяжесть на ладони на секунду успокоила дрожь. Дед, Аркадий Петрович, был таким же ‒ плотным, тяжелым, неоспоримым, как приговор. Фронтовик-артиллерист, прошедший ад от Сталинграда до Берлина, а потом ‒ следователь по особо важным делам, гроза городской преступности 60-х и 70-х. Он не воспитывал внука после скоропостижной смерти его родителей, он его «строил», как строят солдата на плацу. Каждый вечер ‒ обязательный разбор полетов за ужином. Любая детская провинность ‒ двойка, разбитое окно, пятнадцатиминутное опоздание ‒ препарировалась, как уголовное дело, с выявлением мотивов, улик и вынесением строгого, но «справедливого» приговора. «Слабые аргументы, Максим! ‒ гремел его голос, раскатистый, как залп орудий. ‒ На чем основаны твои показания? На чувствах? Чувства ‒ это не доказательство! Это слабость, дым, мираж! Факты! Давай мне голые, неопровержимые факты!».
Максим провел пальцем по холодному, покрытому мелкой патиной металлу корпуса, по потертой, потрескавшейся от времени кожаной накладке. Именно этим «Зенитом» дед снимал свою личную, официальную летопись ‒ парады Победы, на которых стоял, вытянувшись в струнку, стройки коммунизма, которые он курировал с партбилетом в кармане, суровые, не знающие сомнений лица товарищей по работе. А потом, после резкого, ничем не объяснимого выхода на пенсию, случился странный, пугающий поворот. Старик, всегда такой рациональный, забросил документалистику и с тем же фанатичным упорством увлекся чем-то потусторонним, почти мистическим. Говорил о «ловле астральных сущностей», «фотографировании ауры» и «невидимых мирах, отпечатанных на фотоэмульсии». Максим-подросток, воспитанный на сухом, железобетонном картезианстве деда-следователя, считал это старческим маразмом, позерством, попыткой убежать от скучной реальности. Сейчас же, глядя на камеру, он видел в ней не просто аппарат, а сложный, многогранный шифр. Свидетельство какой-то двойной, скрытой от всех жизни, в которой не было места простым человеческим слабостям и утехам. Никаких объятий, никаких сказок на ночь, никакого прощения. Только сухие, безжалостные «факты» о вещах, в которые сам дед, казалось, начал фанатично верить под конец своих дней.
Он с почтительным усилием поставил «Зенит» на место, рядом с его цифровым антиподом. Два мира. Две правды. Два диаметрально противоположных способа видеть и фиксировать реальность.
Максим подошел к окну и резким движением раздвинул жалюзи. Его квартира на отшибе, в самом глухом спальном районе, тонула в предвечерних, густых сумерках. Окна соседних безликих домов зажигались желтыми, уютными точками, и в каждой из них, он знал, кипела своя, чужая жизнь: готовили ужин, ссорились из-за пустяков, смеялись над глупым сериалом, укладывали спать детей. А здесь, в его тщательно выстроенном убежище, царила тишина. Не мирная, а гнетущая, густая, как кисель, давящая на барабанные перепонки. В ушах от этой тишины стоял высокий, назойливый, неумолимый звон. Одиночество стало для Максима не просто состоянием, а профессией, осознанным образом жизни, защитным панцирем. Он сменил квартиру, уволился из органов по настоянию ‒ нет, по приказу! ‒ врачей, оборвал почти все связи, кроме самых необходимых, формальных. Он был как тот причал на его снимке ‒ полуразрушенный, никому не нужный, забытый и никуда не ведущий. И вроде бы так было безопаснее. Вроде бы.
Резкий, вибрирующий, режущий тишину звук мобильного телефона заставил его вздрогнуть всем телом, как от удара током. Сердце на мгновение провалилось в ледяную пустоту, а потом забилось с такой бешеной силой, что стало трудно дышать, ловить ртом воздух. Неизвестный номер. Паническая атака, знакомая и ненавистная, подкралась мгновенно, без предупреждения: волна жара, сменяющаяся леденящим холодом, сжатые, не слушающиеся легкие, ватные, подкашивающиеся ноги. Он схватился за холодный подоконник, пытаясь удержать равновесие в внезапно поплывшем мире. Глубокий, шумный, с присвистом вдох. Выдох, больше похожий на стон. Еще один. «Ты дома. Ты в безопасности. Это просто звонок. Это просто звонок».
Он все-таки поднял трубку, чувствуя, как влажные, скользкие пальцы едва удерживают гладкий пластик.
‒ Алло? ‒ его голос прозвучал хрипло, сипло и неестественно тихо, голосом незнакомца.
‒ Максим, это Семёнов.
Голос бывшего начальника был грубым, прокуренным, с привычными, вросшими в него нотками вечной усталости и хронического раздражения. Капитан Иван Петрович Семёнов. Человек, который когда-то был ему и строгим наставником, и чуть ли не единственным другом, а потом ‒ тем, кто без лишних эмоций, с каменным лицом подписал приказ о его отставке. «Выгорание. Посттравматическое стрессовое расстройство. Рекомендован длительный отдых и смена деятельности». Красивые, стерильные слова в официальном протоколе, за которыми стоял один лишь горький привкус поражения.
‒ Иван Петрович, ‒ ровнее, чем он ожидал, ответил Максим, чувствуя, как по спине расползается ледяная, липкая влажность. ‒ Неожиданно.
‒ Извини, что поздно. Мешаю? ‒ в голосе Семёнова не было ни капли искреннего сожаления, только деловая, привычная хрипота. Максим тут же представил его за своим вечно заваленным папками и отчетами столом, в плотных, едких клубах сигаретного дыма, под тусклым, одиноким светом настольной лампы, выхватывающей из мрака усталые морщины.
‒ Нет. В мастерской. Работаю.
‒ Все с теми же пейзажиками? ‒ в его тоне прозвучала знакомая, слегка снисходительная, почти отеческая насмешка. Семёнов, человек действия до кончиков пальцев, всегда считал искусство надуманной блажью, бегством от реальности.
‒ Со спокойными сюжетами, ‒ парировал Максим, глядя на медленно проявившийся снимок пустынного причала. ‒ Без крови. Без драм. Без… людей.
‒ Вот и правильно. Спокойствие ‒ оно тебе сейчас нужнее, чем кому бы то ни было. ‒ Последовала пауза, и Максим ясно, почти физически ощутимо услышал, как на том конце провода Семёнов с глухим вздохом с наслаждением затягивается. ‒ Слушай, Макс, дело к тебе. Мне нужна твоя помощь.
Максим сжал телефон так, что хрустнул и треснул пластиковый защитный чехол. Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от надвигающейся беды.
‒ Иван Петрович, мы же договорились. Я не консультирую. Я даже думать об этом… о том, что было… стараюсь не думать. У меня своя жизнь. Тихая.
‒ Я знаю. Знаю, черт возьми! ‒ Семёнов внезапно сорвался, и в его голосе впервые за этот разговор прозвучало неподдельное, живое напряжение, прорвавшееся сквозь привычную маску усталости. ‒ Но тут… это не вписывается ни в какие рамки. Мне нужны твои глаза. Твои руки. Твое чутье. И твой чертов «Зенит», в конце концов!
‒ Почему? ‒ голос Макса снова сорвался в шепот, полный неподдельного страха. Он почувствовал легкое, муторное головокружение, будто стоял на краю пропасти. ‒ У вас же целый отдел. Новейшая техника, все эти спектральные анализы, увеличение в миллион пикселей, тепловизоры…
‒ Потому что это не просто труп! ‒ Семёнов резко, почти яростно оборвал его. Громкость его голоса, его жесткость заставили Максима инстинктивно отодвинуть трубку от уха. ‒ Потому что тут… ритуал. Какая-то древняя, бесовская, первобытная символика, которую никто из наших умников-экспертов прочитать не может, как ни бьются! Расположение тела… Будто его не убили, а использовали. Как деталь в каком-то жутком, безумном пазле. Мне нужен не технарь, который видит только отпечатки и волокна. Мне нужен художник, который видит… картину. А ты всегда видел картину, Макс. Даже там, где ее не было. Видел суть.
Максим прислонился горящим лбом к холодному, почти ледяному стеклу окна. «Картина». Последняя «картина», которую он видел год назад, до сих пор всплывала перед ним в ночных кошмарах и в моменты невольного, секундного забытья. Яркая, как ослепительная вспышка магния, выжигающая сетчатку. Слишком яркая.
‒ Я не могу, ‒ выдавил он, чувствуя, как по лицу струится холодный пот. ‒ Прости. Я не могу снова это видеть. Я сломаюсь окончательно.
‒ Максим, я тебя прошу. ‒ Голос Семёнова внезапно смягчился, стал почти отеческим, каким он бывал в редкие, задушевные минуты их былого сотрудничества. ‒ Как друг. Как… старый грешник, который в тебя всегда верил. Приезжай. Один раз. Только один. Посмотришь на место. Сделаешь несколько кадров своей старой камерой, для себя. Как в старые, добрые, черт побери, времена. И все. Я слово даю. Честное пионерское. После этого я сдохну, но не позвоню тебе больше никогда.
Максим стоял у окна, глядя на свое бледное, испуганное, чужое отражение в темном, как зеркало, стекле. Он видел за спиной красноватый, инфернальный свет лаборатории, зловещий силуэт «Зенита» на полке. Он чувствовал противную, предательскую дрожь в коленях и сжимающийся от страха, в комок, живот. Он слышал мерное, неумолимое тиканье настенных часов, отмеряющих его тихое, размеренное, безопасное, но такое пустое небытие.
И сквозь весь этот плотный, удушливый ком страха, отвращения и душевной боли, в нем, как червяк, шевельнулось что-то старое, знакомое и проклятое. Любопытство. Азарт охотника, учуявшего дичь. Профессиональный, неистребимый голод следователя, которого когда-то, не кривя душой, называли лучшим оперативным фотографом в городе, виртуозом, видящим невидимое.
‒ Где? ‒ тихо, почти беззвучно, на грани шепота, спросил он, уже ненавидя себя за эту слабость.
Семёнов выдохнул так, что в трубке зашипело, словно выпустил пар. В его голосе послышалось огромное, почти детское облегчение.
‒ Я сейчас сообщение с адресом вышлю. Заеду за тобой через сорок минут. И, Макс…
‒ Что? ‒ спросил он, уже чувствуя вкус горечи и страха на языке.
‒ Бери свою старую камеру. Дай ей последний бой. Похоже, без нее тут не обойтись. Чует мое сердце.
Связь прервалась. Максим медленно, будто в замедленной съемке, опустил телефон. Он повернулся и уставился на «Зенит». В багровом, адском свете лаборатории его матовый черный корпус и блестящий стеклянный глаз-объектив казались чем-то инопланетным, зловещим, живым, дремлющим хищником. Дрожь в руках не прошла. Она стала только сильнее, превратившись в мелкую, неконтролируемую, позорную тряску.
Он подошел к полке и снова, с усилием, взял камеру. Знакомая, успокаивающая тяжесть на ладони теперь казалась весом гири, привязанной к ноге утопающего. Она была весом прошлого. Весом той жизни, от которой он так отчаянно, так трусливо бежал целый год.
«Факты, Максим, только факты. Все остальное ‒ слабость», ‒ прозвучал в голове неумолимый, металлический, как скрежет затвора, голос деда.
И впервые за долгие месяцы своего добровольного, спасительного заточения Максим с ужасной, леденящей душу ясностью понял, что его безопасность ‒ иллюзия. Хлипкий, карточный домик, построенный на песке. А настоящая, жестокая, не укладывающаяся в рамки здравого смысла реальность ждала его за порогом этой квартиры. Всего в сорока минутах езды.
ГЛАВА 2. Жертвоприношение
Сорок минут в машине Семёнова пролетели в гнетущем, неловком молчании, нарушаемом лишь шуршанием шин по мокрому асфальту и скрипом тормозов на светофорах. Максим сидел, прижавшись лбом к холодному, почти ледяному стеклу, и наблюдал, как знакомые, оживленные центральные улицы города сменяются все более мрачными и безликими, серыми пейзажами спальных районов, уходящих в предгрозовую тьму. Он не спрашивал ни о чем, а Семёнов, сосредоточенно, с каменным лицом жуя мятную жвачку, не пытался завести светскую беседу или подбодрить его. Только один раз, не отрывая усталых глаз от дороги, он бросил короткую, обрывистую реплику:
‒ Держись, дружище. Видок там тот еще. Не для слабонервных.
Максим лишь молча, едва заметно кивнул, сжимая в похолодевших пальцах старый, потертый кейс с «Зенитом». Камера внутри казалась раскаленным добела углем, обжигающим ему ладонь через кожу, через пластик, через время.
Машина резко с визгом покрышек свернула во двор, представлявший собой классическую, унылую картину постсоветского запустения: разбитый, в колдобинах асфальт, ржавые, покосившиеся качели, почерневшие от времени гаражи-ракушки и стайка вечно чем-то недовольных, взволнованных бабулек у подъезда, с азартом обсуждавших происшествие с драматическими жестами и причитаниями. У пятого подъезда одной из хрущёвок, неотличимой от сотен своих сестер-близнецов, стояли наспех брошенные две патрульные машины, а вход в подъезд был перекрыт яркой желтой лентой со зловещей, не терпящей возражений надписью «Проход запрещен».
Запах ударил в нос еще на улице, едва он вышел из машины ‒ едкая, удушающая смесь хлорки, старого залежалого мусора из баков и чего-то тяжелого, сладковатого, приторного, что Максим знал слишком хорошо, до тошноты. Запах смерти. Запах небытия. Его горло сжалось спазмом. Ноги стали ватными, непослушными. Он замер на месте, чувствуя, как знакомый, до боли знакомый ужас медленно, неотвратимо поднимается по спине ледяной, мурашковой волной.
Семёнов, тяжело выбравшись из машины, бросил на него быстрый, оценивающий, испытующий взгляд.
‒ Похоже на себя? ‒ коротко, без эмоций, спросил он, закуривая новую сигарету.
Максим молча кивнул, с трудом сглотнув подступивший к горлу ком. Профессионал внутри него, дремавший весь этот год, уже просыпался, с силой оттесняя трясущегося, перепуганного невротика. Он сделал глубокий, очищающий вдох, задержал его, чувствуя, как кислород обжигает легкие, и медленно, с усилием выдохнул. Дрожь в руках чуть утихла, отступила на второй план.
‒ Пошли, ‒ бросил Семёнов и, приподняв ленту, пропустил его вперед, в пасть подъезда.
Лестничная клетка была темной, грязной, замызганной, пропитанной запахом нищеты и старости. Лампочки либо перегорели, либо были кем-то вывернуты. Оперативники двигались в нервных, скачущих лучах фонариков, отбрасывая на облупленные стены гигантские, искаженные, пляшущие тени. Воздух был густым, спертым, тяжелым. С каждым шагом наверх, с каждой новой ступенькой, сладковато-трупный, тошнотворный запах усиливался, становился почти осязаемым, плотным, вязким.
Дверь в квартиру на четвертом этаже была распахнута настежь, словно приглашая в ад. Внутри царил привычный, отработанный хаос следственного мероприятия: люди в белых бахилах и синих перчатках, тихий, деловой гул голосов, щелчки цифровых фотоаппаратов. Но была и непривычная, давящая, гнетущая тишина под всем этим. Никто не суетился, не кричал, не отдавал резких команд. Все двигались замедленно, почти ритуально, осторожно, и на их обычно невозмутимых лицах читалась не столько профессиональная собранность, сколько глубочайшее недоумение, смешанное с брезгливым отвращением.
И тогда Максим увидел.
Молодой мужчина, лет двадцати пяти, не больше. Он лежал на спине в центре пустой, выпотрошенной гостиной, на голом, линолеумном полу, с которого содрали весь ковер и оттащили в сторону жалкие остатки мебели. Но не это было самым шокирующим, самым бьющим по нервам.
Тело было расположено в вычурной, неестественной, мучительной позе. Руки и ноги были вывернуты под невозможными, ломающими анатомию углами, словно изображая какую-то древнюю, утраченную, сакральную букву или мистический знак. Голова была запрокинута так далеко назад, что взгляд пустых, остекленевших, широко раскрытых глаз был направлен в потолок, в серую штукатурку. Рот был открыт в беззвучном, застывшем навеки крике, в немом вопле ужаса. Но даже не эта поза, не этот крик заставили кровь стынуть в жилах и медленным ледяным потоком растекаться по телу.
Вокруг тела, на сером, грязном линолеуме, кто-то с нечеловеческой тщательностью вырезал острым предметом ‒ возможно, тем же ножом, что и был использован для убийства ‒ сложные, переплетающиеся, гипнотизирующие символы. Они образовывали почти идеальный, безупречный с точки зрения геометрии круг, в самом центре которого, как жертвенное подношение, лежала жертва. Одни знаки смутно, отдаленно напоминали видоизмененные, искаженные скандинавские руны, другие ‒ астрологические или алхимические символы, третьи были совершенно абстрактными, инопланетными, словно вышедшими из-под пера сумасшедшего гения или самого Дьявола. Они не просто были нарисованы ‒ они были глубоко, с силой прорезаны в материале пола, и в этих темных, зияющих бороздах, как в каналах, застыла и свернулась липкая, почти черная, густая кровь.
Максим замер на пороге, чувствуя, как его профессиональное «я» окончательно с щелчком берет верх над личностью. Весь его страх, вся паника, все личные демоны ушли на второй план, уступив место холодной, почти машинальной, хирургической концентрации. Его мозг, как мощный компьютер, начал работать с привычной, давно забытой скоростью, сканируя детали, анализируя, строя и тут же отбрасывая гипотезы.
‒ Ну что, фотограф, как тебе картинка? ‒ мрачно, с усмешкой поинтересовался Семёнов, стоя рядом и затягиваясь сигаретой прямо в бахилах.
Максим не ответил. Он уже не слышал его. Он был в другом измерении. Он открыл кейс, и его пальцы, еще минуту назад дрожащие и влажные, теперь сами, уверенно и быстро, зарядили новую пленку в «Зенит». Звук отщелкнувшего, знакомого до боли затвора прозвучал для него как выстрел, возвещающий начало битвы, его возвращение на войну.
Он начал снимать. Не глядя, почти на автомате, повинуясь древним инстинктам. Его тело, его мышцы помнили все движения, все ракурсы. Он двигался по периметру комнаты, как тень, меняя позиции, приближаясь и отдаляясь, приседая и поднимаясь. Щелчок ‒ общий план комнаты с телом в центре композиции, как в фокусе мишени. Щелчок ‒ крупный план лица жертвы, застывшая, восковая маска немого ужаса. Щелчок ‒ макро символов на полу, в которые он вглядывался с особым, пронзительным вниманием, пытаясь прочитать их, понять. Он снимал молча, сосредоточенно, его собственное лицо было каменной, бесстрастной маской. Внутренний диалог, весь этот шум в голове, стих. Остался только звенящий, чистый вакуум концентрации.
Он не видел удивленных, недоуменных взглядов оперативников, которые искоса, с любопытством косились на этого странного, бледного парня со старомодной, допотопной камерой. Он не слышал их сдержанного шепота. Он был здесь для одного ‒ чтобы запечатлеть. Поймать в объектив не просто труп, не просто место преступления. А послание. И это послание, он чувствовал кожей, было написано на языке чистого, немотивированного, почти абстрактного зла.
‒ Капитан, ‒ раздался молодой, звонкий, уверенный женский голос позади него. ‒ Криминалисты закончили с предварительным осмотром, можно…
Максим обернулся, словно вынырнув из глубокой воды. В дверном проеме, залитая светом фонариков, стояла она. Высокая, стройная, с прямой спиной девушка в темном, безупречно сидящем деловом костюме, с гладкой, блестящей каштановой косой, уложенной в строгую, тугую корону вокруг изящной головы. Ее лицо было молодым, умным, с правильными, тонкими чертами и острым, цепким, всевидящим взглядом серых, как сталь, глаз, в котором читался незаурядный, быстрый интеллект и несгибаемая воля. В ее ухоженных, но сильных руках был современный планшет и диктофон.
‒ А, Короткова, ‒ кивнул Семёнов, делая очередную затяжку. ‒ Знакомься. Это Максим Орлов, наш лучший… бывший лучший оперативный фотограф. В свое время ‒ глаза и уши отдела. Макс, это Анна Короткова, следователь. Недавно перевелась, но уже показала себя. Назначена на это дело.
Анна оценивающе, без тени смущения посмотрела на Максима, потом на его камеру, задержав на ней взгляд подольше. В ее взгляде не было ни насмешки, ни снисхождения, только чисто профессиональное, живое любопытство.
‒ Зенит? ‒ уточнила она, и в ее ровном, спокойном голосе прозвучало легкое, неподдельное удивление. ‒ Нестандартный выбор для такого дела. Я бы сказала ‒ архаичный.
‒ У него свои причуды, ‒ буркнул Семёнов, прежде чем Максим успел что-то сказать, отмахиваясь сигаретой. ‒ Но глаз ‒ алмаз. Руки ‒ золотые. Уже что-то видишь, фотограф? Или только щелкаешь, как сумасшедший?
Максим медленно, словно просыпаясь, опустил камеру. Он снова посмотрел на тело, на зловещие, манящие символы, и его взгляд стал отстраненным, остекленевшим, будто он смотрел не на реальный объект, а на его проекцию в своем сознании, на голограмму.
‒ Это не убийство, ‒ тихо, но очень четко, отчеканивая каждое слово, произнес он.
Короткова нахмурила аккуратные брови.
‒ А что же? ‒ спросила она, скрестив руки на груди.
‒ Это сообщение, ‒ Максим провел рукой по воздуху, очерчивая невидимый круг. ‒ Послание. Закодированное. Убийство ‒ это просто… чернила. Средство. А это… ‒ он уверенно указал на тело, ‒ …пергамент. Носитель.
‒ И что же тут написано, о великий графолог и криптограф? ‒ в голосе Семёнова послышалась привычная, усталая, защитная ирония.
‒ Пока не знаю, ‒ честно, без утайки признался Максим. ‒ Но симметрия… Она почти идеальна, математична. Смотрите. ‒ Он сделал осторожный шаг вперед, стараясь не наступать на прорезанные линии. ‒ Тело ‒ не просто брошено, как получилось. Оно уложено. Со знанием дела. Взгляд направлен точно в центр люстры на потолке. Руки и ноги образуют углы в… примерно сорок пять градусов. Это не спонтанная ярость, не бытовая ссора. Это ритуал. Тщательно спланированный, выверенный и… осмысленный.
Анна внимательно, не перебивая, слушала, ее цепкий взгляд скользил по комнате, сверяясь с его словами, как с картой.
‒ Вы думаете, это серийный преступник? Сатанист? Ритуальный маньяк?
‒ Слишком стерильно для сатанистов, ‒ покачал головой Максим. ‒ У них обычно больше… бардака. Театральности, бутафории, дешевых спецэффектов. А здесь… ‒ он обвел рукой комнату, ‒ …все подчинено какой-то своей, строгой, железной логике. Математике. Геометрии. Это что-то другое. Более старое. Или более новое.
Он снова поднял «Зенит», уже почти не замечая его веса, и сделал еще один кадр ‒ на этот раз не тела, а портрет Коротковой на фоне этой жуткой, сюрреалистической картины. Ее сосредоточенное, бледное, но твердое лицо, ее умные, внимательные глаза, в которых, как ему показалось, отражалась та же неразрешимая загадка, что не давала покоя и ему самому.
‒ Мне нужны будут все эти символы, ‒ сказал он, обращаясь уже непосредственно к ней, чувствуя необъяснимое доверие. ‒ Копии, зарисовки, максимально детальные. И полная, развернутая информация о жертве. Кто он был. Чем занимался. С кем общался. Что любил. Что ненавидел. Все.
‒ Досье уже собирают, ‒ кивнула Анна, делая быструю пометку в планшете. ‒ Алексей Сорокин. Студент консерватории. Скрипач. Подающий надежды, по словам педагогов. Ни судимостей, ни видимых связей с криминалом. Вроде как, идеальный, чистый ребенок из хорошей семьи.
‒ Идеальных не бывает, ‒ мрачно, как приговор, констатировал Семёнов, бросая окурок в пустую банку из-под кофе, которую кто-то подал ему. ‒ Особенно мертвых. Копайте глубже.
Максим отвернулся и снова посмотрел в черный, магический окуляр «Зенита», наводя резкость на один из самых сложных и загадочных символов у изголовья тела. Это была спираль, плавно, без излома переходящая в равносторонний треугольник, внутри которого была вырезана короткая, стилизованная, устремленная вверх стрела. Через окуляр камеры весь мир сузился до этого одного, странного изображения. И в этой суженной, сконцентрированной реальности его на секунду, как удар током, пронзило странное, иррациональное, почти мистическое ощущение. Не страх. Не отвращение. А нечто иное, более глубокое. Почти… смутное, тревожное узнавание. Дежавю. Словно где-то в самых потаенных, пыльных уголках его памяти, в наследственной памяти, этот символ уже жил, дремал и ждал своего часа, своего проявления.
Он спустил затвор. Щелчок прозвучал особенно громко, оглушительно в давящей тишине комнаты.
‒ Я закончил здесь, ‒ тихо, но твердо сказал он, опуская камеру и чувствуя внезапную, смертельную усталость. ‒ Мне нужно в лабораторию. Срочно. Проявить пленку.
Его голос был ровным, профессиональным, но внутри, в глубине души, все кричало от ужаса и предчувствия. Профессионал победил, но цена этой победы, он чувствовал, будет ужасна и известна ему одному. Дверь в его персональный ад, в его кошмар, была снова распахнута настежь. И на этот раз, глядя на эти таинственные, зовущие символы, он с ледяным ужасом в сердце понимал, что этот ад был куда больше, сложнее и страшнее, чем он мог когда-либо предположить.
ГЛАВА 3. Лишний кадр
Возвращение в лабораторию было похоже на бегство раненого, затравленного зверя в свою последнюю, единственную берлогу. Максим ввалился в прихожую, с силой захлопнул дверь и повернул ключ дважды, до характерного щелчка, наглухо отсекая себя от враждебного, давящего внешнего мира. Он прислонился спиной к прохладной, твердой деревянной поверхности, стараясь унять предательскую дрожь в ногах и выровнять сбившееся, прерывистое, хриплое дыхание. В ушах стоял навязчивый, высокочастотный гул, а перед глазами, как на кинопленке, до сих пор стояли, сменяя друг друга, те самые жуткие кадры: неестественно вывернутые, скрюченные конечности, застывшая, восковая маска первобытного ужаса на лице молодого человека, сложные, будто бы живые, пульсирующие символы, вырезанные в грязном линолеуме…
Он зажмурился, из последних сил пытаясь стереть, выжечь эти образы из памяти, но они въелись в сетчатку, в подкорку, стали частью его самого, его личной мифологии. Запах смерти ‒ сладковатый, тяжелый, приторный ‒ казалось, пропитал его одежду, его волосы, его кожу, преследуя даже здесь, в его святая святых, в его последнем убежище.
С трудом оттолкнувшись от двери, он, почти не видя дороги, прошел вглубь квартиры, в свою лабораторию. Здесь пахло по-другому ‒ едкой, знакомой химией, кислотой, металлом и временем. Обычно этот запах успокаивал его, настраивал на рабочий, творческий лад, был его личным наркотиком. Сегодня он казался зловещим, предгрозовым, пахнущим серой и порчей. Воздух в комнате был напряженным, густым, будто сама комната, все эти склянки и приборы, затаившись, ждали, что же проявится на пленке на этот раз.
Он поставил кейс с «Зенитом» на большой, массивный стол, заставленный кюветами, мензурками, склянками и другими фотографическими принадлежностями. Руки все еще дрожали, но теперь это была не тревожная дрожь невротика, а лихорадочное, нетерпеливое биение сердца охотника, стоящего на пороге логова неведомого, страшного зверя. Он дрожащей рукой зажег красную лампу ‒ единственный источник света в комнате, ‒ и багровый, инфернальный, кровавый свет поглотил его, окрасив все вокруг, все предметы, в цвета постапокалиптического, сюрреалистического пейзажа.
«Факты, Максим, только факты», ‒ прошипел он сам себе, горько пародируя низкий, металлический голос деда. Но на этот раз голос в голове звучал не насмешливо, не укоризненно, а с леденящей душу, пророческой серьезностью.
Сначала ‒ ритуал очищения. Он тщательно, до скрипа, вымыл руки с мылом, вытер их насухо стерильной тряпкой, протер стол специальным спиртовым раствором, разложил инструменты с ювелирной точностью: щипцы, термометр, три идеально чистые кюветы для проявителя, стоп-ванны и фиксажа. Все эти действия были выверенными, отточенными до автоматизма, до мышечной памяти. Это был его танец, его медитация, его литургия. Механика процесса, его неумолимая логика, должна была успокоить бушующую внутри, сметающую все на своем пути бурю эмоций, вернуть ему утраченный контроль над реальностью.
Он открыл кейс. «Зенит» лежал внутри, черный, безмолвный и тяжелый. На мгновение ему показалось, что широкий стеклянный объектив смотрит на него, как живой, всевидящий, не моргающий глаз, хранящий в своей глубинной памяти нечто ужасное, не подлежащее огласке. Он взял камеру, ощутив ее знакомую, утяжеляющую руку, почти одушевленную тяжесть. Пальцы сами, помимо его воли, нашли привычные, родные рычажки и кнопки. Он потянул за головку обратной перемотки, услышал легкий, щелкающий звук, и задняя крышка отскочила, открывая темное нутро.
Внутри, как в гробнице, лежала кассета с пленкой. Та самая пленка, которая видела то, что видел он. Но видела ли она только это? Нет, он чувствовал ‒ она видела больше. Глубже. Она видела то, чего он видеть не мог, не смел, боялся.
Он потянул за кончик пленки, извлек ее из кассеты и, потушив красную лампу, погрузившись в полную, давящую, абсолютную темноту, на ощупь, дрожащими, но точными пальцами аккуратно, виток к витку, намотал на спираль светонепроницаемого бачка. Его пальцы, эти предатели, сейчас работали уверенно и нежно, как руки опытного хирурга, проводящего сложнейшую, рискованную операцию. Закрыв бачок, он снова, с облегчением, включил свет. Первый, самый важный и трепетный этап был пройден. Пленка была в безопасности, надежно защищена от губительного света, ее тайна была сохранена.
Он приготовил растворы, тщательно, до долей градуса замерил температуру ‒ все должно было быть идеально, стерильно. Любая ошибка, малейшее отклонение могли исказить, испортить послание, сделать его нечитаемым. А он не мог допустить искажений. Он должен был увидеть голую, неприкрытую правду. Ту, что была на полу в той проклятой хрущевке. Ту, что он снимал. И, возможно, ту, что была намеренно скрыта от его глаз, от его сознания.
Залив раствор в бачок, он начал медленно, равномерно, почти ритмично вращать его, отсчитывая секунды в уме, как отбивает такт метроном. Вращение было монотонным, гипнотизирующим, уводящим в транс. В багровом, адском свете он видел лишь свое бледное, изможденное, искаженное гримасой напряжения отражение в темном, как бездна, стекле окна ‒ лицо незнакомца с огромными, полными немого, животного ужаса глазами.
Пока пленка проявлялась, его мозг, вопреки воле, начал проигрывать кадры, как заевшую, проклятую старую киноленту. Крупный план пустых, остекленевших, невидящих глаз Алексея Сорокина. Причудливые, невозможные, ломающие разум изгибы его конечностей, складывающиеся в тот нечитаемый, сакральный знак. Глубокие, почти каллиграфические, витиеватые борозды символов, заполненные запекшейся, почти черной, как смола, кровью. И лицо Анны Коротковой ‒ умное, собранное, красивое, но в самой глубине этих ясных серых глаз таилась та же чуждая, незнакомая ему, первобытная тревога, что грызла и его самого, точила изнутри.
Щелчок. Щелчок. Щелчок.
Звук затвора отдавался в его памяти, как навязчивое эхо в пустой, заброшенной, холодной пещере.
Время истекло. Он слил раствор, залил стоп-ванну, потом фиксаж. Каждое действие было выверено, лишено каких-либо посторонних эмоций, сведено к физике процесса. Он был теперь не человеком, не Максимом, а инструментом, бездушным продолжением самого процесса, машиной по проявке скрытых, потаенных образов. Наконец, настал момент истины, момент откровения. Он промыл пленку под струей прохладной, почти ледяной воды, смывая с нее остатки химикатов, и, с замиранием сердца, с комом в горле, извлек ее из бачка.
Он повесил ее сушиться над столом, закрепив специальными зажимами. Мокрая, блестящая, переливающаяся лента болталась, словно только что выловленная из потусторонней, мистической реки странная рыба, хранящая в своих серебряных чешуйках-кадрах темные тайны мертвых и живых. Он взял мощную, с большим увеличением лупу и, включив настольную лампу с зеленым, безопасным для пленки светом, начал жадно, с лихорадочным азартом изучать негативы, один за другим, миллиметр за миллиметром.
Кадр за кадром. Все было там, все было на своих местах, как он и помнил. Общий план комнаты, снятый с порога. Крупные, детальные планы самых замысловатых, гипнотических символов. Портрет Анны на фоне этой жуткой, сюрреалистической картины. Все, что он снимал, все, что запечатлела его память. Изображения были четкими, резкими, безупречно проработанными, технически совершенными. Ужас, который они несли, был знакомым, почти ожидаемым, привычным ужасом. Ужасом реального места, реальной, жестокой смерти, с которой он когда-то, казалось, покончил навсегда.
На душе стало чуть спокойнее, отпустило. Словно тяжелый камень свалился с сердца. Ничего сверхъестественного. Никакой мистики. Просто работа. Тяжелая, мрачная, отвратительная, но все же ‒ работа. Может, он все выдумал? Нафантазировал? Может, его нервы, его психика, измотанные годом затворничества и страха, просто сыграли с ним злую, изощренную шутку?
Он решил проявить несколько ключевых, самых важных кадров, чтобы изучать их уже на бумаге, в более привычном, осязаемом формате. Снова, почти с наслаждением, погрузился в знакомый, успокаивающий ритуал: выбор кадра на контактном принтере, экспонирование под резким светом увеличителя, проявление. Он работал быстро, четко, почти машинально. Его профессионализм, его многолетний, выстраданный опыт взяли верх над остатками паники, над шепотом страха в затылке.
Первый снимок ‒ общий план комнаты с телом в центре. Он медленно, как призрак, проявлялся в кювете, наполняясь деталями. Стены, замызганные, серые обои, окно с грязными, рваными шторами, силуэты оперативников на заднем плане, и в центре ‒ эта жуткая, застывшая, почти скульптурная композиция из плоти и костей. Все было так, как он помнил, один-в-один.
Второй снимок ‒ крупный план того самого, манившего его символа у изголовья, спирали, переходящей в треугольник. Он вышел идеально, безупречно, каждая линия, каждый изгиб, каждый штрих были видны с пугающей, почти неестественной, кристальной четкостью.
Третий, четвертый… Все было нормально. Правильно. Он уже начал мысленно, с горькой усмешкой корить себя за паранойю, за эту идиотскую, мальчишескую, необоснованную нервозность. «Выгорание, Макс, ‒ сказал он сам себе, сжимая влажные ладони. ‒ Просто выгорание и ПТСР. Призраков не бывает. Камеры-убийцы ‒ тоже. Соберись, тряпка».
Он погрузил в раствор следующий, чистый лист фотобумаги. Это должен был быть кадр с телом, снятый с другого, более близкого, почти интимного ракурса. Он пристально, не отрываясь, наблюдал, как на белой, девственной, гладкой поверхности начинают медленно, таинственно проступать очертания. Пол. Длинная, искаженная тень от тела. Извилистые, как змеи, темные борозды символов…
И тут его взгляд, годами натренированный выхватывать малейшие, незначительные детали, зацепился, впился во что-то лишнее. Что-то, чего там не должно было быть. Что-то, что одним махом перечеркивало все его успокоения, все самоубеждения.
В правом нижнем углу снимка, там, где на его ясной, четкой памяти был пустой, ничем не примечательный, грязный участок линолеума, проступал, набирая плотность, чей-то ботинок. Не обычный, стандартный ботинок оперативника, а его собственный. Тот самый, в котором он стоял сегодня, в который он был обут прямо сейчас.
Ледяная, обжигающая волна, казалось, вырвалась прямо из кюветы и прокатилась по его спине, сковывая мышцы, парализуя волю. Он не снимал этот ракурс так близко! Он точно, до миллиметра помнил каждый свой шаг в той комнате, каждый поднятый к глазам «Зенит», каждый вздох! Он не наступал за пределы круга! Он был профессионалом, черт возьми!
Он выхватил снимок щипцами, словно обжегшись о раскаленное железо, и бросил его в стоп-ванну, не дожидаясь полного, окончательного проявления. Его руки снова затряслись, уже по-настоящему, с такой неконтролируемой силой, что металлические щипцы выскользнули из пальцев и с оглушительным лязгом упали на кафельный пол. Сердце забилось с такой бешеной, дикой силой, что в ушах поднялся оглушительный, сметающий все мысли и рассудок шум. Нет. Нет, не может быть. Галлюцинация. Это галлюцинация, наваждение!
Он, почти не видя от накатившей паники, схватил следующий лист, который уже лежал в кювете и был почти готов, почти проявлен. И на этом снимке он увидел не тело жертвы, не символы, а… себя.
Это был он. Максим Орлов. Снятый с такого шокирующего ракурса, словно фотограф стоял прямо перед ним, в упор, в нескольких сантиметрах. Его собственное лицо, но искаженное до неузнаваемости, лишенное всего человеческого, всего знакомого. Выражение было пустым, остекленевшим, восковым, без единой искорки мысли, эмоции, осознания, памяти. Глаза смотрели в никуда, широко раскрытые, зрачки неестественно расширены, словно он был в состоянии глубокого наркотического транса, сомнамбулического сна или запредельного, абсолютного ужаса. А в его правой руке, сжатой в судорожном, напряженном кулаке, был нож. Длинный, с широким, тяжелым, брутальным лезвием, весь испачканный темной, почти черной на черно-белом снимке кровью. Кровь была и на его руке, запекшимися каплями, и алыми брызгами на светлом рукаве его же куртки.
Он стоял над телом Алексея Сорокина, попирая каблуком своего ботинка один из центральных ритуальных символов. И его поза, его застывшее, бездушное, нечеловеческое лицо палача, не оставляли никаких, даже малейших сомнений в том, что именно он, Максим, только что собственными руками совершил это жертвоприношение, этот ритуал.
Мир вокруг поплыл, закружился, потерял все очертания, все краски, кроме багрового света лампы. Максим отшатнулся от стола, опрокинув одну из кювет. Фиксаж, едкий, ядовитый и резко пахнущий, разлился по полу, запах ударил в нос, но он ничего не чувствовал, не видел, не слышал. Он смотрел на плывущее в мутной, отравленной жидкости изображение самого себя ‒ убийцы. Своего двойника. Своего темного, больного отражения. Снятого его же камерой. Его же, дрожащими руками.
‒ Нет, ‒ прохрипел он, и его голос прозвучал чужим, разбитым, незнакомым. ‒ Этого не может быть. ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Первой реакцией, прорвавшейся сквозь ледяной, парализующий ужас, была ярость. Чистая, животная, бессильная ярость, смявшая весь страх в тугой, горячий, болезненный ком в груди. Его надурили. Его подставили. Кто-то знал о его возвращении, кто-то проник сюда, в его святая святых, и подменил пленку! Или… или это больной, уродливый, жестокий розыгрыш. Месть Семёнова за его уход? Или кого-то еще из старых, обиженных коллег, кто считал его трусом, дезертиром?
Он, шатаясь, как пьяный, схватил «Зенит». Лихорадочно, бешено осмотрел его со всех сторон, впиваясь взглядом в каждую царапину. Камера была цела, на ней не было никаких следов взлома, вскрытия, вмешательства. Он снова, с силой вскрыл заднюю крышку. Пленка внутри была его, он помнил марку, помнил, как сам, утром, перед выходом, заряжал ее, отламывая усики. Он проверил механизм затвора, механизм перемотки ‒ все работало идеально, плавно, без малейших заеданий, как швейцарские часы. Никакой двойной экспозиции, никакого наложения кадров, никакого брака быть не могло, он был профессионалом, асом, и никогда, слышишь, НИКОГДА не допустил бы такой примитивной, позорной ошибки!
Он подбежал к негативам, висящим над столом, как повешенные на пытке преступники. При ярком, слепящем свете лампы он начал изучать их снова, с самого начала, кадр за кадром, с лупой в дрожащих, влажных от холодного пота руках, впиваясь в каждое изображение.
И нашел.
Тот самый «лишний» кадр. Он был прямо там, вклинен, как нож в ребро, между снимком символа-спирали и портретом Анны. Отрицательное изображение, где его собственная фигура была светлым, почти призрачным, но отчетливым силуэтом на темном, густом фоне проклятой комнаты. А в его руке ‒ тот самый, ужасающе реальный, отчетливо видимый нож.
Это не было наложением. Не было подделкой, фотомонтажом, фальшивкой. Это был отдельный, самостоятельный, идеально скомпонованный, живой кадр. Снятый в той же комнате. В тот же момент. Но… его не было в его памяти. Он не делал этого снимка. Он не мог его сделать. Он не стоял так. Он не держал в руках нож! Он не…
Ярость, державшая его на плаву, как спасательный круг, лопнула, как мыльный пузырь, и ее мгновенно сменил леденящий, всепоглощающий, тотальный, абсолютный ужас. Его ноги подкосились, и он рухнул на стул, уставившись пустым, невидящим взглядом на висящую, как гирлянда, пленку. Воздух перестал поступать в легкие, горло сжалось в тисках невидимой, железной руки. Перед глазами заплясали темные, рваные, мутные пятна, комната начала сужаться, превращаясь в длинный, черный, безвозвратный тоннель.
Паническая атака. Та самая, знакомая, от которой он бежал целый год, с которой боролся таблетками, терапевтами и затворничеством. Она накрыла его с новой, невиданной, сокрушительной силой, сметая все барьеры, все защиты. Волны жара и холода сменяли друг друга, его бросало в липкий, холодный пот, потом пробирала мелкая, неконтролируемая дрожь. Комната закружилась в вихре, поплыла. Он слышал собственное хриплое, прерывистое, собачье, частое дыхание, словно со стороны, из другого измерения. Его тело перестало ему подчиняться, стало чужим, тяжелым, непослушным, вязким.
Он обхватил голову руками, пытаясь выдавить из себя звук, крик, проклятие, мольбу, но смог издать лишь тихий, жалобный, детский, беспомощный стон. В висках стучало, выбивая один-единственный, навязчивый ритм, как молоток: «Убийца. Ты убийца. Ты стоял над ним с ножом. Ты это сделал. Ты».
Это был не сон. Не галлюцинация, вызванная стрессом и усталостью. Это была пленка. Фотография. Материальный, осязаемый объект. Факт. Голый, неприкрытый, бесстрастный факт.
«Факты, Максим, только факты», ‒ снова, в который уже раз, прозвучал в голове голос деда, и на этот раз он звучал не как наставление, а как окончательный, беспощадный, не подлежащий обжалованию приговор.
Он поднял тяжелую, как гиря, голову и посмотрел на «Зенит», лежащий на столе среди хаоса и разгрома. Багровый свет лампы делал его похожим на пульсирующий, древний, зловещий артефакт, пришедший из иного, враждебного мира. Дед. Его камера. Его странные, почти безумные, пугающие увлечения «невидимыми мирами», «астральными сущностями» и «фотографированием мысли». Что он ему на самом деле оставил в наследство? Проклятие? Одержимость? Ключ к двери, которую лучше было никогда не открывать?
Максим вскочил, с грохотом отшвырнул стул, который с треском упал на пол, и в приступе слепой, неконтролируемой ярости и бессилия схватил первую попавшуюся вещь ‒ тяжелую стеклянную банку с гидрохиноном ‒ и изо всех сил, с криком швырнул ее в стену. Стекло разбилось с оглушительным, хрустальным, звенящим звоном, едкая, ядовитая жидкость брызнула во все стороны, оставляя на стене и полу темные, едкие, ядовитые подтеки. Он тяжело, с присвистом дышал, стоя посреди разрушенного святилища, с сжатыми в белые, костлявые кулаки руками, с лицом, мокрым от слез ярости, страха и полнейшего, бездонного отчаяния.
Максим подошел к столу и дрожащей, не слушающейся, ватной рукой вынул тот самый, «лишний» снимок из стоп-ванны. Он был почти полностью проявлен теперь, во всей своей ужасающей красе. Его собственные глаза, пустые и безумные, смотрели на него с глянцевой, мокрой поверхности фотобумаги, проникая в самую душу. Он видел каждую пору на своей коже, каждую морщинку на одежде, каждую, самую мелкую каплю крови на лезвии ножа. Это был он. Сомнений не оставалось. Это не был двойник, не был монтаж, не был розыгрыш. Это был он. Его второе «я». Его тень.
И тогда, сквозь гул в ушах и спазмы в сведенном горле, в его сознании, как ослепительная вспышка магния, всплыла, обретая новый, зловещий смысл, фраза Семёнова, брошенная в машине по дороге на место преступления: «Держись, дружище. Видок там тот еще».
И новая, еще более чудовищная, парализующая мысль, как удар ножом в спину: а что, если Семёнов это уже знал? Что, если он видел это раньше? Что, если он вызвал его на место не для помощи в расследовании, а для чего-то другого? Для проверки? Для того, чтобы подставить? Или потому, что знал, что камера покажет именно это? Что он ‒ часть этого?
Он опустился на колени на липкий, залитый химикатами пол, среди острых, блестящих осколков стекла. Красный, адский свет лампы лизал стены, превращая комнату в подобие преисподней, в инфернальную лабораторию безумия. А он сидел в ее самом центре, с фотографией себя-убийцы в дрожащих руках, и тихо, безнадежно, беззвучно рыдал, наконец-то понимая, что хрупкие, иллюзорные границы реальности, которые он так тщательно, с таким трудом выстраивал после дела «Садовода», рухнули окончательно и бесповоротно. И он остался один на один с необъяснимым, немыслимым, тихим ужасом, запечатленным на пленке его собственной, проклятой, насланной на него камеры. И этот ужас, самое страшное, был его собственным, родным отражением.
ГЛАВА 4. Игра в одни ворота
Следующие два дня Максим провел в состоянии, граничащем с полным, клиническим помешательством. Он не спал, не ел, только пил литрами черный, горький, как полынь, кофе и время от времени ‒ крепкий, обжигающий горло алкоголь, пытаясь заглушить тряску в руках и ту единственную, навязчивую, вставшую перед глазами картинку, что выжигала ему мозг. Разбитая банка с химикатами и залитый фиксажем липкий пол так и остались нетронутыми в лаборатории ‒ он не мог заставить себя переступить порог этой комнаты, ставшей для него камерой пыток. «Зенит» лежал на кухонном столе, и каждый раз, проходя мимо, Максим чувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки, а в животе шевелится холодный червь страха. Он был заражен. Проклят. Отмечен.
Он перебирал в голове, как четки, все возможные, самые безумные логические объяснения. Галлюцинации? Но негатив был материален, его можно было пощупать. Подмена пленки? Но он не выпускал камеру из рук ни на секунду, это было невозможно. Кто-то в лаборатории? Он жил один, давно и отчужденно. Оставался только один, самый безумный, самый невероятный вывод: камера деда видела то, чего не видел он. Видела возможное будущее. Или… его собственную, глубоко запрятанную темную сторону, его скрытое «я».
Он взял тот злополучный, жгущий пальцы снимок и спрятал его на самое дно старого, пыльного металлического ящика с инструментами, подальше от глаз, от света, от памяти. Сжечь его было бы логичнее, разумнее, но он не мог. Это был факт. Улика. Или единственное доказательство его начинающегося безумия. Он не мог уничтожить его, как не мог отрезать часть самого себя.
Именно в этот момент, когда он сидел, уставившись в пустую, белую стену, и снова, как заезженную пластинку, завел свою мантру ‒ «факты, только факты» ‒ раздался оглушительный, как набат, звонок. Семёнов.
Новое убийство.
Легкий, электрический шок сменился странным, болезненным, гнетущим облегчением. Если убийца снова нанес удар, значит, тот кадр с ним, Максимом, с ножом в руке ‒ все же не был правдой, не был пророчеством. Значит, он не сходил с ума. Во всяком случае, не настолько, чтобы стать убийцей. Пока что.
На этот раз место действия было другим ‒ не убогая, серая хрущевка, а довольно престижный, новый жилой комплекс, «евроремонт», блестящие полы и дорогая, бронированная дверь. Но за этой дверью, как он и ожидал, пахло тем же. Смертью. И чем-то еще ‒ сладковатым, удушающим ароматом дорогих, изысканных духов, которые не перебивали, а странным, извращенным образом смешивались с тяжелым запахом разложения, создавая новую, невыносимую композицию.
Жертвой была женщина. Лет сорока, ухоженная, холеная, с дорогими, изящными украшениями на еще теплой шее, которые теперь бессмысленно и жалко блестели на фоне мертвенно-бледной, восковой кожи. Ее звали Ирина Белова, частный, успешный архитектор. Тело было расположено в центре просторной, светлой гостиной, на белом, теперь испачканном в багровых, ржавых разводах ковре, стоившем, наверное, как его годовая зарплата. Поза была иной, но столь же вычурной, неестественной и мучительной ‒ она была скручена, словно в странном, языческом танце, одна рука была вытянута к потолку, тонкие пальцы сложены в изящное, но нечитаемое подобие мудры. И снова ‒ круг. Тот же, что и в хрущевке, те же сложные, переплетающиеся, гипнотизирующие символы, были аккуратно, с хирургической точностью вырезаны острым предметом на дорогом, темном паркете, намеренно уничтожив его безупречную, дорогую отделку.
Максим стоял на пороге, и его охватило дежавю, настолько сильное и реальное, что на мгновение земля ушла из-под ног, и ему пришлось схватиться за косяк. Тот же ужас, та же безупречная, бесчеловечная, леденящая душу точность. Тот же немой, но громкий вызов.
‒ Ну что, фотограф? ‒ раздался рядом хриплый голос Семёнова. Капитан выглядел еще более уставшим, измотанным, его лицо было землисто-серым, глаза глубоко запавшими, как у больного. ‒ Та же песня, да? Только в более дорогой, шикарной аранжировке.
Максим молча кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Его взгляд скользнул по безупречной, кроме центра, комнате, выхватывая детали, ища различия. Ни признаков борьбы. Ничего не украдено, не тронуто. Тот же ритуал. Тот же почерк. Та же рука.
Он чувствовал себя обманщиком, шарлатаном. Он стоял здесь, зная то, чего не знал никто другой, даже Семёнов. Зная, что его камера ‒ не просто инструмент, а нечто большее, что она может показывать кошмары, пришедшие из ниоткуда. Он боялся поднять ее к глазам. Боялся, что снова, как в тот раз, увидит в видоискателе себя с ножом в руках, с этим пустым, нечеловеческим взглядом.
‒ Орлов, вы как? ‒ его вывел из тяжелого оцепенения молодой, четкий, собранный голос.
Короткова стояла рядом, смотря на него с легким, неподдельным беспокойством, которое она не пыталась скрыть. Она была в своем темном, безупречном деловом костюме, но сегодня ее каштановые, блестящие волосы были собраны в небрежный, но элегантный низкий хвост, словно она выскочила на вызов среди ночи, не успев привести себя в порядок.
‒ Вы выглядите… не очень, ‒ добавила она, тщательно, деликатно подбирая слова, чтобы не задеть. ‒ Если честно, просто ужасно.
‒ Бессонница, ‒ буркнул Максим, отводя взгляд в сторону, чувствуя прилив стыда. ‒ Ничего страшного. Пройдет.
‒ После того, что мы видели в прошлый раз, это неудивительно, ‒ она слегка понизила голос, чтобы их не слышали другие. ‒ Но вам нужно быть в форме, Максим. Ваши глаза… они видят иначе, чем у других. Они видят то, что скрыто. Мне нужна ваша помощь, ваш взгляд, а не еще одна, простите, жертва шока в моем деле.
Ее слова, сказанные без лести, искренне, тронули что-то в нем, задели потаенную струну. В них не было снисхождения или жалости, только практическая, трезвая озабоченность и, возможно, зарождающееся, хрупкое партнерство.
Он глубоко, с усилием вдохнул и открыл кейс. «Зенит» лежал внутри, безмолвный, тяжелый и зловещий. Его инструмент. Его проклятие. Его крест.
«Факты, ‒ судорожно, почти молитвенно подумал он. ‒ Я должен собрать факты. Это все, что я могу сделать. Это мой долг».
На этот раз его работа была иной, совершенно отличной от прошлой. Он не погружался в блаженный, спасительный автоматизм. Каждое его движение было выверенным, осторожным, почти робким. Он не просто снимал ‒ он изучал комнату через видоискатель, будто ожидая, что в любой момент, в любом углу кадра появится что-то… или кто-то. Его взгляд постоянно метался, он вздрагивал от каждого шороха, от каждого негромкого разговора за спиной. Он снимал символы, тело, обстановку, но делал это с какой-то лихорадочной, почти болезненной, маниакальной тщательностью, будто пытаясь запечатлеть каждую пылинку, каждую молекулу воздуха, в надежде, что на пленке, в ее тайной лаборатории, проявится наконец разгадка, ключ ко всему этому безумию.
Короткова наблюдала за ним. Он чувствовал ее пристальный, аналитический, умный взгляд на себе ‒ он был почти физическим. Она видела его нервозность, его бледность, ту самую дрожь в руках, которую он тщетно пытался скрыть, сжимая камеру до побеления костяшек. Видела, как он избегает подолгу смотреть в объектив, как будто боялся его, как грешник ‒ взгляда святого.
‒ Что-то не так с камерой? ‒ спросила она напрямую, когда он в очередной раз, с облегчением опустил «Зенит», чтобы перевести дух и вытереть пот со лба.
‒ Со мной, ‒ честно, без утайки ответил он, не глядя на нее, испытывая жгучий стыд. ‒ Не с камерой. Она… в порядке.
Он не мог сказать ей правду. Не сейчас. Не здесь. Она, рациональный следователь, мыслящая категориями доказательств, подумала бы, что он сумасшедший, шизофреник. Или, что было бы еще хуже, сочла бы его подозреваемым.
Закончив, он почти выбежал из квартиры, чувствуя, что стены смыкаются вокруг него, душат его. Ему нужно было в лабораторию. Он должен был узнать, что запечатлела, что принесла с собой пленка на этот раз. Лицо монстра? Или снова его собственное, искаженное гримасой ужаса?
Вернувшись домой, он захлопнул дверь и, не включая света, пробираясь на ощупь, прошел прямиком в лабораторию. Он не стал убирать последствия своей недавней истерики ‒ просто отодвинул осколки ногой и, стиснув зубы, принялся за работу. Руки дрожали так сильно, что он едва мог, не порвав, зарядить пленку в бачок. Страх был теперь иного свойства ‒ не панический, истеричный, а глубокий, вымораживающий душу, тоскливый страх ожидания, страх перед приговором. Что он увидит на этот раз? Снова себя? Или нечто новое, еще более ужасное?
Процесс проявки казался вечностью, пыткой. Он механически, как робот, выполнял все действия, его взгляд был прикован к непроницаемому пластику бачка, как будто он рентгеновским зрением мог видеть сквозь него, видеть тайну, зреющую внутри. Когда он наконец, с замиранием сердца, извлек промытую, блестящую пленку и повесил ее сушиться, его сердце бешено, гулко колотилось где-то в горле.
Он щелкнул выключателем, и комната озарилась резким, неприятным, обнажающим светом обычной лампы. Красный, спасительный свет он сегодня вынести не мог ‒ он напоминал ему ад, кровь и тот самый снимок. Взяв увесистую лупу, он подошел к пленке, чувствуя, как подкашиваются ноги.
Первые кадры были ожидаемыми, почти успокаивающими. Шикарный интерьер квартиры. Тело Ирины Беловой в той жуткой, танцующей позе. Символы на дорогом паркете. Все было четко, ясно, ужасно, но… нормально. Предсказуемо. Никаких лишних ботинок. Никакого его лица, его вторжения в кадр.
Он почувствовал слабый, робкий, но такой желанный прилив облегчения, теплой волной разлившийся по телу. Может, тот первый раз был случайностью? Однократным сбоем? Глюком матрицы? Или… его психика все же сыграла с ним злую, изощренную шутку, которую он теперь, силой воли, преодолел?
Он продолжил изучать пленку, уже почти успокоившись. Кадры с телом под разными углами. Крупные планы дорогих украшений ‒ возможно, в них был скрыт смысл, ключ. И тут… его взгляд, скользящий по пленке, вдруг застыл, впился в одно место.
Между кадром с изысканным узором на дорогих обоях и общим планом комнаты был еще один кадр. Не его. Чужой.
На нем была снята не светлая, просторная гостиная Ирины Беловой. Снимала, без сомнения, та же камера, тот же «Зенит» ‒ он узнавал характерные блики, контраст, почерк. Но это была другая комната. Совершенно другая. Темная, с низким, давящим потолком, с обшарпанными, сырыми, покрытыми плесенью стенами. Подвал. Или склеп. И в центре кадра, освещенный лишь одним, тусклым, одиноким источником света где-то сбоку, отбрасывающим глубокие, рваные тени, был человек.
Незнакомец. Мужчина. Его лицо было освещено так, что одна половина тонула во мраке, а на другой играли светотени. Но черты были видны достаточно четко, чтобы запомнить: узкий, костистый подбородок, темные, непослушные волосы, спадающие на низкий лоб, тонкие, плотно, почти злобно сжатые губы. И глаза… глаза, даже на негативе, были полны холодной, безразличной, нечеловеческой решимости. Взгляд мясника, делающего свою работу.
В его руке был длинный, знакомый до боли нож. Тот самый, что Максим видел на первом «лишнем кадре» в своей собственной руке. Лезвие блестело в полумраке, как глаз хищника. Рука была уверенно, твердо занесена для удара, для завершающего движения.
Это не было постановочным, бутафорским кадром. Это была моментальная, живая, жестокая фотография, сделанная в самой гуще действия, в апогее насилия. Фотография палача за работой. Настоящего палача.
Максим медленно, почти благоговейно опустил лупу. В голове у него воцарилась оглушительная, звенящая тишина, полная понимания. Все вдруг, в одно мгновение, встало на свои места, сложилось в единую, чудовищную, но ясную картину. Пазл был собран.
Камера не показывала будущее. И не показывала его темную, больную сторону, как он думал сначала.
Она показывала палачей. Только палачей.
В тот первый раз, на месте убийства Алексея Сорокина, она показала ему, Максима, как потенциального убийцу. Возможно, это была версия будущего, которая, к счастью, не сбылась, которую он смог избежать. А может, это была просто метафора, укор ‒ его вина за то, что он не может остановить это зло, что он лишь беспомощный свидетель.
А теперь она показала настоящего. Того, кто это сделал на самом деле. Того, кто стоял за обоими убийствами, кто дергал за ниточки.
Он не сходил с ума. Его камера была не проклята. Она была… даром. Ужасным, невыносимым, тяжким даром, перешедшим к нему по наследству от деда, который «фотографировал невидимое» и, видимо, знал, что делает.
Он стоял в своей разгромленной, пропахшей химикатами лаборатории, глядя на негатив с лицом убийцы, и понимал, что игра изменилась, перешла на новый, невероятный уровень. Он больше не был просто фотографом, пассивно фиксирующим последствия. Он был свидетелем. Не просто преступления, а самого момента зла, его апогея. Он видел его лицо. Он знал его в лицо.
И это означало, что теперь он был в игре. По-настоящему. И игра эта, он чувствовал, велась в одни ворота. Ворота, за которыми стоял этот незнакомец с ножом, который, возможно, даже не подозревал, что его уже видят, что его уже сфотографировали сквозь время и пространство.
ГЛАВА 5. Первое предупреждение
Ощущение было сродни тому, как если бы он держал в руках живую, тикающую бомбу с непонятным таймером. Негатив с изображением незнакомца-убийцы лежал перед ним на столе, и Максим чувствовал, как от него исходит почти физическое тепло, опасное излучение чистой, концентрированной, безразличной угрозы. Этот маленький, хрупкий кусок пластика и эмульсии был сейчас опаснее любого пистолета, любой взрывчатки. Он знал лицо монстра. И монстр, рано или поздно, по законам жанра, должен был почувствовать этот пристальный, невидимый взгляд на себе.
Первым, животным, инстинктивным порывом было уничтожить улику, стереть память, сделать вид, что ничего не произошло. Сжечь негатив, размагнитить его, растворить в кислоте. Забаррикадироваться в своей квартире, как в последнем убежище, и ждать, пока кошмар не закончится сам собой, не рассосется. Но он уже пробовал прятаться, убегать. Кошмар нашел его и здесь, в самой глубине его берлоги, проявившись в красном свете лаборатории, как призрак.
Вторым, более рациональным, но не менее опасным решением было пойти к Семёнову. Положить снимок на его вечно заваленный бумагами стол и сказать: «Вот, Иван Петрович, ваш убийца. Распечатайте, размножьте, ищите». Но как он, глядя в глаза, объяснит происхождение этой фотографии? «Видите ли, Иван Петрович, моя камера волшебная. Она каким-то неведомым образом фотографирует преступников прямо во время совершения ими преступления, даже если я при этом нахожусь в другом месте и ничего не вижу». Его мгновенно, без разговоров, упекут в психушку, а камеру конфискуют как вещдок, как аномалию. Или, что было бы еще страшнее, Семёнов, этот старый, видавший виды циник, мог бы ему, как ни странно, поверить. И тогда Максим стал бы вещдоком сам, подопытным кроликом, заключенным в клетку собственного необъяснимого дара.
Оставался третий, трусливый, не профессиональный, но единственно безопасный для него лично вариант ‒ анонимность. Подбросить улику. Дать им направление для поиска, тропинку, не раскрывая себя, своего источника, своей страшной тайны. Это было малодушно, не по-мужски, но это давало ему хоть какую-то иллюзию контроля и безопасности.
Он провел бессонную, нервную ночь, печатая в красном свете контактные отпечатки с того самого злополучного негатива. Он сделал дюжину снимков, выбирая самый четкий, самый выразительный, самый шокирующий кадр, где тени не скрывали, а, наоборот, подчеркивали жестокость и холодную решимость в глазах незнакомца. На рассвете, надев темные, скрывающие глаза очки и натянув на голову капюшон, он, как настоящий преступник, обошел несколько уличных почтовых ящиков в разных, удаленных друг от друга районах города и опустил в них простые белые конверты без обратного адреса, адресованные в управление, на имя капитана Семёнова. Внутри лежала фотография и распечатанная на принтере, безличная записка: «Ищите этого человека. Он убил Сорокина и Белову. Очевидец».
Вернувшись домой, он попытался убедить себя, что поступил правильно, мудро, как стратег. Он сделал все, что мог, не подставляясь, не вылезая из тени. Теперь дело за профессионалами, за машиной правосудия. Он лег на кровать, надеясь на первое за много дней забытье, долгий и глубокий сон, но сон, как назло, не шел, бежал от него. Он ворочался, прислушиваясь к каждому шороху за дверью, каждому скрипу половиц в старом доме. Он выдал убийцу. Предал его анонимно. А что, если убийца каким-то образом, какими-то своими, извращенными каналами узнает об этом? Что, если у него есть свои глаза и уши, свои источники?
Его мучил и другой, более философский вопрос: почему камера показала сначала его, а потом ‒ настоящего убийцу? Почему сначала намекнула на него самого, как на потенциального палача, а потом явила миру настоящего преступника? Было ли это испытанием его духа? Предупреждением свыше? Или камера просто фиксировала не сам факт, а темное намерение, и в тот первый раз в нем самом, в глубине души, жила какая-то неосознаваемая, тщательно скрываемая им самим темная мысль, желание?
Он так и не уснул, провалявшись до утра в лихорадочных думах. Ровно в десять утра раздался резкий, настойчивый, требовательный звонок в дверь. Сердце Максима ушло в пятки, вжалось в пол. Он подошел к глазку, боясь дышать. В пустом коридоре стояла Анна Короткова. Одна. Ее лицо было серьезным, сосредоточенным, но не враждебным. В ее ухоженных, сильных руках она держала тот самый, знакомый белый конверт.
Максим отступил от двери, чувствуя, как по спине ползет ледяной, липкий пот. Его раскусили. И так быстро, почти мгновенно.
‒ Максим, я знаю, что вы дома, ‒ раздался ее ровный, спокойный, но не допускающий возражений голос из-за двери. ‒ Откройте, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Срочно. Без Семёнова.
Фраза «без Семёнова» заставила его замереть, как вкопанного. Что это? Ловушка? Хитрый ход? Или она действует в своем собственном, отдельном интересе?
Он медленно, будто поднимаясь на эшафот, повернул ключ и открыл дверь.
Анна вошла, окинула быстрым, профессиональным взглядом прихожую, его помятое, неспавшее лицо, темные, как синяки, круги под глазами.
‒ Можно? ‒ она уже снимала легкое пальто, чувствуя себя уверенно.
Он молча кивнул, провел ее в гостиную, чувствую себя преступником, пойманным с поличным. Анна села на краешек дивана, положила конверт на журнальный столик между ними, как доказательство.
‒ Я получила это сегодня утром, ‒ начала она, не отрывая от него проницательного взгляда. ‒ Капитан Семёнов тоже. Но его экземпляр я изъяла из почты, пока он не увидел. Сказала, что это анонимка по старому не связанному делу.
