Реверс
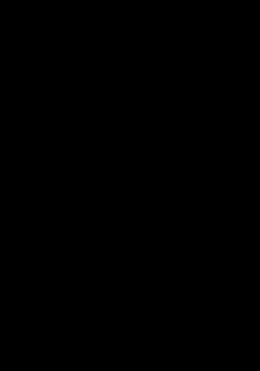
Прогресс – это путь вперёд, но его содержание зависит от того, что люди ставят в этот «перёд».
Пролог
Время людей на Земле заканчивается. Так, по крайней мере, думали люди из последних поколений, способных думать. Философы эпохи заката человеческой цивилизации разделили господствующие группы взглядов на два основных направления: неопрогрессизм и неотрадиционализм.
Почему «нео»? Это забавная история, но понять иронию смогут не все.
Ещё каких-то двести или около того лет назад прогрессизм связывался с индустрией и ростом выпуска продукции, авангардом этого подхода были коммунисты всех оттенков, молившиеся шестерёнкам, выставляя в качестве достижений повышение выпуска материальных изделий. С другой стороны, были консерваторы, которые не были против увеличения производства, но они не делали из него культ, вместо этого они превозносили нематериальные ценности: религию и тёплые человеческие отношения, а производство и потребление благ были лишь способом достижения бытового комфорта. Не будем спорить о верности такой дихотомии и отдавать пальму истинности кому-то из них, поскольку и первые ценили дружбу, и вторые стремились удовлетворить как можно больше своих потребностей, желательно скинув тяжёлый труд на кого-нибудь другого. Все были хороши. Говоря коротко, жизнь – это градация оттенков.
Однако к концу первого века третьего тысячелетия всё поменялось.
Поклонение производству, наоборот, стали считать ретроградством, а сближение с природой стало символом прогресса и одновременно его целью. Этот неопрогрессизм насаждали императивно, путём тотальной пропаганды и исключения сомневающихся из общества. Противоречия нарастали, и со временем, как это всегда бывает, случился взрыв. Первыми радикализовались неопрогрессисты. Напуганные концепцией безликого врага – необратимого изменения климата, они начали хулиганить – ломать и портить культурное наследие человечества, а потом стали формировать отряды боевиков, которые самодельными взрывными устройствами разносили на куски заводы и целые кварталы.
Они запихивали в себя бомбы, приклеивали себя к произведениям искусства в галереях, на площадях, у зданий правительств и взрывались, устраивая кровавые представления, чтобы, как им казалось, привлечь внимание к глобальному потеплению.
Гуманизм и любовь к человеку, понимание человеческой жизни как высшей ценности, из которых и выросло стремление снизить выбросы парниковых газов, были принесены в жертву отказу от производства как самоцели.
Началась эра массового непредсказуемого насилия в крупных городах, в той части света, называющей себя цивилизованной.
Неопрогрессистов, боевое крыло которых называлось Калиоти по имени индийской богини разрушения Кали, было не остановить рациональными аргументами. Со временем сама борьба стала для них смыслом существования. Потушить пожар насилия из-за слишком длительной глобальной пропаганды не получалось – многие просто не видели смысла жизни за пределами разрушения общества.
Естественно, насилие породило встречное насилие. Противники Калиоти тоже стали формировать отряды. Никакой единой идеологии в таких группах не было, но по аналогии с Калиоти они получили древнее название – Хаммурапи, по имени древнего царя Вавилона и его свода законов, самый широко известный из которых: «Око за око, зуб за зуб». Так неоконсерваторы, которые выступали за развитие человечества по пути производственного прогресса, обозначали, что охраняют существующий порядок и будут нелегально карать тех, кто совершает теракты во имя отказа от прогресса.
Мир поделился на два лагеря, в названии которых фигурирует приставка «нео», по иронии дающая им прямо противоположные значения. Консерваторы с приставкой «нео» требовали прогресса, а прогрессисты с противоположным знаком хотели ввергнуть человечество в фэнтезийный каменный век.
Сказать, какая из конфликтующих сторон была права, трудно и сейчас. Но это и не важно. Того мира больше нет, и люди забыли, что всего пару поколений назад их предки были готовы грызть друг другу глотки, чтобы доказать верность своих взглядов на мир. В борьбе за лучшее будущее они отняли его у своих потомков. Не осталось ни производств, которые нужно взрывать или защищать, ни системы образования, которая объясняла бы необходимость двигаться в ту или иную сторону.
Наверно, стоило бы сразу представиться, но я предпочту дать вам шанс сшить несколько кусочков этой истории самостоятельно, так что забудьте всё, что вы только что прочитали.
Часть I
Глава 1
– Воды б попить, – сказал Инцеллад, растянувшись на скрипнувшем металлом об пол стуле.
– Пил уже, потерпишь, – ответила Степана.
– Надоело. Бабушка говорила, что раньше можно было пить без ограничений, – лениво зевнув, сказал Инцеллад.
– Да, старики постоянно об этом говорят. «Раньше было лучше» – это классика, – с видом знатока добавил их коллега. – Правда, на нервы действует.
– Мы, наверно, также будем говорить, – сказала Степана.
– У камтековцев, наверно, всё по-другому… – задумчиво глядя в окно во всю стену, сказал коллега.
Инцелл скептически посмотрел сквозь то же окно на сереющие постройки с тёмными провалами окон и бурую ленту реки перед ними.
– Это вряд ли, – без всякой иронии сказал он.
– Ты про «Камтек»?
– Нет, – про то, что мы в старости тоже будем говорить, как было здорово у нас в молодости, – ответил Инцеллад.
– Почему? – спросил коллега.
– Родители нам рассказывали про обилие воды и еды, свободное перемещение по миру, а мы привязаны к одному месту, едим и даже пьём по расписанию. Мы не видим ничего, кроме городских построек, не можем распоряжаться своим временем. Если продлить в будущее то, как мы живём, окажется, что там нет вообще ничего. Как будто мир – это стрим, который поставили на паузу и забыли включить обратно.
– Ага, и выходить из домов нельзя будет, – добавил коллега.
– Да и домов не будет, – Степана решила поддержать общий разговор, – будем жить в капсулах.
– Для мозгов, – продолжил фантазию Инцелл.
– Ой, Инцел, перестань. Всё нормально будет, правительство всё разрулит, они же не просто так там сидят, – легкомысленно, на взгляд Инцелла, возразил его коллега.
– Ну досидели же до того, что мы в той части глобуса, где куча рек и озёр, пьём воду по расписанию, – сказал Инцеллад.
– А почему ты думаешь, что тут много рек и озёр? – спросила Степана.
– Опять ты за своё… – Инцелл раздражённо махнул на неё.
– Да, ну и что? Ты так ни разу не объяснил ничего нормально. Вот ты говоришь, что мы в такой-то части глобуса, а откуда ты это знаешь? Ты что, взлетал над землёй или измерял её?
– Нет, в детстве родители и бабушка показывали мне глобус и карты.
– Ты даже не помнишь, как выглядит твоя бабушка, какие ещё карты!
Инцелл сбился. Он на самом деле помнил, но не лицо бабушки, а что-то неуловимое, как будто тень призрака, которая вызывала в нём тепло и чувство защищённости.
– Это неважно, я помню всё, что они мне рассказывали. Я помню, как называется место, где мы живём, я помню его положение относительно других мест.
– Да-да, Москва, это мы тоже знаем, – едко заметила Степана.
Они часто с ней спорили. Инцелл считал это глупым, но не мог с собой справиться.
– Да, Москва, и да – всё остальное тоже правда.
– Правда потому, что ты так думаешь, – Степана изогнула брови.
– Нет, правда потому, что так оно и есть. На картах всё помечено. Ты же согласна с тем, что мы в Москве, хотя ты не видела карт. Но ты знаешь это, потому что видела подтверждение моих слов в других источниках, так почему ты считаешь, что я ошибаюсь в остальном?
– Всё у тебя вокруг тебя же и вращается, да? – спросила Степана.
– Да о чём ты?! – Инцелл крикнул с раздражением.
– О том, как ты говоришь: «Видела подтверждение твоих слов». Нужны мне твои слова, чтобы подтверждать их. Это твои слова подтвердили, что я раньше слышала, дурень.
Инцелл закатил глаза. Его злила её манера перепрыгивать с темы на тему, лишь бы оставить за собой последнее слово.
Их коллега продолжал смотреть в окно. Перепалки между ними были частыми, хотя он и не очень понимал их причину, но предпочитал не вмешиваться, как и остальные. Они вызывали чувство неловкости, но все их коллеги испытывали странное удовольствие от наблюдения за этими перепалками. В таких столкновениях было больше жизни, чем в их обыденном существовании. Другие обитатели общежития почти не контактировали друг с другом из-за постоянной усталости.
– Что такое мороженое? – спросил кто-то из толпы скучающих сожителей.
Обед только что кончился: белая комковатая каша, комочки которой между зубами превращались в густую клейкую массу, пахнущую сырым белком, была съедена и, как всегда, оставила после себя желание съесть что-нибудь повкуснее. Они никогда не ели мороженого, не пили чая или кофе в этом месте. Инцелл и кое-кто из коллег пробовали эти продукты и рассказывали о них другим, вызвав зависть.
Вопрос о мороженом растворился в комнате.
– А ведь воды мы по факту и не лишены, – продолжил своё Инцеллад. – Когда я жил с родителями под Брянском, там воды полно – хоть обпейся.
Никто не знал, где находится Брянск, да и сам Инцеллад тоже, но многие смутно помнили, что жили где-то в других местах, с родителями, дедушками или бабушками, и там всего было в достатке. Приятно было побередить те воспоминания, так что они с удовольствием включились в разговор.
– Да зачем тебе столько воды? – спросил тот же собеседник, – ты же жив до сих пор. На попить и помыться хватает.
– Это другое… Я о том чувстве… Вот когда ты сам себе не принадлежишь. Вы же понимаете, о чём я? Это как вечно стоять на лапках и чего-нибудь выпрашивать. Только мы и не выпрашиваем, потому что не у кого. Мне кажется, это убивает в нас что-то. Не могу это выразить точнее, но уверен, что я прав.
– Опять загоняешься, – встряла Степана, – не знаю, что там насчёт стоять на лапках, но у нас есть импланты, которые помогают чувствовать себя лучше.
Инцелл очень не хотел отвечать ей, но от её слов в нём словно всё начинало чесаться, он не мог промолчать.
– Ну неужели непонятно? Эти импланты не дают… Настоящего. Они просто конструируют реальность. Ощущения, за которые нам платят, – восприятия кожи, носа, глаз, ушей, все случайные воздействия на наш организм нельзя смоделировать. Даже хаос, который они пытаются имитировать, – лишь бледная тень того Настоящего.
Инцеллад принципиально избегал искусственного чувства насыщения. Многие его коллеги прибегали к этим уловкам, чтобы унять чувство голода или жажды. Эти устройства, скорее всего, просто подавляли что-то у них в мозгах, поэтому они переставали чувствовать голод или жажду, но Инцелл замечал, как плохо после использования этой возможности потом выглядели его коллеги. Он не понимал, как они могут это делать при том, что их работой было транслировать свои эмоции ощущателям через Сеть, для чего нужно быть счастливым хотя бы чуть-чуть.
– Ой, фапни иди, – издевательски сказала Степана.
Она зло смотрела на него, видимо, ожидая реакции.
– Прекрати, – без злости ответил Инцеллад. Его нервная система не выносила таких острых вторжений.
– Плеклати! – передразнила его Степана, – ты прямо-таки оправдываешь своё имя.
– Я же говорил: это ошибка, моё имя должно было звучать иначе!
– Так поменяй его!
– Не хочу!
Смена имени была делом простым – раз, и всё, все видят твой профиль по-иному, ты – другая личность. Объяснять, что его имя – одна из ниточек, которая связывает его с родителями и безоблачным детством вне городской черты, он не хотел.
История происхождения своего имени – единственное, что он помнил отчётливо о своём детстве. Настолько ясной была эта картина, что он сомневался в её подлинности. Ведь наверняка были и более важные вещи, которые ему следовало бы запомнить, но почему-то он помнил только эту, не имеющую прямого отношения к его жизни историю.
Родители выбрали для родов Тавриду. Они приехали на место, рядом с которым в древности располагался греческий полис Акра, скрытый теперь толщей Чёрного моря. Родители на тот момент думали, что слово «инцел» значит что-то вроде «девственный», поэтому прилепили его к слову Эллада, руины которой сейчас были где-то в глубине рядом с ними, и в таком виде наградили сына этим именем. Инцелл, пытаясь разобраться в тайне своего имени, наткнулся на название спутника Сатурна – Энцелад, и предположил, что эта версия могла бы быть более правдоподобной, но история с местом рождения горела в его мозгу как верная.
Когда он устроился стримером на студию, поначалу никто не обращал на имя внимания. Они не читали длинных книг, и мир был знаком им из обучающих роликов, тщательно отобранных под их будущую карьеру, так что происхождение слов и имён никому не было интересно. Но Степана зачем-то поинтересовалась происхождением его имени. Она излила на Инцеллада поток едкостей, а потом рассказала остальным.
Помимо разрыва с детством и воспоминаниями о родителях и бабушке, смена имени обязательно вызвала бы проблемы с подписчиками, которые искали «Инцелла» ради экзотических ощущений, которые он предоставлял, так что приходилось терпеть.
Когда по достижении семи лет его право находиться за городом истекло, его забрали из семьи. Родители проводили его на железнодорожную станцию, где он в последний раз сквозь мутноватое окно видел их заплаканные лица, уезжая в неизвестную и страшную Москву на старом, скрежещущем поезде. Увидит он их снова или нет, он не знал. Впереди был интернат, где он был вынужден копошиться с другими детьми и робоняней, которая следила только за их физическим благополучием.
Дальнейшее он помнил едва ли не хуже, чем более ранний период. Никакого обучения практическим навыкам или представлениям о мире не было. Им вживили импланты в мозг и показали, как пользоваться Сетью. Инцелл помнил других детей, сидящих в неудобных позах по много часов, он помнил, как стекала слюна с их подбородков. Наверняка и он сам проводил в таком же положении много времени, но точно не помнил.
Большая часть так и оставалась там, в каком-то из бесчисленных несуществующих миров. Это было очень буднично, никаких церемоний после гибели тел не было.Их просто увозили куда-то вглубь коридоров, и через пару часов комната снова становилась такой же серой и аккуратной, будто ничего не произошло. Инцелл уже тогда заметил это противоречие: робоняня следила за тем, чтобы они не дрались и не поранились, но не встряхивала детей, застывших в неестественных позах, когда они уходили глубоко в неосязаемый мир, доступ к которому давала мелкая твёрдая штучка в их головах.
От этого периода осталось лишь воспоминание, что он был. Инцелл заметил, как поменялись тела тех, кто, как и он, остался, кого не вынесла на руках робоняня, значит, прошло несколько лет. При переводе на студию, где они теперь стримили, никто не знакомился друг с другом, он отчётливо это знал. Это означало, что они уже были знакомы раньше, но никто не помнил, как давно они знакомы, никто не мог сказать, когда узнал остальных. Инцелл помнил только, что в тех долгих часах, что они проводили с отсутствующим взглядом и стекающей слюной, было нечто очень притягательное. Он помнил, как ему хотелось провалиться туда, но что нужно сделать, чтобы вновь туда заглянуть, он не понимал.
Возможно, он бы остался там, и робоняня вынесла бы его, как многих других, но слишком ярко в нём запечатлелись образы родителей, их дом и теплота в отношениях. В последние миллисекунды, когда блёклое сознание было готово раствориться окончательно, срабатывала какая-то внутренняя мышца. Возникал страх, и он пробуждался. Он инстинктивно чувствовал драматическую неправильность своего положения. Мечта о возвращении в родительский дом из этого жуткого мира не дала ему раствориться в пустоте. Стало почти физически ясно: если отпустит это желание, от него самого ничего не останется, только тело со стеклянными глазами и стекающей струйкой слюны. Твёрдо решив, что однажды вернётся в тот дом и встретит отца, работающего в зелёном саду, и мать, сидящую на небольшой веранде, он стал самостоятельно изучать мир, в котором ему предстоит выживать.
Примерно в это время он узнал про возможность откупить себя и что единственный путь для этого – стать стримером.
Отношения в коллективе на студии были жидкими и нервозными. По-настоящему долгих связей никто не создавал, если не считать вечное переругивание Степаны с Инцелладом, за которым все наблюдали с вялым весельем.
– Ты всерьёз думаешь, что это нормально, что оно всё так и должно быть? – спросил Инцеллад собеседницу.
– Ты о чём?
– Об этих ограничениях. Это же бред. Да, жизнь на планете подпорчена, но зачем так жёстко ограничивать людей?
– Я-то откуда знаю?!
– Просто ты всё время иронизируешь над моими словами, а ведь это серьёзно. Мы живём от глотка к глотку, от пайка до пайка. Да и ту хрень, которую там дают, – это же не еда, это… Так не должно быть. Пусть не везде так много ресурсов, как в наших широтах, но всё равно… – он сбился с мысли, как это часто случалось со всеми его сверстниками. Мысль в голове была яркая и колючая, а стоило начать говорить – расползлась, как каша по тарелке.
– Может быть, это тоже часть шоу? – спросил кто-то тихо.
Инцеллад посмотрел в сторону, откуда раздался этот тихий вопрос.
– Думаешь, это может быть что-то вроде дополнения для глядящих? – спросил он.
Ответа не было. Его всегда раздражала эта черта в других людях. Очень часто, когда Инцеллу казалось, что он нашёл что-то важное и пытался ухватиться за это, мысли его коллег расплывались, и он оказывался один в вязкой среде, где ничто неизвестно наверняка, и чувствовал себя от этого посмешищем.
Перерыв заканчивался, и все стали лениво потягиваться, настраиваясь на труд, впереди была вечерняя сессия.
Работа шла в большом кирпичном здании бывшего жилого комплекса, перестроенном в свою очередь из какого-то завода. Жители отсюда уехали, когда Москва потеряла статус аттрактора всех человекоресурсов Евразии. Об этом рассказывал вступительный ролик, который им показывали при приёме на работу. Больше информации у них не было. Понимания того, что такое «аттрактор», «человекоресурсы» и «Евразия», не было тоже. Слова звучали солидно, но были лишь звуком. Только в самом начале, когда новеньких привозят на студию, в них теплится какое-то слабое любопытство, которое быстро зажёвывается и сгнивает в мутных колеях рутинной работы.
Небольшой коллектив трудился в этом месте, чтобы создавать контент, пропитанный эмоциями, чувствами и гораздо реже – душевностью и человеческой теплотой. Большая часть отправляла в Сеть быстрые яркие эмоции, вызывая их искусственно при помощи препаратов и самостимуляции. Степана как раз была из таких. Инцелла очень беспокоило состояние, в котором она находилась после своих стримов, но он не рассказывал об этом никому, даже самой Степане. Гораздо более редкими и экзотическими формами стримов были трансляции определённых образов, вызывавших в людях их собственные эмоции. Это было не так ярко, как удары эмоциями стримеров по мозгам сенсиков, однако именно такие стримы ценились выше всего. И оплачивались гораздо щедрее.
Инцелл делал именно это. Конкретно он конструировал образ подушки. Старой пуховой подушки, на которой спал в детстве в семейном доме. Подушку взбивала ему бабушка и только она. Это был ритуал. Просто каждый вечер бабушка, тяжело вздыхая, шла в его комнату, переваливаясь от боли с одной ноги на другую, и там поправляла эту подушку ударами кулаков сбоку и сверху, встряхивала и переворачивала её.
Он помнил запах натуральных тканей и ощущение грубоватой податливости утиного пуха, на который в семье у всех, кроме него, была аллергия.
Опираясь на эти воспоминания, он создавал и транслировал в Сеть почти статичный образ. Он не вызывал ни волн эйфории, ни наэлектризованного экстатического веселья. Но эффект покоя, чего-то абсолютно и глубинно родного вызывал у некоторых сенсиков слёзы чистых, неназываемых эмоций. В отличие от хлюпающих грубыми всплесками быстрых и резких ощущений, от которых некоторые выбрасывались из окон, Инцелл выдавал сложную палитру: нежное тепло матери, безграничная забота бабушки, в которой содержатся ноты безответственности, потому что она позволяла ему делать то, что откровенно вредит здоровью, к примеру – есть много сладкого, и ещё было в его концентрации что-то очень архаичное – из досетевой эпохи. Нечто приватное, когда можно было залезть под одеяло, и тебя оттуда никто не увидит, не прочтёт твоих мыслей, не станет что-то продавать. В подушке Инцеллада была архаичная, уютная правда. Его стримы лечили людей.
Высококачественный стрим ощущений – очень сложный процесс, он может длиться лишь несколько минут. В отличие от своих коллег, которые стримили физические ощущения, а не внутренние переживания, Инцелл не мог пользоваться стимуляторами – они делают внутренние переживания грязными, так что элитные сенсики, которые ценили стримы Инцелла, отписались бы от него.
Стоил чувственный стрим очень дорого. Их могли себе позволить только очень богатые люди, живущие вне больших городов, на природе.
Эффект от стримов Инцеллада имел терапевтическую ценность, и в его профиле стоял значок со змеёй и чашей, который повышал заработок до уровня, который позволял накопить на откуп в разы быстрее остальных.
Помимо подписок на стримеров, существовал более дешёвый способ покататься на чувственных горках – подписаться на банк предзаписанных ощущений. Но записанные заранее, отредактированные дизайнерские ощущения не давали той остроты, которая возникает только во время живого стрима, когда творчество происходит здесь и сейчас. В записи всё было правильным, но слишком ровным, как улыбка на рекламном плакате. Возможно, эти особые ноты возникают, когда обе стороны знают, что стрим может прерваться в любой момент, что стример может потерять нить и всё испортить, и этот риск делает каждый сеанс уникальным. Те, кто мог себе позволить живые стримы, подсаживались на них. По словам сенсиков, попасть в чью-то подкорковую часть мозга – это экстаз без посредников в виде нервных волокон, проводящих до мозга сигнал от гениталий; кто-то описывал это как прикосновение к Богу. По слухам, многие на этом теряли целые состояния и умирали от эпилептических припадков – таково было невыносимое блаженство от принятия сигнала из чужих зон древнего мозга.
Чтобы испытывать сложные многосоставные эмоции, людям нужны другие люди, в которых их личности будут отражаться и резонировать, поэтому в договоре со стриминговой студией было условие: совместное проживание с другим человеком. Такое уплотнение поддерживало эмоциональный фон стримера и повышало прибыль. К тому же, простая жизнь в стенах заброшенных зданий тоже являлась товаром, и самые бедные – те, кто не мог купить даже записанные ощущения, выкладывали свои гроши, чтобы просто смотреть за жизнью других людей. Их называли глядящими.
Выученный душевный эксгибиционизм приучил стримеров не стесняться ничего. Когда ты выворачиваешь наизнанку свои чувства за деньги, дальше ты уже не упадёшь, поэтому трансляция повседневной жизни даже не воспринималась как работа. Камеры были просто частью интерьера. Из нескольких десятков людей, живущих с ним в одном здании, один только Инцелл стеснялся постоянного наблюдения и по возможности отворачивался, когда ел, ходил в туалет или расслаблялся. Даже когда он просто чистил зубы, ему казалось, что где-то там, за спрятанной точкой объектива, кто-то смотрит, как он это делает. На него давила мысль о том, что кто-то всё время смотрит на него – кто-то, кого он не знает и вряд ли захотел бы узнать, встреться глядящий ему. При том, что он, в отличие от Степаны и других, не делал ничего, что могло бы заинтересовать их.
После пары лет жизни в этом месте работа стала для Инцелла делом более насущным, чем повседневность. Именно в моменты работы над своей подушкой он жил по-настоящему, мир вокруг был молчаливым, непонятным и глухим.
Стрим подушки – звучит просто. На самом деле, для хорошего стрима требовалось высочайшее сосредоточение. Чтобы представить бабушкину подушку, он садился в старое крутящееся кресло и крутился в одну сторону, вводя себя в лёгкий гипноз. Отзывы глядящих всегда концентрировались на его лице – кому-то оно казалось смешным, кому-то уродливым, но все сходились в том, что в моменты наибольшей концентрации Инцелл напоминал человека с каким-то синдромом, тормозящим интеллектуальную активность. Ему было мучительно стыдно от этой мысли. Но и тут, среди бедных, как ни странно, пики просмотров в такие моменты у Инцелла были выше, чем у той же Степаны, которая устраивала откровенные шоу со своим телом, стараясь тем самым угостить эмоциями не только элитных сенсиков, но и глядящий плебс. Инцелл умудрялся испытывать стыд и за неё.
Поужинав, Инцелл шёл по извилистым красным коридорам с высокими потолками, запирался в своей комнате и усаживался в засаленное блестящее кресло со стёртыми подлокотниками, прикладывал к бритым вискам мягкие гелевые подушечки, в сердцевине которых блестели крохотные усилители – они соединяли его имплант с мощным ретранслятором на крыше, зажмуривался до цветных кругов и начинал крутиться на своём стуле. Волнами, будто разматывая верёвку, он вспоминал свои детские ощущения, пропуская через себя как можно больше необязательных деталей – они помогали погрузиться в требуемое состояние. Несмотря на регулярность этих процедур, он каждый раз волновался. Волнение одновременно делало каждый стрим уникальным, потому что обостряло транслируемые чувства, но было в нём ещё кое-что, чего лучше было не допускать в стримы. Это был страх, что скоро он не сможет найти в себе нужные струны и не сможет спуститься на нужную глубину, чтобы дать сенсикам то, чего они хотели.Такой момент будет означать резкое понижение его доходов, что откроет прямую дорогу в старшаки.
Но пока у него всё получалось, и, дойдя до нужного места в памяти, он мог почувствовать мягкое прикосновение плотной ткани к виску и щеке. Потом – соприкосновение всё большей поверхности кожи с податливой поверхностью пухлой подушки. Уютная прохлада обхватывала и принимала его голову, оборачиваясь полукругом – от подбородка до макушки. Отдав свою свежую прохладу, набитая мягким пухом, гостеприимная, упругая поверхность впитывала тепло тела и уютно держала голову, убаюкивая, лаская, настраивая на сон.
Но перед сном всегда возникает это сладкое чувство, когда ты лежишь и смотришь в темноту, безнаказанно мечтая, отдаваясь самым сокровенным, несбыточным фантазиям. Не тем, что мы называем планами, а тем лишь, что мы сами считаем несбыточными, может, даже запретными. И этот уют, и эта безнаказанность, и комфорт темноты – не той, из которой за тобой кто-то наблюдает, а той, которая скрывает тебя от чужого присутствия, обволакивают, погружают, забирают.
Выныривая из трансляции, Инцелл почти слышал тягостный вздох своих сенсиков. Их было много, и они платили огромные деньги за его подушку. Возможно, он мог бы заставить себя вести стрим подольше, но понимал, что достаточность есть следствие контраста с дефицитом, поэтому не позволял себе уходить в эти ощущения слишком надолго.
Обычно после стрима Инцелл принимал паровой душ и сразу ложился спать. В душ идти не хотелось, потому что состояние, в которое он погружался, настраивало на сон его самого, но он всё же различал стрим и реальность и заставлял себя выполнить обязательные гигиенические процедуры.
Лёжа в кровати, он действительно предавался мечтам. Он не мог бы сказать, считает он их реальными или нет, в полудрёме не хотелось делить мысли на категории. Он фантазировал о доме на опушке леса, рядом обязательно должно быть чистое озеро. Степана была в этом доме вместе с ним, а в той же местности, неподалёку, живут его родители и бабушка. У них всё есть, они всё такие же, какими он их запомнил.Там никто не смотрит через камеры, не считает глотки воды и не измеряет полезность каждого вдоха. У этих фантазий не было начала и конца. Он не знал, как он там оказывался и каким образом рядом с ним оказывалась Степана. В реальности её стримы стоили гораздо меньше, чем его, так что её откуп был намного дальше от них по времени, и был риск, что она потеряет мотивацию и вообще не сможет откупить себя из московской каторги. В мечтах о таких вещах не задумываешься. Инцелл также не хотел задумываться о дальнейших шагах, о том, как будут жить их дети, и что они тоже будут вынуждены отправить их в Москву, заниматься стримами. Все желания – о том, что они вместе и счастливы, – сливались в единое пятно всеобъемлющего благоденствия, и Инцелл растворялся в обыкновенном сне, который никто не видел.
Глава 2
Инцелл проснулся, когда у остальных уже был обед. Он мог себе это позволить. На этот раз обошлось без головной боли, которые были частым его спутником и, хотя имплант быстро купировал боль, тело в такие дни оставалось болезненно раскоординированным, а сознание – вялым.
Паровой душ не бодрил после сна. Мытьё происходило под паром при помощи плотной салфетки, поэтому душ всегда был тёплым. Конденсат собирался и направлялся на очистку. Правда, было не совсем понятно, зачем пить и мыться восстановленной водой, если здание стоит прямо на берегу Москвы-реки, но краткие ролики объяснили им, что так нужно для экологии.
По дороге в столовую он услышал громкие выкрики «Эврика! Эврика!» – так Степана обозначала пик стрима, чтобы не только сенсики, но и глядящие поняли, что сейчас у неё произошла кульминация. Она не говорила, почему выбрала именно это слово, может, ей просто нравилось, как оно звучит. Она пользовалась этим словечком и в менее подходящих контекстах, так что все уже привыкли.
Кормушка, как они называли аппарат для выдачи еды, выдавила из себя самое частое блюдо – комкастую кашу, которая запахом подозрительно напоминала то, что капельками повисало у него на пальцах, когда он набирался смелости и позволял себе расслабиться под струёй горячего пара.
Каша из свернувшегося белка была постоянным гостем тарелок, за исключением определённых дней в году. Инцелл не понимал, почему именно в эти дни им давали что-то другое, но предполагал, это было как-то связано с праздниками из прошлого. Хотя, если судить по белковому привкусу, все остальные блюда были сделаны из того же субстрата, что и каша.
Помимо голода и других естественных нужд, у стримеров была ещё причина ограничивать стримы по времени. В реальной жизни рутинизация и привыкание подтачивают и размывают остроту восприятия мира, делают его пресным и скучным, но то же самое происходит и со стримами. Чем чаще и дольше стримеры ведут свои трансляции, тем ниже их качество, а значит, меньше денег, и шанс откупа из Москвы переносится всё дальше и дальше в неопределённое будущее. В какой-то момент оно становится таким далёким, что стример теряет мотивацию и перестаёт работать. И, по слухам, оказывается в подвалах этого здания. Инцеллад уже почувствовал, что входить в нужное состояние стало труднее, чем в первые недели. У него ещё было достаточно времени для того, чтобы оставаться в высшей лиге и зарабатывать хорошо, но время работало против него.
Он встал, потянулся, тряхнул головой. Это кресло, эта комната, его жизнь – всё не его, чужое. Даже его разум не совсем принадлежал ему – туда за деньги заглядывают люди. Он понимал, что это порядок вещей, что плата за выставление своих сокровенных воспоминаний напоказ поможет откупить себя и встретиться с родителями, уехать отсюда – на природу, где много зелени, где есть вода в достатке. Это поддерживало, вело вперёд. Но было так тошно! Иногда казалось, что он продаёт не стрим, а себя по кусочкам, начиная с самых мягких и тёплых.
Инцелл вышел из личной комнаты и направился в столовую. Минуты, проведённые в трансляции, сжигали дневной запас калорий.
Он взял поднос, поставил на него миски, подвинул их к пищевым краникам, торчащим из кормушки, и стал дожидаться запекания пищевого геля до нужной кондиции, то есть до состояния комкастой полупрозрачной каши, присыпанной усилителями вкуса.
В столовой было не так много людей, поэтому среди фонового шума явно выделялось чавканье одного парня. Он делал это нарочно – специально для блохастых, как тот называл глядящих. Такое пренебрежение к людям, от которых зависела скорость его откупа, удивляло Инцеллада, но ещё больше его удивляло то, что люди продолжали наблюдать за его жизнью и платили буквально за то, что их оскорбляют.
Инцелл ненавидел эти звуки. Ненавидел настолько, что всё лицо, включая глаза, наливалось кровью, и он, пользуясь мощным воображением, представлял, как унижает чавкуна, бьёт его по лицу и заставляет есть с пола, чего он и заслуживал, потому что только свиньи, по мнению Инцелла, способны издавать такие звуки. Каждое причмокивание отзывалось в голове глухим ударом, будто кто-то изнутри пощёлкал по его барабанным перепонкам пальцами. Это было в рекомендациях для низкоуровневых стримеров – каждый поступок должен быть выкручен на максимум. Большую часть Инцелл не видел, потому что мог позволить себе запереться в комнате, но по правилам есть он был обязан в общей столовой – чтобы полностью не отрываться от коллектива, и, как назло, у него была сильно выраженная мезофония, заякоренная на чавканье.
Человек не просто жевал, широко раскрывая рот и причмокивая, он, даже держа губы сомкнутыми, натягивал их почти до середины переносицы, чтобы те, кто подсматривал за ним, преисполнились чувством сытости и дешёвого удовольствия, которое он излучал специально для них. Это был абсолютный чемпион по свинячьей манере первичной обработки пищи. Инцелл тяжело вглядывался в его лицо, пытаясь понять, осознаёт ли он, насколько отвратительным он был, но вместо этого он увидел другое. Инцелл разгадал секрет особого успеха этого человека в своей категории стримеров. Он не просто не испытывал стыда или неловкости, он искренне получал удовольствие от поглощения пищи. Даже на самых дальних задворках его сознания не мелькало искорки осознания, что то, что он делал, было отвратительно и что это может кому-то казаться таковым. Наверно, именно эта бесстыдная честность и покупалась лучше всего.
– Хорошо живём, – он произнёс это с набитым ртом, и оттуда вывалилось несколько крошек.
– Угу, – ответила Степана, которую Инцелл не заметил, сфокусировавшись на чавкуне, хотя она сидела с тем за одним столом.
Несмотря на неконтролируемый гнев по поводу чавканья, Инцелл подсел к этой компании – столы вокруг были пустые, а им предписывалось держаться вместе, когда они не стримят. Так он объяснил себе то, почему выбрал этот стол.
Он сел демонстративно на противоположном от Степаны конце стола, коротко кивнул сидевшим и уткнулся в тарелку. Хотя так он оказался в непосредственной близости к актёру орального жанра, но сесть за другой стол он не смог. Постоянные колкости со стороны Степаны задевали его и заставляли придумывать способы ответить как можно более едко, и одновременно с этим как раз эти болезненные искры императивно заставляли держаться к ней ближе. Воображение рисовало маленькую, вредную собачку, которая жила с ними за городом, и всегда, когда её звали куда-то, сначала рычала, а потом всё равно бежала за хозяевами
Инцелл жевал кашу и пытался придумать, как бы обратить на себя её внимание. Заранее зная, что будет дальше, а потому краснея и потея, он, проглотив комок каши, сказал:
– Вот бы слетать в космос.
– Ты как всегда – как сказанёшь что-нибудь – хоть вешайся. Как тебе это вообще в голову пришло сейчас?! – мгновенно, без паузы, как будто ждала этого, накинулась на него Степана.
Стало обидно.
– Да вот так. Как-то неуютно всё. Хочется из кожи вылезти, глотнуть чего-то свежего.
– Ну, увольняйся. Чего тут вообще торчать и ныть?
– Да я не ною! – разозлился Инцелл. – Надоела твоя болтовня.
Все прекрасно знали, что альтернативой этой работе была смерть, но Степана всё равно это сказала. Инцелл знал, на что идёт, но это было чересчур. Он посмотрел на неё.
Степана закатила глаза.
– Если у тебя нет широты души и полёта фантазии, лучше молчи. Просто тыкай себя дурацкими штуковинами и ори на всю общагу! – выпалил он.
Ответ прозвучал зло, но он ещё не успел пожалеть о сказанном, как в голову с силой ударилось что-то твёрдое, и мир потух.
Инцелл не помнил, как стёк со стула и ударился головой об пол.
***
Мир вдавился в мозг выпуклой линзой – будто рыбий глаз, залепленный слизью, вдруг омыли чистой водой. Инцелл наморщился, инстинктивно ожидая головной боли, но её не было.
Он был в постели. Пахло деревом. Запах был стойким, что указывало на его искусственность. Попытка задёшево создать иллюзию уюта. Тут не было никакого дерева, просто его психологический портрет выдал системе информацию о полезности запаха древесины для его психического комфорта. Инцелл знал, что чем раньше его отсюда выпишут, тем меньше студии придётся за него платить. Автоматические параноидальные мысли быстро утомили его, головная боль действительно начала стучаться сквозь блокаторы. Иногда казалось, что сам имплант подбрасывает ему такие мысли, чтобы заодно проверить целостность его сознания.
Инцелл пошевелил конечностями, они отозвались вяло. Но это было уже хорошо. В вене стоял катетер, торчали трубки. Он ещё раз дал усилие, теперь только в ноги, те послушно согнулись и разогнулись, но при попытке привстать сознание помутнело, поле зрения сжалось, полетели яркие мушки. Только впрыск какого-то вещества через катетер оставил его включённым. Из скрытого динамика раздался голос. Причём, судя по живым ноткам, это был реальный человек – компания не скупилась на лучших аниматоров, пока был шанс сохранить его высокий товарный потенциал.
– Добрый день, Инцеллад Дьюпетарович. Я представитель службы заботы о клиентах Медицинской службы.
«Имени он не назвал», – подумал Инцелл. Мелкая деталь, но почему-то его зацепило. Живой голос должен был дать ему чувство заботы, участия живого человека. Дешёвый трюк. Неужели они сами не понимают, что это отталкивает людей? Или действительно богатые воспринимают такое обращение за чистую монету, и фальшь способны распознать только обитатели дна, как он? Хотя его чутьё могло быть обострено из-за профессии, ведь он сам в каком-то смысле делал то же – менял эмоции на деньги, только тут человек делал это голосом, а не прямой трансляцией.
– Спешу информировать вас о том, что вашему здоровью ничего не угрожает, и вы скоро снова сможете заняться обеспечением своего будущего, – приторная духоподъёмность его слов вызывала злобный зуд, – мы бережно поставим вас на ноги, и уже завтра утром вы сможете вернуться в надёжное и уютное прибежище таких же молодых и талантливых кочевников современности, как вы сами.
Уют и чувство принадлежности к своим. Купиться на это может кто угодно – вопрос лишь в правильно подобранных сатисфаерах для верно определённых зон. А ведь это всё равно работает, даже если ты раскусил словесное почёсывание.
Значит, они не потешные рабы, а талантливые кочевники современности.
Голос продолжал:
– Вы пролежали у нас два дня, Инцеллад. У вас был ушиб левого виска. Гематома немного залезла в мозг, но мы всё поправили. Ткани в порядке. Головокружение, которое вы только что ощутили, – эффект лекарств, а не травмы.
Инцелл решил, что это всё, что ему сообщат, но голос снова заговорил:
– Кстати, к вам тут одна особа направляется. Скоро будет здесь. Мы не хотели её пускать, но она была настойчива.
Ясно, их сканеры показали, что чьё-то присутствие ему будет полезно.
Не желая верить в очевидное, он всё же ощутил свой пульс у себя в горле.
Инцелл очень хотел спросить, кто к нему идёт, но он и так знал, а также знал, что они знают, а возможно, и знают, что он всё равно хочет спросить, и всё же так давило на его эмоции, что он захотел, чтобы от него немедленно отключили все считывающие устройства, вынули из мозга имплант и дали уйти из Москвы как можно дальше.
Палитра эмоций перемешалась и, свернувшись в чёрную дыру, схлопнулась.
Молчание всё ещё висело, как бы приглашая его задать вопрос. Инцелл сжал зубы.
Наконец приторный собеседник проявил себя:
– Наслаждайтесь общением.
Интонация была подмигивающей и тёплой-претёплой.
Звуковой сигнал оповестил о приватности в палате. Мнимой приватности, понятно, но хотя бы тихо.
Инцелл всё-таки решил выбраться из койки. К этому его подтолкнуло не упрямое желание доказать себе, что он поправляется, а понятная биологическая нужда. Из-за лёгкого головокружения тело инстинктивно держалось в полусогнутом положении – чтобы голове было меньше лететь до пола на случай, если придётся падать. Сторонний наблюдатель решил бы, что парень испытывает серьёзную диссоциацию со своим имплантом.
Чуть не лишившись сознания от упорного труда на унитазе, молодой человек снова вышел в пустой коридор. Было пусто и тихо. Крашеные бетонные стены рубленым четырёхгранным рукавом расходились в разные стороны. Показалось уместным наличие хотя бы имитации жизнедеятельности, раз уж о нём так заботились, но единственным источником звука было шарканье его ног. Прислушиваясь к этому ритмичному шуму, который разносился эхом по всему пустому коридору, Инцелл добрёл до середины отрезка между своей палатой и туалетом и остановился. Его вдруг позабавило использование слова «палата» применительно к больничным условиям. В палатах жили цари. И больные почему-то тоже оказались в палатах. Хотя, если подумать, это не так уж иронично, ведь где ещё в эти дни человек может почувствовать себя роскошно, как не в больнице, где о тебе заботятся? Пускай эта забота и находится в строгой зависимости от списанных с твоего счёта цифр.
Но было еще кое-что: тут не было системы повсеместного слежения. Ведь для установки таких систем нужны ресурсы, а они, как всем объяснили в детстве, ограниченны. Возможно, трансляцию жизни больных и вели бы для глядящих с особыми запросами, но деньги на медицину были далеко не у всех, ведь заплатить за лечение означало отдалить откуп. Так что больницы ограничивались системами невизуального мониторинга, вне коек и палат Инцелл был свободен от слежки. Ходили слухи, что глобальные руководители платили немалые суммы, чтобы какое-то время побродить по этим пустым коридорам, хотя зачем это им, Инцелл не представлял. Вообще, чем старше он становился, тем меньше он верил слухам. В последнее время он стал сомневаться в существовании правительства. Правда, тогда повисал вопрос – кто всё это придумал и координирует. На ум приходила только корпорация «Камтек», о которой любили болтать его коллеги. Правда, и это могло оказаться слухом.
За этими мыслями Инцелл не заметил, как музыка чьих-то шагов оказалась прямо позади него. Это была Степана.
Её андрогинное, будто вырезанное в мраморе лицо поразительно контрастировало с резкими, порывистыми, в каком-то смысле мальчишескими движениями. На ней была обычная бесформенная кофта до середины бедра, штанов или юбок она не носила, из-за чего возникала иллюзия, что под нижней частью кофты, едва закрывающей ягодицы, ничего нет. Лицо, покрытое специфическим мультяшным макияжем, было болезненно внимательным – она нервно ловила его взгляд.
– Привет.
– Привет.
Инцелл раздумывал: стоит ли играть в обиду? Он не чувствовал её на самом деле. Была это его бесхребетность или влюблённость в эту невротизированную девушку, сидящую на стимуляторах, чтобы выдавать побольше контента, но факт оставался фактом: он нисколько на неё не злился за то, что она его вырубила. Скорее, было чувство, что он это заслужил, хотя умом он понимал, насколько это глупо.
– Когда тебя выпишут? – спросила она.
– Завтра утром, вроде, – ответил он.
– Можно я с тобой побуду?
– А ты разве не работаешь сегодня?
Это был глупый вопрос. Они всегда работали, но он не знал, с чего начать разговор.
– Ну, я сама выбираю, когда мне работать.
Это прозвучало жалко. Причина этого в том, что слоган «Вы сами выбираете, сколько вам работать и зарабатывать» сопровождал их всё время. Упор был на то, что потолка заработка нет. Но потолок был, и состоял он из двух непробиваемых факторов: двадцати четырёх часов в сутках и человеческих сил. То есть зарабатывать бесконечно нельзя по чисто биологическим и физическим причинам, а ничего, кроме студии, у них не было. Но говорить об этом было не принято.
Они помолчали. Инцелл жестом позвал её следовать за ним. Он не знал, кажется ему или нет, но он кожей ощущал её присутствие рядом, а ещё ощущал её желание поддержать его – он неуверенно держался на ногах и шёл, пошатываясь.
– Как ты сюда попала? – спросил Инцелл. – Ты ведь никогда не была здесь, да и импланты у нас – так себе, твой бы вряд ли довёл тебя.
– Меня сюда доставили.
– Прямо доставили? Просто взяли и отвезли сюда?
– Да. Тот же медицинский транспортник, что и тебя сюда увёз. Ну, не именно тот…
– Я понял. А они что-нибудь сказали?
Ему было любопытно, потому что, на его взгляд, это было уже слишком даже для компании, которая высоко ценит его стриминговые способности. Жизнь в постоянном дефиците делает очень восприимчивым и подозрительным к любым благодеяниям – просто так не бывает ничего.
– Они просто спросили, хочу ли я навестить тебя, ну и…
Её щёки загорелись. Степана, почувствовав это, резанула его взглядом – не смеётся ли он, но Инцелл отвёл глаза, он понял её эмоцию, и ему стало неловко.
– Ну… Спасибо, что приехала.
Они замолчали, и в коридоре слышалось лишь шарканье шагов Инцелла. Говорить было особо не о чем. Они всё время жили друг у друга на виду, знали всё о жизни друг друга, поэтому подобрать тему было сложно. И тем не менее тяга к какому-то взаимодействию была, только они не знали, как её реализовать.
Войдя в палату, Инцелл, кряхтя, лёг на койку. Степана села на край и смотрела в пол. Неловкость стала расти, почти физически наращивая давление в палате. Через какое-то время Инцеллу показалось, что его может выдавить из окна. Он подумал, что Степане наверняка хочется уйти, но придумать тему для разговора он не мог. Вне стримов они не существовали. Остальная жизнь, бессмысленные разговоры в гостиной и за приёмами пищи были приложением к работе стримера.
Вдруг девушка сделала чуть заметное движение. Она осталась на месте, но воображение Инцеллада дорисовало это как попытку придвинуться. Через несколько секунд, как будто набравшись смелости, она действительно придвинулась, оказавшись на середине койки. Потом вдруг она подняла ноги и, скрестив их, уселась так, что её коленка оказалась поверх его ноги.
Первым порывом Инцелла было отодвинуть свою ногу, но он сдержал себя.
Они побыли в таком положении какое-то время. В теле Инцеллада творилось что-то непривычное. Онемение, которое, как он вдруг понял, было его обычным состоянием, рассосалось, внутри оказалось огромное пустое пространство, а в этом пространстве закручивался смерч, который становился тем сильнее, чем больше он концентрировался на ноге девушки, которую от его собственной отделял тонкий слой одеяла.
Степана всё так же смотрела вниз, только теперь была повёрнута к нему лицом. Взгляд упирался куда-то в пространство между скрещёнными ногами, и было видно, что она не знает, куда его деть. И ещё было заметно, что она ведёт какой-то внутренний диалог, как будто что-то хочет сказать ему, но говорит это себе, хотя и не вполне это осознаёт. Будто спорила с собственным отражением, которого здесь не было.
Как красиво было это лицо.
Инцеллад даже не знал, что чувства могут быть физически осязаемы. Он ощущал хаотичные спазмы у себя в глотке и животе, как будто мускулатура пищевода и дыхательных путей рандомно сжималась в произвольных местах. Он не мог оторвать глаз от её лица. Кажется, сегодня она обошлась без стимуляторов, он не мог точно сказать, почему так решил, но почему-то был в этом уверен. Эмоции на её лице обладали большим разнообразием, в них читалась боль и надежда, раскаяние и желание сообщить что-то важное. Такое было невозможно под стимуляторами, они делали все чувства очень яркими и при этом простыми, примитивными.
Желание что-то сказать пропало. Инцеллад пил её эмоции, они смешивались с его. Этого не описать.
Пробуждение чувств, словно прорыв вулкана сквозь мусор, вызывало физические ощущения в теле. Та неловкость от первичного молчания сменилась торнадо, срывающим чешую из кусков непрожитых чувств, бесконечной подавленности и бесцельности их жизни.
Наконец она подняла на него прекрасные синие глаза, будто звёзды, и он увидел в них то, отчего сжалось его сердце.
Они не жили всё это время. Мир не был заинтересован в них. Сидя в этой больнице, два молодых человека поняли, что они никому не нужны и что у них никого нет, кроме друг друга.
Это понимание пришло в голову обоим одновременно – в воздухе будто раздался щелчок. Две одинокие шестерёнки, вращавшиеся вхолостую, соединились и теперь крутились в унисон.
Степана подползла к изголовью его кровати и обняла Инцелла, положив голову ему на грудь.
Инцеллу показалось, что он услышал всхлип. Она плакала, уткнувшись лицом в его одеяло. Он и сам заплакал. Было жаль её, было жаль себя – они словно были узниками в аквариуме, стенки которого не могли разглядеть.
Уставшие от новых для себя эмоций, непереносимых для людей их возраста и мелкой, выцветшей эпохи, оба уснули в объятиях друг друга.
***
Когда Инцелл проснулся, Степана ещё спала. Было темно. Тело девушки лежало на нём практически в таком же положении, в котором она заснула. Конечности Инцеллада затекли, а из-за головы Степаны, сползшей ему на живот, было трудновато дышать. Но ему всё это было приятно. Степана что-то бормотала, Инцелл прислушался.
– «Эврика. Эврика!»
Он улыбнулся – её словечко слетало с её губ даже во сне. Улыбка резко ушла, когда он вспомнил, в каких ещё обстоятельствах она произносила его. Стримы калечили её психику. Это происходило со всеми.
Рассеянный свет попадал в палату через окно. Это было привычно: если оставались силы, многие из них просто смотрели из больших окон студии на тёмные очертания мёртвого города, освещённые звёздами и луной. Электричества за пределами студии не было. По крайней мере, Инцелл так думал, пока не попал в больницу. Как-то раз он залезал в апартаменты, которые были расположены высоко над их студией на огромных белых сваях, оттуда он пытался рассмотреть другие светлые точки в городе. Тогда он убедился, что они одни, больше светлых окон в зоне видимости не было. Ему даже было приятно, что он ошибся, по крайней мере, где-то ещё были намёки на присутствие людей. Точнее, хотелось верить, что люди тут где-то были, ведь больницу не могут держать только под стримеров с его студии. Иначе вся эта медицина выглядела бы слишком дорогой декорацией для кучки живых кукол.
От мыслей об одиночестве и одичания города он плавно перешёл к теме, которая его интересовала больше всего: кто платил за их стримы? Где они живут? На кого работают и чем занимаются? Ведь кто-то установил порядок, в котором они оказались. С какой целью?
И как обычно мысли стали сами угасать, растворяться. Иногда Инцеллу казалось, что так действует имплант, но и это осознание быстро растворялось. Поэтому, когда он подбирался к этим мыслям, его всегда охватывало беспокойство, причин которого он не понимал. Было смутное чувство, что он уже пытался подумать об этом, но к чему в итоге пришло его рассуждение, вспомнить не удавалось.
Когда мысли растворились, он вновь оказался в темноте с проникающим сквозь окно рассеянным светом. Было тихо, лишь один звук не давал тишине стать абсолютной: в погоне за постижением тайны их мироустройства он незаметно для себя стал гладить волосы Степаны.
С чего, собственно, они вдруг стали так близки? В его памяти был свеж эпизод полугодовой давности, когда он робко попытался проявить к ней чувства и её едкие публичные насмешки в ответ. И эта безобразная сцена, когда она кинула ему в голову что-то тяжёлое, из-за чего он и оказался в больнице. Это произошло буквально пару дней назад. Такую перемену было трудно осмыслить. Наверно, где-то в глубине они давно нравились друг другу. Он вдруг ощутил небольшое злорадство к себе из недавнего прошлого: тогда ему приходилось терпеть и отвечать на насмешки, а сейчас он гладит её по мягким волосам. И это было важно, а прошлое – уже нет.
Начало светать. Из старых роликов Инцелл знал, что в это время по дорогам начинали с шумом ездить машины. Сейчас тишину не ломало ничто. Сладкое посапывание Степаны на животе было единственным звуком. Интересно, как бы себя чувствовали родители в Москве сейчас? Наверно, им эта тишина показалась бы пугающей. А ему было хорошо. Рассвет хотелось остановить, чтобы навсегда остаться здесь с девушкой, которую он, по всей видимости, любил, не думая о том, что за ним наблюдают. Он впервые за много лет чувствовал себя не контентом, а просто человеком, который лежит и дышит.
Голова не болела, лечение сработало. Приятные мысли и ощущения разогнала мысль, что он должен выписаться утром. Утро уже наступило.
Неизвестно, как бы сложились их отношения со Степаной, если бы не её удар, но теперь, он надеялся, всё пойдёт иначе.
Он пошевелился, ноги совсем не ощущались – настолько всё затекло. Девушку не хотелось будить ещё потому, что это был её первый нормальный сон за очень долгое время, но нужно было вставать, иначе больница могла начать списывать с него штрафные суммы за нарушение режима, а это отдаляло откуп.
Чёрт.
Он легонько встряхнул Степану за плечи. Та нехотя подняла голову.
– Нам надо идти, – шёпотом, стараясь причинить ей как можно меньше дискомфорта, сказал он.
Девушка спросонья плохо соображала. Состояние после пробуждения от нормального сна было для Степаны чем-то давно забытым, тем более вокруг было почти совсем темно, и воспитанные эволюцией инстинкты говорили, что нужно спать.
– Надо идти, – повторил он.
Не совсем поняв, что он имеет в виду, она всё же оторвалась от него и села на кровати, спустив ноги на пол. Инцелл приподнялся на локтях, спустил ноги и дал им налиться кровью, перетерпев обычный в таких случаях поток противного нутряного щекотания.
Тело было на удивление отзывчивым, медикаментозная кома не прошла даром. Он был в лучшей физической и психической форме, чем когда-либо, не считая почти забытого времени из детства.
Инцелл встал, влез в хлопчатобумажный комбинезон, который дожидался тут несколько суток, взял Степану за руку, и они пошли.
Тёмный, мрачный коридор слегка освещался из окон – так же, как палата. Световые пятна рассеянными облаками свисали со стен, указывая путь к выходу.
Двери больницы открылись легко, как будто за ними приглядывали. Это был барьер, отделявший цивилизацию от запустения улиц. Пустота снаружи накинулась с давящей, физически ощутимой силой. Было бы легче, находись они в поле, потому что городская застройка, рассчитанная на десятки миллионов человек, в отсутствие этих миллионов выглядела как гигантский некрополь.
Молодые люди инстинктивно взялись за руки и пошли в темноту.
Инцелл в детстве очень хорошо ориентировался в полях и лесах вокруг родительского дома. Родители всегда удивлялись его способности выбирать правильное направление, шли они к дому или на грибную поляну. Сейчас Инцелл не смог бы определить направление по солнцу, зато он понимал, что в первую очередь нужно найти реку, а уже идя вдоль неё, они выйдут к зданию, где расположена студия. «Может, как-нибудь вызвать транспорт?» – подумал он, но по-настоящему он этого не хотел. Использование импланта напоминало об их зависимости. Он осознавал, что это глупо, и он подвергает риску не только себя, но и Степану, но его тошнило от мысли, что к нему относятся как к вещи, которую надо двигать с места на место, чтобы она не сломалась. Вещи перевозят в ящиках, людей – в историях. А у него из истории пока что была только стримерская анкета и смазанные воспоминания о жизни на природе с последующим кратким обучением под присмотром робоняни.
За одним пройденным километром тянулся следующий, такой же. Дорожное покрытие потрескалось и местами вспухло, и из этих нарывов торчали пучки жёсткой травы, давая представление о том, что ждёт этот город через сотню лет. На стенах зданий тоже появились признаки деструкции: зияли проплешины в облицовке, а на крышах на фоне света звёзд и восхода торчали деревья. Окна были разбиты, а двери выворочены. Следы активности жителей в период, когда город уже перестал быть городом, а стал просто сборищем случайных людей. Инцеллу вдруг стало не по себе: а вдруг одичавшие люди всё ещё были здесь? Может, те, кому не нашлось места в этой реальности, всё ещё обитают среди этих стен, как тени, отброшенные погибшей цивилизацией в будущее?
Но как всё к этому пришло? По какой причине всё это благоустроенное великолепие вдруг стало никому не нужно?
– Все просто бросили это место, – шёпотом сказала Степана.
Видимо, она наконец проснулась, и её одолевали те же мысли, решил Инцелл.
Ненужными теперь были не только эти здания, но и они все – большинство людей на планете. Где-то в старых обучающих роликах сообщалось, что машины заняли место людей в грязной работе, и у людей освободилось время для творчества. Где все эти счастливые творцы? Инцелл подумал, что с необходимостью трудиться как будто пропала потребность людей в других людях, как будто праздность сделала их лишними в новом типе отношений.Одни научились жить без труда, другие – без смысла, и вторых стало слишком много. Он вдруг очень ясно ощутил, что они со Степаной как раз из этих лишних.
Он остановился. Степана встала вместе с ним.
– Ты что? – спросила она.
– Я просто пытаюсь понять, – он закрыл свободной рукой лицо, потирая большим и указательным пальцем виски.
Степана молчала.
Мысли таяли. Он забывал их, едва они становились хотя бы сколько-то очерченными. Он тряхнул головой.
– Пошли, – Степана потянула его за руку.
Инцелл двинулся, но, сцепив зубы, остановился опять. Он силился что-то понять… Нет, он даже это понял – только что сложил какой-то пазл в голове, но исчез. Не рассыпался, а растаял. Целиком, как будто Инцелл ни о чём не думал. Но он ясно знал, что несколько секунд назад о чём-то очень интенсивно размышлял, это было понятно даже по напряжению в голове и мышцах лица.
– Люди… Люди исчезли, – с трудом выговорил он.
Степана повернулась к нему.
– Стали не нужны друг другу и исчезли. О чём это я… Ммм…
Мышление было болезненно. Он прорывался сквозь какую-то блокаду в голове. Никакой боли не было, но было чувство, как будто он пытается использовать конечность, которая давно атрофировалась, как только что его ноги, когда он вставал с больничной койки, только гораздо хуже. Заученная привычка не думать сопротивлялась, мысли путались, долгая и короткая память растворялись туманом, на который нельзя опереться.
– Ммм… – опять замычал он.
– Что с тобой?
В голосе Степаны звучал сильный страх. Его это укололо. Он увидел себя со стороны – резко остановившегося, схватившегося за лицо.
Но сдаваться он не хотел.
– Да понимаешь… Это же какой-то абсурд. Нам поддерживают жизнь… По идее, это делают какие-то машины. Но машинам не нужна еда и вода. Почему тогда всё так?
– Ты опять?!
– Нет, послушай. Техника должна служить благу людей. У нас, студийных, явно не всё хорошо. Но у тех, кто нам платит, всё хорошо, раз они могут платить, так? Но откуда у них деньги, если всё за всех делают машины? Машинам ведь не нужны деньги. Как они их зарабатывают? Нас держат как… – он не знал, с чем сравнить их положение, потом вспомнил курятник в сарае родителей, – словно кур, понимаешь? Я пытаюсь понять, зачем и кому такое могло понадобиться? Это абсурд, понимаешь? Абсурд!
Девушка молчала. В утренней темноте он не видел её лица, но видел, что она внимательно смотрит на него. Наконец он полностью взял себя в руки, и тогда его настиг стыд. Он только вышел из больницы, они шли в темноте по незнакомым местам, и вдруг он останавливается, начинает кричать. Он напугал её.
– Извини, – сказал он, – просто это важно, понимаешь? Я сам не знаю, почему это важно, но это важно. По-настоящему.
Она молча обняла его.
– Ты всегда таким будешь, – сказала она.
Он помолчал.
– Каким «таким»?
Она молча прижалась к нему.
Инцелл обнял её и погладил по спине. Она ничего не поняла. Да он ведь толком ничего не объяснил, только покричал что-то бессвязное. Хуже было то, что он уже не помнил даже тех обрывочных мыслей, которые пять секунд назад пытался выразить, не то утверждая, не то спрашивая.
– Извини, – сказал он снова, – идём.
Степана одёрнула его и заглянула в лицо. Инцелл улыбнулся и кивнул ей. Она не видела движений его головы и мимики, но догадалась, что он её заметил.
Они шагали по тёмной дороге, иногда спотыкаясь о торчащие куски асфальта. Было прохладно. Они больше не держались за руки, держа их в карманах тонких комбинезонов. Хлопчатобумажный комбез Инцеллада выглядел чуть лучше их обычных, сделанных из целлюлозы, и держал тепло чуть лучше, но от утреннего московского холода это не спасало. Но их поддерживала невидимая связь, плотно протянувшаяся между ними. Степана шла чуть впереди, Инцелл смотрел на неё, и ему было приятно. Она была очень красивой. Это и согревало, и подбадривало.
Двое двигались в бледнеющей темноте, окружённые мёртвыми высокими домами. На улицах было тихо. Два маленьких тела не могли оживить этот пейзаж, они ничего не значили. Но в голове одного из них, выжженные титаническим волевым усилием, бились вопросы, сам смысл которых был не до конца ясен:
«Зачем?» «Кому это нужно?»
«Зачем?» «Кому это нужно?»
Глава 3
У каждого должна быть мечта. Так говорит социальная реклама, которой подбадривают стримеров при появлении суицидальных мыслей. Это абстрактное послание по чьей-то задумке должно вытащить из пропасти городского трудягу, потерявшего перспективу откупа. Но какой должна быть эта мечта? Обычно в плакатиках, транслируемых в мозг, рисовали дом у озера с размазанными по стенам абстрактными рисунками. Такое облучение создавало магнит, тащащий стримера вперёд. Никто не замечал очевидного противоречия, ведь чем быстрее и упорнее стример шёл к мечте, тем быстрее она убегала. Чем больше стримов они устраивали, тем сильнее изнашивались их организмы, снижая качество трансляций и сокращая денежный поток.
Нельзя просто взять и вынести студию на природу. Нельзя подавать в города чистую воду в достаточном количестве. Такое положение дел воспринимается как должное, и никто даже не возмущается этому.
По задумке, они должны были приносить какое-то общественное благо, чтобы накопить на колоссальный экологический сбор. Это тоже принималось на веру, хотя никто не понимал, как перевод собственных денег на неизвестные счета спасает планету. Но какое благо несли их стримы? Инцелл видел, как сгорают его ровесники, сжигая своё здоровье в попытке прищемить себе нервы, чтобы выдать как можно больше сильных эмоций, которые станут для кого-то развлечением на пару минут. Ему повезло – за его стримами признали медицинскую ценность, но общая полезность их работы казалась сомнительной.
Во всём этом механизме присутствовал какой-то элемент обмана, о котором невозможно было думать.. Каждый раз, когда Инцелл устраивал себе мощный мозговой штурм, уже через несколько секунд он забывал всё, до чего додумался, а другие даже не видели проблемы. Анимации поступления новых денег стимулировали сжигать себя дальше, и все, даже сам Инцеллад, заглатывали наживку. Все его значительные прорывы в больнице и во время прогулки со Степаной до студии канули в Лету. Они жили как будто в игре с автосохранением, только сейвы кто-то постоянно стирал.
Время шло, наступила очередная зима. Панорамные окна студии впускали белый свет, отражённый от снега, толстым слоем закрывшего всё видимое пространство. Даже лента реки зарылась в покрывало так, что берег нельзя было отделить от затянувшегося льдом потока.
Занятый мыслями об окружающем мире и попытками подавить ярость от чавканья за их столом, Инцелл сидел, пережёвывая комочки белковой каши.
– А вот ты как думаешь?
Инцелл медленно пережёвывал свою порцию, смотря в одну точку, но инстинкт подтолкнул его посмотреть вокруг. Все смотрели на него.
– Что? – спросил он.
Главный чавкун махнул рукой.
– Как всегда. Мы тут разговаривали на твою любимую тему. Как думаешь, зачем люди нам платят за нашу работу?
Инцелл сморщился. Это не было его любимой темой, а вопрос казался глупым. Но он вежливо ответил:
– Если кто-то готов платить за эмоции, значит, этот кто-то испытывает их постоянную нехватку, так?
– Ну, наверно, так, – подтвердил собеседник, неестественно громко причмокнув, поглощая последнюю ложку каши.
– Лучшего объяснения у меня для вас нет. Люди ведь просто так не расстаются с деньгами, так? У меня вот не бывает мыслей потратить их на что-то, кроме откупа. Мы корчимся, значит, кому-то это нужно.
Эта мысль пролетела мимо ушей собеседников, но их заинтересовало другое.
– А на что бы ты потратил свои деньги?
Вопрос Чавкуна ударил Инцелла в череп. Он задумался.
– Да как будто и не на что, – пожал он плечами. – Нам ведь ничего и не предлагают купить.
Ещё одна странная вещь. А ведь действительно, никто им ничего не продавал, кроме личной свободы. Что-то остаточное шевельнулось в его мозгу: ведь раньше, наверно, деньги можно было тратить как-то иначе, а не только на откуп.
– Вы не помните, – спросил Инцелл, – когда вы жили с родителями, они покупали что-нибудь?
Все, кто сидел с ними за столом, переглянулись.
– Эм… – промычал кто-то: – н-нет. А зачем? Вот странный ты человек, Инцеллад. Вроде не глупый, медлицензия есть, а поговоришь с тобой – одна ерунда в голове. Ну если у нас даже в Москве всё есть, то уж там на природе-то и подавно всё было. Зачем что-то покупать?
Инцеллу нечего было отвечать. Логика вопроса была до зубного скрежета безупречной. Но опять, тут явно было что-то, чего никто не видел. И он этого тоже не видел. Ответ как будто лежал перед ними на столе, рядом с мисками, но был прозрачным.
Инцелл напрягся, пытаясь что-то вспомнить. Он знал, что всё забудет, но сам навык концентрации, не связанный со стримами, отпечатался в его подсознании, так что, если он хотел что-то вспомнить или о чём-то подумать, то знал, как к этому подойти.
Серьёзно сосредоточиться мешал галдёж в столовой, но случай был не слишком срочным. Между бровями свело, он прикрыл глаза и попытался нырнуть в детство. В свалке памяти закрутилось что-то про отпуска и больничные, но он понятия не имел, что означают эти слова. Наверно, он слышал их от родителей, а может, от бабушки, но всё было не то. Деталей обмена с внешним миром он не вспомнил и сдался. В конце концов, сейчас на его жизни эти знания никак не скажутся. Инцелл отцепился от своих далёких воспоминаний, и имплант тут же всё стёр. Память щёлкнула, как выключатель, и в голове стало сухо и пусто, и… Легко.
Степана тоже была в столовой. С тех пор, как они вернулись из больницы, она стала молчаливой, замкнулась и не участвовала в разговорах. Казалось, её привычная искристость забилась в самый дальний угол и больше не решалась высунуться. Раньше Инцелла всегда ждал колкостей с её стороны, но теперь он нервничал из-за того, что с ней происходило.
Что именно происходило, он не знал, но предполагал, что это как-то связано с имплантом. Она, как и он, пережила непривычные для себя эмоции, и это могло послужить спусковым крючком для коррекции памяти. Раньше он никогда не замечал, чтобы стирались воспоминания из обыденной жизни, но предполагал, что это возможно – почему нет, если они могли проделать это с их детством. У Степаны, в отличие от него, и детства-то не было кому вспоминать – про родителей она почти не говорила.
«Они? Кто они? И зачем это нужно?»
Его тряхнуло как от удара током. Поток мыслей оборвался.
Что-то со Степаной.
– Степана! – неожиданно крикнул он.
Все замолчали и посмотрели на него. Степана не подняла глаз от тарелки, которая уже была пуста.
Инцелл встал, подошёл к ней и предложил пройтись с ним.
– Куда ты хочешь идти?
Голос и даже сам вопрос сообщали, что её состояние с момента их прогулки от больницы до студии сильно изменилось. Трансформация произошла за пару дней. Сначала она перестала на него смотреть, потом стала сторониться.
– Не знаю, давай просто пройдёмся здесь, по студии.
Все смотрели на них, Инцеллу было ужасно тяжело.
Степана встала, Инцелл протянул руку, но она обошла его и быстро вышла из столовой.
Присутствующие заулыбались, стали перешёптываться, кто-то хихикнул.
Инцелл прикусил щёку. Он тоже вышел из столовой и направился в свою стримерскую. Он лёг на кровать и задумался об их будущем. Почему-то он никогда раньше об этом не думал. Ведь если они успеют откупить себя до творческого иссушения, когда их стримы станут никому не нужны, кроме самых бедных, как они найдут друг друга за пределами этой студии? Но он понимал, что это невозможный вариант событий. Математика была против этого – он просто откупится раньше, а Степана останется тут. Эта поразительно ясная мысль пришла именно в момент яркого эмоционального волнения, как будто туман, который гасил их сознание, развеивался только в моменты, когда они испытывали сильные чувства. Не примитивные ощущения, как когда кто-то транслировал эротическое переживание или вкус на большую аудиторию, а сложное, глубокое чувство.
Он поднялся с кровати. Подростковая психика требовала немедленного действия, он не знал, как ещё он может разрешить их ситуацию, поэтому решил заняться тем, что умеет лучше всего, – начать стримить в необычное для себя дневное время, несмотря на риск приближения творческого иссушения.
Сев в потёртое кресло, он огляделся вокруг. Было светло, он встал, закрыл жалюзи – так привычнее. Теперь можно было сосредоточиться. Интерфейс принял сигнал о том, что он готов стримить, и разослал его сенсикам. Инцелл немного подождал, пока те соберутся на его стрим. Было даже интересно: ведь он не знал ничего о мире тех, кто принимал его подсознание в себя, а смена времени могла кое-что сказать об их распорядке дня. Система показала обычное количество сенсиков. «Значит, они могли подключаться в любое время», – понял он. В углу зрения вспыхнули знакомые цифры подключений и тонкая полоска донатов, ползущая вверх.
Обычно глубина его погружения в уютную комнату с кроватью и любимой подушкой объяснялась просто: он действительно хотел спать. На этот раз он сильно хотел как-то помочь себе и Степане вырваться из этого состояния, непонятно кем и как созданного для них. На секунду появился страх, что он не справится, потому что условия и мотивация на этот раз были иными, но он отбросил страх и приступил.
Начал, как обычно, с самогипноза: насильно поддерживая состояние между сном и явью, он оказался на тонюсенькой ниточке подконтрольного почти-сна, которая давала власть над материей первичного и бессознательного. Здесь, на грани сна и яви, Инцелл мог создавать переживание безграничной интенсивности. Но чтобы не потеряться там самому и не увлечь сенсиков в бездну, из безграничного набора образов он сконцентрировался на подушке. Она была не только объектом трансляции, но и якорем. Никто не понимал всего сложного комплекса эмоций и волевых актов в плетении его стрима, но принимающие умы могли наслаждаться конечным результатом. Стрим потёк в Сеть, а оттуда ощущения пошли напрямую в мозг сенсиков. Их разум выключался, и на время они забывали, кто они.
В отзывах на стримы Инцеллада был один повторяющийся мотив: о прикосновении к настоящему. Всё: будущее, прошлое, идеальное и реальное, болезненное и весёлое – всё становилось пуховой подушкой. Вход в это состояние предвосхищался почти оргазмической иннервацией центров мозга, связанных с удовольствием, а потом всё таяло, и реципиенты его стримов теряли себя.
Но эта потеря не была тем же, что при употреблении шума – самоуничтожающегося программного вируса, нарушающего работу нейрочипа и приводящего к разрыву ткани реальности. Потерять себя на подушке Инцеллада означало прикоснуться к чему-то вечному в себе, к некоей истине, которую в детстве ощущает каждый, но в процессе жизни всё больше отдаляется от неё. Погружение в его стрим сворачивало спираль обратно, а не разбалтывало её, как шум, оно возвращало к исходной точке индивидуального бытия. Через мягкую уютную подушку миллионы людей, готовых заплатить, возвращались к истоку своего существования, словно становясь беззаботными детьми.
Это приносило ему огромные деньги. По неизвестно кем написанным правилам, после откупа на стримера налагался запрет на эту деятельность, как им говорили, из-за невозможности разместить вне города мощные усилители сигнала имплантов. Таковы были официальные экологические требования.
Но сейчас это было неважно. Инцелл создавал, испытывал и транслировал ощущение уюта, безопасности, чего-то бесконечно родного и всепринимающего. Он делал это так долго, что на подкорке заплясали искры предупреждений о мозговой перегрузке, но он не хотел сейчас задумываться о проблемах и ограничениях этого мира, о том, что он сейчас сидит в комнате старого и неоднократно перестроенного здания, в чужом пространстве, выполняя работу на неизвестных ему людей, что он желал таким образом спасти себя и любимую из сырого, серого ада, где их участь была предрешена неизвестными силами, с которыми ничего нельзя было поделать, потому что он даже не знал, что это за силы.
Он просто хотел ощущать тёплый древесный запах родного дома, мягкий пух белой подушки, приятно поскрипывающей в ухо при движении головы, вдыхать слегка щекочущий ноздри воздух и быть в полной уверенности, что никто за ним не следит.
Глава 4
У ментального стримера есть около двух лет пиковой мощности переживаний для хороших продаж, потом воображаемые образы теряют в резкости, и острота ощущений падает. Падение качества трансляций ведёт к уменьшению количества сенсиков, а вслед за этим пересыхает денежный поток. Инцелл понимал, что с возрастом чувственность становится сложнее и глубже, но всё это не делает стримы более привлекательными. Первая молодость – вещь абсолютно уникальная, и этот период никогда уже не повторится вместе с остротой его переживаний. Около восьмидесяти процентов откупных успешный стример зарабатывает за первый год, оставшееся он может собирать десятки лет, опускаясь сначала до визуальных стримов, а потом и до чавкунов. Эти люди жили надеждой, что до подвалов под студией очередь не дойдёт, но все подспудно понимали, что именно там они и окажутся.
Иногда стримеры рассказывали друг другу байки про тех, кто попал в старшаки – повзрослевших стримеров, которые не смогли откупить себя и живут где-то в подвалах под студией. В разговорах никто не показывал, что всерьёз верит в эти истории, но в глубине все осознавали, что в этом нет ничего невозможного. Никто не хотел становиться старшаком, эта участь была слишком ужасной.
На последнем стриме он заработал очень много. Инцелл посчитал, и выходило, что с таким доходом он накопит на собственный откуп всего через четыре месяца. Цифра была головокружительной, потому что, по его прикидкам, пик его способности стримить будет пройден через полгода, а после… После – стагнация.
Через четыре месяца он уже мог бы оказаться вне этих стен, раньше он был бы на седьмом небе от этой мысли… Но в нём что-то изменилось, и теперь он хотел забрать с собой Степану. Инцелл представил её беззубой, со сморщенной кожей, почти слепой и, что хуже всего, лишённой разума. Он не видел реальных последствий долгого приёма стимуляторов, но представлял жизнь в долге именно так. Мысль о том, что она может превратиться в одну из тех легендарных подземных фигур, выворачивала ему желудок.
Новая мотивация подняла его доход, но надолго ли?
Главной проблемой была даже не сумма на двоих, думал он, а то, что он даже не знал, можно ли откупить кого-то ещё. С момента, как их отправили сюда стримить, информации от внешнего мира у них не было, кроме доступа к ограниченным банкам данных. Никто из людей или хотя бы чего-то вроде робоняни не выходил с ними на связь, так что они не представляли, кто за ними приглядывает и приглядывает ли вообще. Иногда казалось, что студия управляется сама собой, а они просто болтаются в её кишках, как случайные объедки.
Любая информация могла бы помочь ему вытащить его со Степаной отсюда, но взять её было неоткуда. Тогда он решил поговорить с девушкой.
Инцелл протопал по красным кирпичным коридорам до её полуоткрытой студии, оттуда раздавались резкие выкрики, она фальшиво эмоционировала и несмешно шутила. Инцелл сел на пол, облокотившись на стену, и стал терпеливо ждать. Хотя Степана делала это напоказ, ему было ужасно неловко за неё, он испытывал стыд за другого человека. Каждый её наигранный визг резал по ушам сильнее, чем чавканье в столовой. Он прождал полный сеанс, длившийся неполных два часа, дождался крика «Эврика! Эврика!». Инцелл подождал ещё немного, давая ей одеться и прийти в себя, и вошёл в студию.
Помимо Степаны, тут было ещё несколько человек разных полов. Раньше он не обращал на это внимания, но сейчас его это больно укололо.Мысль о том, что для чужих стримов у неё всегда находилось время и место, а для простого разговора с ним – нет, причиняла боль.
– Можно тебя на пару минут? – спросил он.
Степана кинула на него беглый взгляд. Эта секунда и убегающие глаза говорили о её ментальном состоянии больше любых, даже самых резких слов.
Инцелл не уходил, просто стоял и ждал. Степана потянула время, не придумала, как отвертеться, и нехотя потащилась за ним в коридор.
Он прошёл с ней до своей личной комнаты, открыл перед ней дверь и встал, самой своей позой приглашая войти. Степана опять простояла несколько говорящих секунд и наконец вошла.
– Присядь, – предложил Инцелл.
Он неловко махнул рукой, сам не зная, куда предлагает присесть: на свою удобную кровать или на сальный стул для стримов.
– Нет, спасибо.
Инцелл помолчал.
– Я хотел с тобой обсудить кое-что. Я много думал в последнее время. Сначала хочу спросить: ты помнишь, что было в больнице? Как ты пришла ко мне и всё это?
Её лицо выразило мучительное напряжение, Инцелл даже испугался глубины морщин на её коже – явный признак изношенности организма.
Она неуверенно кивнула.
– Я рад, – сказал он, хотя было видно, что, если она что и помнит, то без важных деталей. – Хочу предложить тебе кое-что, но сначала послушай мои доводы. Я знаю, тебе не нравятся мои размышления, но это важно.
Степана стояла и смотрела в пол.
– Я тут посчитал и понял, что я откуплюсь отсюда за четыре месяца, плюс-минус неделя, – Степана вскинула голову, в её глазах мелькнула завистливая жадность. Его резанул этот взгляд – не тех эмоций он хотел в ней видеть, но он смолчал. – Но я не хочу уходить отсюда без тебя. Вот что я хотел сказать.
Взгляд девушки снова переместился вниз. Инцелл не мог понять, что именно она думала, но опасался, что она сейчас считает его дураком, и что с удовольствием откупилась бы отсюда без него. От этой мысли внутри стало пусто, как в студийных коридорах ночью. Он сглотнул и продолжил:
– Не хочу оставлять тебя тут. Проблема в том, что я не знаю, как действовать: нам сказали, что мы откупаем себя, но что, если мы можем как-то помогать друг другу? Об этом ничего нигде не сказано. Ты что-нибудь помнишь?
Степана опять собрала глубокую морщину на лбу, постояла так секунду и помотала головой.
– Я уверен, что никто не знает. Нам надо как-то это узнать.
– Как? – её голос звучал неохотно, как будто она предпринимала большое усилие, чтобы заговорить.
– Я хочу сходить в Управу. Ты помнишь, что это?
Степана поморгала. На этот раз она молчала чуть дольше, но в итоге опять отрицательно помотала головой.
– Странно. Я не уверен, но, кажется, так раньше называли органы власти в Москве.
– Это ты в нашем инструктаже такое нашёл?
– Нет, в большой Сети, – сказал Инцелл.
– Ну там может быть что угодно, любая чушь.
Инцелл поднял руку, как бы оправдываясь и одновременно останавливая её возражения.
– Я понимаю твои сомнения, я бы тоже засомневался, но просто поверь, я потратил на поиск и проверку этой информации очень много времени. Там нет галочек верификации, как у стримеров, но очень много источников указывает, что многие вопросы решались раньше через Управу. Я хочу обратиться туда. Пойдём со мной.
Степана смотрела на него как на мираж. Тот мир, в котором он жил с детства, по-прежнему был для неё реальностью, а вещи, о которых он сообщил ей, были сном. Из тех, после которых просыпаешься и решаешь, что лучше в них не возвращаться.
– Послушай, я тебе говорю, мы должны уйти! Потому что… Слушай, я тут понял, что нет никакого откупа, мы отсюда никуда не уйдём. Я не знаю, может, раньше это и было возможно – когда в мире ещё оставались какие-то удобства, коммуникации. Понимаешь? – он чувствовал, что не вывозит, что его мозг не натренирован вести такие беседы, его память то и дело сбоила, периодически он и сам забывал, что хотел объяснить, злился и начинал тараторить. Слова выбегали вперёд мыслей, путались, сталкивались и конфликтовали как стримеры, метящие в одну аудиторию.
Секундный интерес в глазах Степаны потух. Она слушала его без всякого выражения на лице, и это было хуже всего. Отсутствие реакции пугало больше, чем любое высказанное несогласие. Она не спорила – она просто не воспринимала его слова. Стримы и мечты об откупе были всем, что она знала о жизни.
– Пойдём вместе, прошу. Вспомни, как мы возвращались из больницы, мы тогда почувствовали что-то вместе. Я не знаю… Я как будто стал в разы умнее в тот момент. Наша связь делает нас сильнее, понимаешь? Мы пришли оттуда, опять стали стримить, и мы опять отупели, я опять с трудом сосредотачиваюсь на чём-то, кроме стрима. Это ненормально ведь. Ты ведь тоже что-то подозреваешь?
Он видел, что потерял её внимание. Это ужаснуло его. Инцелл чувствовал, что должен быть какой-то способ пробиться в её сознание, разбудить, заставить вспомнить, но он не владел речью, он бормотал, торопился, сам забывал слова, которые хотел произнести как аргументы, и всё рассыпалось, уходило сквозь пальцы. Как всё в их жизни.
Круг понимания в её глазах стремительно затягивался тиной забвения, Инцелл ожидал, что она посмеётся над ним, скажет, что он дурачок, но всё было хуже.
– Пора обедать, – сказала она. – Ты пойдёшь?
Инцелл стоял, не осознавая, что стоит с открытым ртом. Когда она двинулась вперёд, он не нашёл сил, чтобы остаться на месте, отступил в сторону, и Степана прошагала к двери и ушла.
Выйдя из ступора, Инцелл пошёл в столовую. Там было шумно, как обычно в обед. Отдыхающие стримеры бодро болтали, прибавляя к своей манере общения чуток стримерского лицемерия – для удовлетворения глядящих.
Помимо шумных разговоров, конечно же, раздавалось жуткое чавканье. Это кипятило в нём ярость даже в таком опустошённом состоянии. Инцелл быстро подставил тарелки под кормушку, получил порцию комкастого белка с витаминами, сел за стол, запихнул в себя питательную жижу с привычным привкусом первородного белка, ни на кого не глядя, прошагал к утилизатору, вывалил мусор и вышел из столовой. Он шагал к себе в комнату, пытаясь справиться с атакующими одновременно противоречивыми мыслями: планами по спасению их двоих со Степаной из этой дыры и её непониманием безысходности их положения. В голове крутилась одна и та же петля: «спасти – нельзя остаться», и он никак не мог выбрать правильное ударение.
Инцелл зашёл в свою комнату и обрушился на кровать. Сегодня стрима не будет, он пустил уведомление об этом в свой профиль. Ему нужно было подумать, но попытки хоть за что-то уцепиться, как всегда, встречали сопротивление выученной лени. У них не было ничего, кроме того, что им объяснили. Ему предстоит самому проложить пути, по которым он будет узнавать этот мир и пытаться взять хотя бы собственную жизнь под свой контроль. Инцеллад был уверен, что это поможет ему спасти и Степану. Мысль о том, что за неё, в отличие от него, некому переживать, только подогревала его упрямство. Последнее, что он понял, прежде чем сон отключил его разум, – это то, что переменить мир, действуя в рамках чьих-то чужих правил, не получится. Для экстраординарных перемен в жизни требовались экстраординарные меры.
Глава 5
Утро не слишком ярко осветило комнату Инцелла. Он открыл глаза в полутьме, запросил время и, как всегда в зимние дни, удивился, что несмотря на близость полудня было очень темно.
Инцелл поднялся с кровати и подошёл к окну. Московские зимы и так не баловали солнечным светом, но в снегопад его было настолько мало, что в помещениях приходилось включать лампы. Обычно на стекло налипали крупные узорчатые хлопья, нагревшись, они быстро таяли и стекали вниз, образуя ледяной надолб, спускающийся вниз острыми сосульками. Сегодня всё окно было закрыто снегом. Инцелл отметил, что в комнате слишком холодно: он понял это не сразу, а только постояв перед окном несколько секунд. Пол и воздух были ледяными. Он пошёл в душ.
Встав на душевую платформу, Инцелл нажал на кнопку, но ничего не случилось. Воду им отключали и раньше, но обычно это было ненадолго, и в любом случае после нажатия на кнопку подачи воды раздавалось шипение. В этот раз не произошло ничего. Инцелл прошлёпал босыми ногами до раковины, чтобы выпить положенные утром сто граммов воды, но холодной воды в трубах тоже не было. Он вышел из душевой.
В отсутствие электричества получить одежду становилось серьёзной технической задачей. Инцелл изучал устройство их аппаратов по выдаче одежды раньше и знал, что следующий комбинезон формуется заранее, так что дело было за малым – снять крышку аппарата и достать смятый и жёсткий комбез, мягкими их делала паровая обработка прямо в момент выдачи.
В гостиной было оживление. Инцелл ожидал чего-то подобного, потому что полное отключение коммуникаций было чем-то новым в их жизни, хотя, похоже, никто не отнёсся к этому серьёзно. Почти вся гостиная была забита молодыми голыми телами, стримеры по привычке вели себя так, будто за ними наблюдают, хотя было очевидно, что из-за отсутствия электричества камеры и усилители сигнала имплантов не работали.
Потирая руки, Инцелл глазами искал в этой толпе Степану. Возможно, сейчас был лучший момент, чтобы поговорить с ней. Раньше таких долгих отключений не было, и он надеялся, что их зависимость от внешних факторов заставит её передумать насчёт похода в Управу.
– Принесите сюда пледы! Всё тёплое, что найдёте! – крикнул он громко, чтобы перекрыть шум возбуждённых молодых голосов.
Ожидаемо кто-то обернулся на него, чтобы посмотреть на нарушителя стримерской гармонии, но никто никуда не пошёл.
Инцелл залез на стол и проорал:
– У нас нет электричества и воды, если их в ближайшее время не вернут, мы тут все умрём!
Он специально выбрал слово «умрём» вместо «замёрзнем», потому что слова из негативного спектра были запрещены для стримеров, ведь это отпугивало клиентов, а значит, понижало заработок.
Все тут же замолчали и посмотрели на Инцеллада.
– Оденьтесь. Вскройте аппараты по раздаче одежды и наденьте комбезы. Берите всё тёплое тряпьё, какое найдёте, и несите сюда, вместе теплее.
– Чего ты суету наводишь? – крикнул кто-то.
– Сейчас у нас нет ни воды, ни тепла, ни света. Сколько такое продлится, нам неизвестно, поэтому нужно подготовиться.
Многие хмыкнули, кто-то открыто издевался.
Инцелл жадно ждал голоса Степаны с едкой шуточкой, но не слышал его.
Он попытался снова:
– За этими стенами – метель, – сказал он, – всё отключилось уже довольно давно, потому что в студии уже холодно. Правильным было бы сохранять тепло как можно дольше, чтобы повысить свои шансы…
Он замолчал. Начиная свою речь, он сам не осознавал, куда она его заведёт, насколько далеко – к осознанию их положения.
– Мне кажется, это что-то серьёзное, – сказал он. – Раньше таких долгих отключений не было, и обычно нам на импланты прилетали уведомления. Кто-нибудь получал их в этот раз? Я – нет. И думаю, что никто не получал. И выхода в Сеть через импланты у нас теперь тоже нет.
Он видел, как их лица, повернувшиеся было к нему, белеют и отворачиваются. Инцелл вызывал в них отторжение, потому что срывал иллюзию нормальности. Он испытал странное чувство. Оно чем-то напоминало многократно усиленную ноту сложных чувств, которые он испытывал, разговаривая со Степаной в последнее время, но сейчас это было отчётливо. Инцелл чувствовал удивление. Ведь это очень странно: тратить свои силы, чтобы заставить людей действовать в их собственных интересах, преодолевая их же сопротивление. Только со Степаной это чувство тонуло в других, потому что она была дорога ему, и он был готов тратить много усилий, чтобы убедить её, здесь же ему было гораздо проще отступить. Получалось, что спасать тех, кому на себя наплевать, – отдельный разновидность бессмысленной деятельности.
В резком приступе раздражения он сказал:
– И прекратите уже вести себя, как будто за вами смотрят, в этом здании только мы одни!
Он слез со стола и пошёл из гостиной, Степаны тут не было.
Размашисто шагая по кирпичным коридорам, ощущая на коже холодный воздух, Инцелл очень надеялся застать Степану в её комнате. Подойдя к двери, он постучал. На стук никто не отозвался, и он занёс кулак, чтобы постучать снова, но дверь вдруг распахнулась.
Девушка стояла босиком на ледяном полу, завёрнутая в простыню. Инцелл сглотнул.
– Позволь войти, – сказал он.
Девушка сделала пару шагов назад. Простыня прикрывала её от груди до колен, Инцелл уставил глаза в пол, чтобы избегать искушения и не пялиться, но тонкие лодыжки примагничивали взгляд – он не мог преодолеть это притяжение.
– Привет, чего ты? – спросила она, растирая глаза.
– Ты только проснулась? – сказал он удивлённо.
– Да, кто-то меня достал со своими разговорами, и я не могла нормально начать стрим, – она недовольно глянула на него.
Продолжая тереть глаза, Степана отступила вглубь комнаты. Инцеллу стоило огромного усилия не смотреть на обнажённые участки ног, мощная фантазия уже стучалась в поверхность сознания.
Не спросив разрешения, он сел на её кровать. Степана не обращала на него внимания, она одевалась. Когда она подошла к крану в ванной комнате, повисла тишина.
– Воды нет! – крикнул Инцелл в приоткрытую дверь.
Мысль о том, что она могла нарочно не закрыть дверь, завладела его сознанием, поэтому он не сказал ей сразу.
Степана побыла в ванной ещё минуту и вышла, лицо было расстроенным.
– Я как раз поэтому пришёл, – сказал он.
– Давно? – спросила Степана.
– Наверно, с ночи, здание уже остыло.
Он посмотрел на её босые ноги. Пальцы побелели. Степана, услышав, что вокруг холодно, инстинктивно потёрла ступнёй о другую ногу. По-видимому, холода она не чувствовала – отходняк от эффекта стимуляторов, которые сначала повышали чувствительность, а потом она надолго падала.
Инцелл помнил её страх и нежелание вылезать из микромирка, поэтому он поступил очень импульсивно – он резко встал, сократил между ними дистанцию и взял её за руку.
– Нам выключили все системы жизнеобеспечения: нет ни воды, ни электричества, ни отопления. Я собираюсь идти в Управу.
– Ты… Ты собирался пойти туда по какой-то другой причине, насколько я помню. А теперь ты хочешь пойти туда, в такую погоду, из-за аварии? По-моему, ты просто нашёл ещё одно подтверждение своих фантазий…
Инцелл поднял руку.
– Не перебивай! – воскликнула девушка. – Послушай. Ты вбил себе в голову… Я даже не знаю, как это назвать. Ты не глупый парень, Инцеллад, ты талантливый стример. То, как ты думаешь, – это может быть правдой, но может и нет. Ты не в состоянии это проверить. Всё, что у нас есть, – эта студия и заработок, который мы от неё получаем. Ничего более осязаемого у нас нет! Ты беспокоишь себя и окружающих, постоянно рассказывая свои домыслы, побуждаешь людей… К чему-то. Но что именно ты хочешь добиться? Чем твой подход или твоё видение, называй как хочешь, лучше того, что нам уже известно? Ну сбежишь ты отсюда куда-нибудь, и что дальше? Как ты будешь там выживать? Где гарантии, что тебя не вернут силой? У нас в головах импланты, ты не думал, что нас могут по ним выследить? Ты мне нравишься, но я не знаю, что мы можем сделать друг для друга. Я так же, как ты, не понимаю этот мир, но я стараюсь действовать рационально, просто пользоваться теми возможностями, которые нам дали… Те, кто это всё устроил, кем бы они ни были там, понимаешь?
Инцелл прикусил нижнюю губу и слушал. Сначала ему хотелось горячо возражать, но потом он вдруг обнаружил, что по существу ему возразить и нечего. Рациональные доводы были на её стороне. Он дурак. Он думал, что Степана тонула в искусственном забвении и поэтому избегала его, а на самом деле она всё это время тоже думала и делала свои выводы, которые были прямо противоположны его. Она была рациональна. Очень ограниченно, в своих собственных рамках, но рациональна. Его же мысли походили на её стримы: много спонтанности и слишком мало организации.
Зачем он пришёл сюда к ней? Позвать с собой в Управу, чтобы подвергнуть риску и её? Он даже не мог точно определить, что собирался сказать ей, кроме того, что она и так могла заметить: что им отрубили коммуникации.
Она ещё стояла перед ним – босая и почти не одетая, и Инцеллу было ужасно стыдно за свои гордыню и глупость. Он приподнял брови, то ли извиняясь, то ли соглашаясь с её доводами, кивнул и пошёл из комнаты.
Степана не стала его останавливать.
Инцелл размашисто шагал в краснеющем сумраке, думая о своей ограниченности. Он подозревал, что часть его провала была вызвана неуверенностью в себе, неспособностью объяснить Степане свои намерения. Вполне возможно, что существует словесная формула, которая могла бы её убедить. Если бы только он был настойчивее, если бы только он мог держаться под напором чужих аргументов. Ведь Степана явно была неправа, ведь так жить просто нельзя.
Но как это донести?
Он подошёл к своей комнате и с силой распахнул дверь. Если никто не поддержит его, он найдёт управу один. Иначе вся его недавняя решимость рассыплется и превратится в очередной внутренний всплеск, о котором через день никто не вспомнит, даже он сам.
Ещё после их со Степаной возвращения из больницы Инцелла поразило, насколько они беспомощны перед силами природы. Почему-то раньше эта очевидная мысль не приходила ему в голову, хотя на природе с родителями он даже помогал отцу работать на земле. Видимо, в детстве его оберегал опыт взрослых, а после переезда в студию он почти не гулял. Всю следующую неделю после того, как они пришли замёрзшие и в размокших костюмах, Инцелл изучал вопрос защиты от агрессивной погоды. Информации было много, хотя вся она не была структурирована и, видимо, подразумевала, что читающий знает, что такое термосы, толстые носки, мембранная куртка и прочее термобельё, но основная проблема была в том, что он не знал, где всё это достать. Тогда он так и не выяснил, а теперь аппарат для формовки их одежды не работал, потому что не было электричества. Во многих источниках указывалось, что нужно иметь сильный ретранслятор для связи импланта со спутниками. Сейчас у них были только усилители сигнала для стримов на крыше их студии, о переносимых устройствах они ничего не знали.
Но из прошлого опыта Инцелл сделал один важный вывод: необходимо утепляться.
Он походил по комнате. Взгляд постоянно спотыкался о аппарат для формовки комбинезонов. В теории эта машинка могла выдавать одежду любой формы, но всех устраивали стандартные комбинезоны. Ходили слухи о каком-то парне, который делал не вполне традиционные стримы, перепрограммировал свой формовщик одежды и вытаскивал из него разнообразные по форме вещи, но, если это и было правдой, то его среди коллег Инцеллада не было. Может быть, он давно откупился, а может, опустился до старшаков, если они тоже не были слухом. В любом случае, он сейчас не был в состоянии что-то перепрограммировать – аппаратура была мертва.
Инцелл остановился перед коробкой аппарата. Он не очень понимал, как эта штука работает, но, если судить по отсутствию трубок, подведённых к этому ящику, сырьё, из которого делали комбезы, было заправлено внутрь.
Сердцебиение участилось. Инцелл ещё толком не знал, что будет делать, а тело уже действовало. Его руки взяли плоскую верхнюю крышку аппарата и с усилием оторвали её. Обнажились внутренности машины. С чувством, что совершает нечто страшное, Инцелл продолжил вырывать куски металла и пластика, пока не добрался до детали, которая приковала к себе внимание. Это был серый металлический эллипс с клапаном с одной стороны. Он достал эту штуку из разломанного прибора и, не позволяя себе думать, швырнул в стену с максимальной силой. Раздался громкий хлопок, и его щёку обожгло. Но через секунду Инцелл уже лежал на полу, придавленный мощным ударом, так что про боль в щеке подумать он не успел.
Кое-как выбравшись из-под раздувшейся целлюлозной массы, он поднялся на ноги. Оставаться в комнате было невозможно, потому что всё пространство заполнило светло-серое вещество. По-прежнему запрещая себе думать, потому что он знал, что это посеет в нём сомнения, а сомнения приведут к параличу воли, он стал рвать куски материала и запихивать к себе за шиворот до тех пор, пока набившиеся гранулы не начали сковывать движения. В таком виде Инцелл прошагал до гостиной, где прямо сходу выкрикнул:
– У кого-нибудь остались стаканы для воды?
Присутствующие ошалело смотрели на Инцеллада из-под сваленных в кучу пледов. Он стоял в раздувшемся комбинезоне с мраморным лицом, по которому струйкой сбегала кровь, пятная его странный наряд. Но решительность в его взгляде и резкий голос не позволили им воспринять его слова и всю эту нелепую картину как шутку. Молодые люди поозирались друг на друга, один парень поднялся и коротко бросил:
– Сейчас.
Он бегом побежал в свою комнату и принёс оттуда скомканную плотную бумагу.
– Вот, – сказал он, – забыл вчера выкинуть. – Он помялся. – Ну, может, позавчера.
Инцелл забрал комок бумаги, развернул. Это действительно был стакан. Он кивнул, не глядя на него.
– Я собираюсь идти в управу, – сказал он. Видя приподнятые брови и недоумевающие взгляды, он добавил, хотя чувствовал, что не стоило: – Попробую разобраться, что здесь происходит и когда это поправят.
Сам для себя он прозвучал чрезвычайно пафосно, но, видя выражения их лиц, понял, что для них его поступок был очень даже желаем. Ему даже показалось, что в их взглядах было уважение. На секунду он увидел себя их глазами – не странного зануду, а человека, который хотя бы попытался что-то сделать, а не просто ждать на холодном полу.
Инцеллу в этот момент очень захотелось, чтобы среди этих напуганных глаз, смотрящих на него с надеждой, были глаза Степаны, но её здесь не было.
Он направился к выходу из гостиной, прошёл по красно-кирпичным проходам к железной лестнице, переваливаясь из-за наполнителя комбинезона с ноги на ногу, спустился и, оказавшись у железных ворот, остановился. Теперь всё было по-другому. Он точно не мог сказать, как именно, но по-другому. Наверно, впервые в жизни он пытался сделать что-то, спланированное им самим. И цель, которую он хотел достичь, тоже была поставлена им самим.
За секунду до того, как он похолодевшей от страха неизвестности ладонью толкнул ледяную от наружного холода дверь, он услышал беглые шаги, бегущие к нему по металлу лестницы. Он обернулся.
– Ты совсем с ума сошёл?! – прозвенел голос, гулко отразившись от кирпичной каверны.
– Я всё уже объяснял, – стараясь удерживать горловые спазмы, чтобы голос был ровным, ответил Инцелл.
Степана яростно смотрела на него, глаза именно что светились от мощной эмоциональной энергии, которая сейчас плескалась в ней.
– Ты пойдёшь вот так, в такой одежде при температуре минус двадцать, сам не зная, что там найдёшь?!
Вместо глупого «ну да» и пожимания плечами, Инцелл сказал другое:
– Я уже всё объяснил тебе. Ну пусть снаружи минус двадцать, так через несколько часов и тут так же будет, если уже не.
– Прошла всего половина суток! – голос Степаны срывался и непроизвольно играл. – Нам всё починят, в этом всём нет никакой необходимости, – она провела ладонью сверху вниз, показывая на его импровизированную экипировку.
– Я так не думаю. Тут что-то другое, такого ещё никогда не было.
– Ну не было, так вот случилось, почему ты…
– Слушай, я всё решил, я тебя с собой и не зову. Сначала я хотел, но сейчас вижу, что это правда очень опасно. Я уже чувствую, как зад подмёрзает, если честно, а ещё даже не вышел. Просто не хочу сидеть и мёрзнуть тут.
Степана начала говорить что-то ещё, что-то наверняка очень разумное, с чем он не смог бы поспорить, но Инцелл вдруг ощутил очень сильный приступ раздражения. Он не дослушал и не стал отвечать – просто развернулся, отвёл металлический стержень, который держал створки ворот, открыл одну из них и вышел.
Снаружи было свежо. Сильного холода он в первые секунды даже не почувствовал, он почувствовал именно свежесть, как будто избавился от чего-то пыльного и затхлого. Хотя солнце было закрыто тучами, он всё равно зажмурился – на контрасте с мраком входной группы. Когда он открыл глаза, привычный прямоугольник горизонтального здания, парящего на толстых белых сваях, вьющихся как гнездо, закрывал часть неба. Снова, отказывая себе в праве на сомнения, пока они не повернули его обратно, он зашагал вперёд быстрым шагом, который должен был не дать ему замёрзнуть моментально.
Физические тренировки не были в обиходе на их студии, так что Инцеллад быстро сбился с дыхания. Кроме того, из-за непривычно быстрого темпа он задышал ртом, и ледяной воздух приморозил гортань, так что воздуха стало не хватать. Он остановился, опершись о перила на границе набережной и реки.
Пффффф.
Двигаться в таком темпе он долго не сможет, а идти медленно означало быстро замерзать. Инцелл оглянулся. Занесённые снегом красно-кирпичные стены кое-где проглядывали из-под белого покрова, который никто не чистил. Он повернулся и посмотрел вперёд – на реку и дальше. Где именно находится управа, он имел смутное представление, но кое-что всё-таки помнил. Нужно было дойти до четвёртого по счёту моста и перейти его, на противоположной стороне должен был стоять большой белый храм с золотым куполом. Дальше шли путаные улицы, но он надеялся на интуицию, которая не раз помогала ему, когда он плутал по опушке леса на границе семейного участка. Он был благодарен своей памяти, но погордиться собой не успел – порыв ветра напомнил ему о времени.
Было страшновато. Большое бело-серое пространство и бесконечно ползущая куда-то река упорно намекали, что лучше вернуться в студию.
– Ага, сейчас, – сказал в ледяную мглу Инцелл.
Он двинулся вперёд.
Стараясь забыть о холоде, он всматривался в постройки. Большая часть концентрировалась на противоположном берегу. Огромное круглое здание особенно привлекло его внимание. Он мог только гадать о назначении такой постройки. Кому нужно было строить гигантское круглое здание, это так нерационально. Люди прошлого явно не знали, как лучше распорядиться огромными ресурсами, которыми они обладали. Только куда они все пропали?
Дальше был большой стеклянный мост. Он помнил это место, потому что они проходили тут со Степаной, когда возвращались из больницы.
Идя вдоль набережной, он цеплялся за уже виденные им участки пути – это успокаивало. Дальше был каменный мост с навершием из красивых стеклянных панелей с позолоченным обрамлением. Сразу за ним начиналось пространство с неясным для Инцеллада назначением. Он осматривал вагончики и террасы с разбросанными стульями и пытался представить себе их назначение. Это его развлекало. Он пытался поставить себя на место тех, кто сюда приходил, и подключал воображение, чтобы представить себе, чем бы он тут занимался. Это был ключ к поведению людей из прошлого, причём не такого далёкого прошлого, как он знал. Но большая часть зданий, как и огромный цирк, а также предметов и их обломков, разбросанных на большом пространстве после красивого моста, так и оставались для него загадкой.
К моменту, когда он, как он надеялся, дошёл до середины этого странного пространства, он уже не чувствовал ног. Кажется, подошвы отсырели и стали отходить, он старался об этом не думать. Пройдя прямоугольное здание с занесённой снегом надписью «Гараж», он очутился в лабиринтах растений, которые явно были высажены по какому-то плану. Зачем люди это делали, он не представлял, это же неудобно – приходилось петлять, чтобы дойти до какой-то точки.
– Может быть, это и привело к всеобщему безумию, – вслух сказал он, чтобы приободрить себя, хотя сам не верил своим словам.
Кое-как он вышел обратно на набережную. Впереди уже виднелся новый мост, на этот раз не такой красивый и сделанный целиком из металла. За ним опять было очень странно структурированное пространство, но уже не такое масштабное, только справа стояло массивное высокое здание. Он прищурился, разглядел надпись «Галерея».
Мороз уже вовсю кусал пятки, а мышцы ощутимо подрагивали. Он, как мог, ускорился, и опять холод стал грызть лёгкие от быстрой ходьбы. Инцелл заставил себя дышать носом.
Большие открытые пространства наконец кончились, Москва-река раздваивалась, и ровно посередине места расщепления белого русла стояла огромная статуя с плохо сочетающимися элементами, на вершине которой пучил глаза усатый мужчина. Голова выглядела так, как будто её приделали уже после завершения всей остальной статуи, словно те, кто её делал, в какой-то момент передумали и воткнули туда голову другого человека. Дальше вместо открытого пространства были дома, Инцелл прошёл между домами и набережной и оказался под мостом.
– Кажется, это четвёртый. Чёрт, я надеюсь, что это четвёртый.
Он вдруг испугался. Уверенности в том, какой по счёту это был мост, не было. Руки окоченели, а поджилки уже не тряслись, а просто застыли, тело плохо слушалось. И ещё было непонятно, как забраться на этот мост, он проходил над головой и врезался прямо в верхнюю часть здания.
Инцелл свернул с набережной, забрёл в какой-то переулок и сел на ступеньки. Темнота переулка убаюкивала, и он стал засыпать. Инстинкт подсказывал, что лучше подняться и идти через силу, но какая-то другая часть сознания поддакивала желанию поспать аргументом, что ему надо отдохнуть – ведь он шёл так долго.
Снег вокруг превратился в перья, а они стали свиваться во что-то плотное, что плавно вжималось в его кожу, всё сильнее и сильнее надавливая на щёку и висок. Подушка! Узнавание и последующая радость окатили приятной расслабляющей волной, и напряжённый мозг Инцелла вдруг выпустил все логистические заботы. Подушка дарила привычное чувство защищённости и слегка эгоистичной беззаботности, доступной только детям. Правда, на этот раз беззаботность вызывала лёгкое чувство стыда, а прохлада, с которой обычно подушка встречала кожу, постепенно, сменяясь теплом, сохранялась и холодила всё сильнее и глубже. Что-то неприятное крутилось рядом и не давало уснуть, окончательно выключив видение подушки и деревянной стены напротив, – какая-то мысль, что он что-то кому-то должен, что ему надо куда-то дойти и что-то узнать. Инцелл напрягся и последним усилием изгнал это противное чувство, и оно испарилось, оставив после себя только лёгкий след вины. Он вздохнул и выпустил все невзгоды вместе с неглубоким и тихим выдохом.
Удар неожиданно привёл его в чувства, причём буквальное чувство, которое он испытал, было стыдом. Ему было настолько стыдно, что он закрыл лицо рукой и отвернулся. Казалось, что его застукали всей студией, когда он добывал из своего организма белок, пахнущий как их каша.
– Поднимайся! – сказал злой, нетерпеливый голос, не допускающий возражений.
Глаза разлепились с болью – влага смёрзлась, и веки прилипли друг к другу. Инцелл поднял глаза и несколько секунд не верил им. Это была Степана. Что она тут делала?
– Вставай!
Мощная волна стыда снова окатила его. Инцелл встал, покачнулся, но устоял.
– Идём.
Он не очень понимал, где он, поэтому потоптался на месте, а затем всё же вспомнил.
– Нам надо через мост. Но я не нашёл вход на него.
– Он прямо за твоей спиной, – сказала Степана.
Инцелл повернулся. То, что он принял за переулок, было закрытым проёмом лестницы, встроенной в здание. Они поднялись и оказались прямо на том мосту, который он видел снизу.
Инцелл чуть пришёл в себя и осмотрел девушку. Снаружи на ней также был надет комбинезон, но, в отличие от него, она догадалась утеплиться не клочками сырья для одежды, а тканью. Видимо, она взяла что-то из того, что натаскали их коллеги в гостиную. Разумно.
В этот момент в сплошном слое туч образовался микроразрыв, и выглянуло солнце. Оно осветило белый мир, в котором особо отчётливо была видна вьющаяся лента Москвы-реки. Он смотрел в направлении, откуда пришёл, их студии отсюда видно не было, но он удивился, что смог пройти такое расстояние. Тем обиднее было свалиться. Если бы не Степана…
Он повернул голову вправо и слезящимися от мороза глазами увидел торчащие из-под сплошного слоя снега краснеющие участки высоких башен, вырастающих из высоких стен.
Степана была рядом, она с трудом шагала в раздутом комбинезоне, из-под ткани по её вискам вытекали дорожки пота. Было странно видеть человека, которому жарко в этом снежном аду. В голову непроизвольно полезли мысли, что девушка как будто ничем не интересуется, как он, не смотрит по сторонам и не анализирует мир, но он осёкся. Он уже недооценивал её, больше этого не повторится.
Ровно посередине моста, между огромным собором и местом, где он чуть не остался навечно, Инцелл остановился. Степана обернулась.
– Что? – спросила она.
– Что, если в управе никого нет, а мы потратим силы и не сможем вернуться?
– Просто замолчи. Молчи и иди.
Инцелл колебался.
– Это всё твоя идея, помнишь? Лучше бы ты её не озвучивал, – сказала она.
– Правда.
– Лучше бы не озвучивал, потому что ты в общем-то прав.
– Но ведь ты так упорно спорила…
– Да. Но ты просто зануда, и с тобой просто так хочется спорить.
Инцелл быстро подумал и решил, что не будет сейчас разбираться, шутит она или говорит серьёзно.
– Давай уже дойдём до этой чёртовой управы, и я наконец разденусь.
Он пару секунд тупо смотрел на неё.
– Ты думаешь, я всё это на себя, чтобы не замёрзнуть, намотала?
– Ну да, – ответил Инцелл.
Она подняла глаза к небу.
– Подумай ещё, – сказала она, отвернулась и пошла вперёд быстрым шагом. – И шагай быстрее, тащить я тебя не смогу.
Они оказались у подножия белого храма. Огромные бесхозные конструкции, наподобие этой, поражали и подавляли своим масштабом и бессмысленностью. Инцелл со Степаной остановились на несколько секунд и подняли головы вверх, разглядывая скульптуры.
– Как думаешь, каким целям оно служило? – спросила Степана.
– Не представляю. Но думаю, для людей прошлого это здание было очень важно, раз они тратили столько усилий на его украшение.
Пара двинулась дальше.
На этой стороне реки в зданиях было меньше стекла, они выглядели более старыми. Инцелл видел в Сети картинки античных руин, возле которых он был зачат, по словам родителей, эти здания чем-то напоминали те руины. Эти виды вызывали гордость и грусть, потому что напоминали о величии цивилизации, которой больше нет.
Молодые люди остановились напротив выломанных ворот, за которыми стояло здание с полукруглым фасадом. Не сговариваясь, они одновременно сделали шаг внутрь и оказались в поросшем кустами дворе. Пройдя десять метров, они снова остановились, на этот раз перед высоким прямоугольным входом в само здание управы. Золотые буквы с тёмными пятнами складывались в слова «Университет им. Ломоносова». Что означала эта надпись, они не понимали, но это точно была не «Управа». Сомнение и страх усилились. Инцелл пережил острый укол неуверенности, и, пускай Степана самостоятельно решила идти за ним, в конечном счёте это из-за него они здесь. Двери, запиравшие некогда вход, валялись тут же, припорошенные древесной трухой и снегом.
– Это нехорошо, – сказала Степана.
– Я вижу, – ответил Инцелл.
Он чувствовал себя идиотом, но от того ещё больше ценил, что Степана была рядом.
– Возможно, не стоило сюда идти, – мрачно сказал он.
Степана не ответила.
Тем временем жажда уже вовсю давала о себе знать. Пока это была просто густая слюна во рту, но Инцелл уже представлял, во что это превратится позже.
– Пойдём внутрь, – предложил он.
Они прошли по изуродованным дверям. Шаги подняли облачка пыли и снега.
– Где же все? – тихо спросила Степана.
– Я этого ждал, – так же тихо, как будто говорил не с ней, сказал Инцелл. – Давно было чувство, что нас совсем бросили. Мы – экономически нерентабельны.
Степана наморщила лоб и оглянулась на него.
– Но… Как же наша студия? Зачем всё это было и… Почему именно сейчас?
Инцелл уже думал об этом. Они даже об этом говорили. Эти мысли пугали его больше всего, потому что за этим всем стояла тотальная, глухая неизвестность. Он пожал плечами.
– Теперь мы сами по себе.
Это было единственное, что было ясно наверняка.
Речь шла не о свободе в истинном смысле, а в том другом, когда тебя просто вычёркивают из чужих расчётов, как лишнюю переменную
Они помолчали.
Когда-то Инцеллу на глаза попался текст про справедливое распределение благ. Текст очень вдохновил его, только одна проблема – сейчас было непонятно, от кого кому и что перераспределять. Поверхностное понимание этого текста когда-то дало почувствовать почву под ногами, но даже если всё это имело смысл когда-то, теперь все эти слова были лишены всякого смысла.
К жажде стал добавляться голод. Несмотря на общую безнадёгу, пара всё-таки решила осмотреть бывший офис управы или «у-ни-вер-си-те-та».
Было много пыли. Очень много. Всё выглядело так, словно в этих помещениях уже много лет никого не было. И тем не менее тут были места, где слой пыли и инея истончался или был смешан с грязью – кто-то ходил здесь, хотя тоже весьма давно.
Найти что-либо полезное или хотя бы просто нечто, за которое можно было зацепиться взглядом, не получалось. Да и как можно что-то найти, когда не понимаешь, что ищешь?
Он не представлял, как функционировало это здание. Возможно, это было что-то сродни храму, который они прошли, когда перешли через мост. В пользу этого говорило отдалённое сходство в архитектуре. Ему почему-то всё время казалось, что рядом с дверями должны быть какие-то таблички. Табличек не было, но, присмотревшись, он разглядел прямоугольные пятна на стенах – значит, когда-то они всё-таки висели. Где располагались офисы сотрудников бывшей управы, можно было лишь догадываться. Например, где-то стоял огромный стол, напротив него веером уходили вверх лавки со столами. Фантазия Инцелла нарисовала картину, где сидит начальник управы или университета, а перед ним толпа подчинённых, взирающих на него сверху вниз, он что-то им рассказывает, а они слушают, положив руки на столы перед собой. Инцелл предположил, что где-то тут должен быть холодильник, и поделился этим соображением со Степаной.
– Тут нет холодильника, – думая о чём-то своём, ответила она.
– Откуда такая уверенность? – гордость Инцелла была задета.
– Это учебная аудитория или учебный класс, люди тут учились, а не ели.
– Откуда ты знаешь?
– В Сети видела.
Было очевидно. Где ещё она могла видеть учебное заведение?
– Где же ели чиновники? – поинтересовался Инцелл в потолок.
– Думаю, нигде. Думаю, тут вообще не было чиновников. А если и были, то только в самом начале, когда город обезлюдел, но всё ещё оставался городом.
– Но…
Инцелл хотел возразить вслух, но его внутренний голос уже возразил на его возражение, и он промолчал.
Он вдруг поймал себя на мысли, что не может вспомнить, когда он узнал, что тут есть какая-то управа. Может, это был какой-то вирус, который запустили ему в голову? В голове вдруг всплыли слова: «Меньше смотри и больше читай». Кто их мог сказать? Он не помнил, чтобы родители много читали. Значит, бабушка, когда он был ещё совсем маленьким. Странно, что он вспомнил это только сейчас. Какая-то часть его сознания, по всей видимости, додумалась, почему у всего его поколения неразвитая, покалеченная память.
– Слушай, раз тут никого не было, значит, мы сами себе власть, получается? – спросил он.
– И как ты будешь властвовать? – спросила Степана.
– Ну, давай-давай найдём какую-то станцию, которая управляет водопроводом.
– А дальше что?
Он, естественно, понятия не имел, о чём ведёт речь, – просто осознавал теоретически, что, если водопровод построили люди, то они могут его починить.
– Попробуем починить, – сказал он.
– Ты себе не смог сделать нормальную зимнюю одежду, как ты будешь чинить… Не знаю, что ты собрался тут чинить. И ты, видимо, уже забыл, но это университет, а не что ты там думал, отсюда город никогда не управлялся. Кстати, – Степана подняла палец и стала раздеваться.
Инцелладу было очень приятно на неё смотреть, он даже начал согреваться, но девушка остановилась, сняв несколько слоёв намотанных пледов со своего тела.
– Намотай так же, – сказала она.
Настала его очередь раздеваться. Делать этого не хотелось категорически, Инцелл даже хотел отказаться, но это бы обесценило поступок Степаны. Он нехотя стал стягивать комбинезон, кусочки материала для комбинезонов рассыпались вокруг него, когда он стянул верхний слой. Попытки намотать на себя тряпьё были неудачными, и Степана, которая к тому времени уже успела одеться обратно, цыкнув языком, помогла ему утеплиться.
– Спасибо, – сказал Инцелл, надеясь, что голос прозвучал твёрдо.
Пока он раздевался, тело промёрзло ещё глубже.
– Пойдём отсюда, – предложила Степана. – Тут нет ни управы, ни намёка на воду или еду. Такая же пыль, как везде.
Инцелл впал в ступор. Он не решался просто уйти, потому что в этом месте столько артефактов человеческой деятельности, столько истории, здесь просто не могло не быть хотя бы чего-то, что могло бы быть полезно, что хотя бы немного помогло бы им улучшить своё положение!
Так не бывает, чёрт возьми!
Он понёсся по коридору вглубь здания, движимый необъяснимой паникой. Не мог весь этот путь быть напрасным! Как обезумевшее животное, бегущее от пожара, Инцеллад бежал туда, где есть свободное от огня пространство, пробегал сквозь распахнутые двери, поднимая с пола вихри пыли и оставляя следы на пыльном полу. Так он добежал до огромного пространства с надписью «Библиотека» на входе. Подскочив к ближайшей пыльной стойке, он схватил довольно тонкую книжку с названием, которого он не успел прочитать, – что-то вроде «Cbvekzrhs b Cbvekzwbz», – бросил её и побежал дальше.
Вскоре ясность ума вернулась, и Инцелл остановился. Степана нашла его растерянно стоящим в пыльной аудитории, в которой раздавалось эхо её шагов, взяла за руку и повела к выходу.
Инцелл был крайне подавлен. Он понимал, что двигался наобум, что у него не было никакой информации, а значит, оснований считать, что он тут что-то найдёт, но навалившееся чувство беспомощности прибило его так, что он лишился способности не только соображать, но и двигаться. Степана восприняла его состояние без своей постоянной иронии, у неё самой бывали разной интенсивности припадки – из-за стимуляторов и постоянной перегрузки тела и нервов.
Девушка вела его за руку в единственном направлении, которое ей было известно, – обратно к студии. Инцелл очнулся только на другом берегу реки. Он не сопротивлялся. Какая разница, куда идти? Нигде их не ждёт ничего хорошего. И даже ничего плохого. Будто мир уже давно поставил в их строчке галочку «выполнено» и просто забыл закрыть файл. Начиналась метель. Стало ещё темнее, чем было до этого, с неба посыпалась мелкая крупа, потом резко налетел ветер, и стало так холодно, что незащищённую кожу лица прижигало. Температура упала настолько резко, что они ощутили это как переход через невидимую границу в другую климатическую зону. Голова Степаны была замотана, а Инцелладу ткани не хватило, но кисти рук у обоих были обнажены и быстро онемели. Снежная пыль сменилась огромными хлопьями, похожими на перья, вытряхнутые из воображаемой подушки Инцелла. Видимость стала нулевой, но высокий гранитный парапет снова вёл их вдоль реки. До общежития было далеко. Чем детальнее Инцелл представлял всю длину маршрута, тем больше убеждался, что они не дойдут – это невозможно в таких условиях. Найти укрытие было невозможно тоже – здания, которые он видел вдоль набережной, были сейчас не видны, к тому же они могли быть закрыты. Хотя в стены зданий они могли спрятаться от ветра, они не могли помочь им согреться – отопления не было нигде, поэтому Инцелл думал, что лучше всё же добраться до своих коллег, чтобы обогревать друг друга телами. Он полагал, что Степана думала так же, и оба упрямо шли вдоль реки.
Как же сложно описать то чувство, когда цель, которую ты видишь так отчётливо в своей голове, отделена от тебя шкалой без каких-либо делений. Когда нет путеводных камней, по которым можно отбивать в голове удар колокольчика: «Динь! Я стал чуть-чуть ближе к желаемому». Инцелл очень боялся, что они сломаются, находясь в паре шагов от входа в студию.
Любопытно, но инстинкт самосохранения, который, как он слышал, считается одним из самых сильных, молчал, и всё, чего ему хотелось, – это свернуться калачиком под опорой очередного гигантского моста, который защищал хотя бы от снега, и уснуть. То есть сдаться и умереть выходит проще, чем бороться. Возможно, он бы так и поступил, но рядом была Степана: Инцелл вдруг заметил, что он отстаёт, и теперь уже он взял её за локоть и повлёк вперёд.
Стемнело. Глаза заметал снег, он таял и превращался в лёд. Инцеллу иногда казалось, что бумажный комбинезон прорвался в нескольких местах, потому что там ледяной ветер пробирал чуть сильнее. Но, может, это только казалось – онемели не только руки и ноги, но и всё тело. Он ударился лбом обо что-то твёрдое, обогнул и продолжил шагать, надеясь, что проведёт Степану мимо этого препятствия. Его дёрнуло назад. Руки, которой он держал Степану, он давно не чувствовал, поэтому ощутил рывок всем телом. Он обернулся.
– Мы пришли, – расслышал он её слова.
Растопив дыханием лёд на ресницах, он через боль разлепил веки и всмотрелся в пургу. Рядом был фрагмент косо торчащей металлической сваи – элемент несущей конструкции бывшего жилого комплекса, парящего над землёй. Видимо, в него он и врезался.
