Еда для мозга. Меню для ясного ума и хорошей памяти
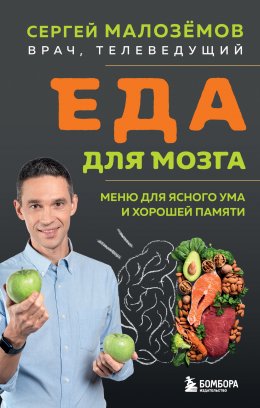
Серия «Живая еда. Книга по мотивам рейтинговой программы на НТВ»
© АО «Телекомпания НТВ», 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие автора
Я помню то осеннее утро, когда самолёт «Аэрофлота» заходил на посадку в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, а я, готовясь к интервью, в очередной раз перечитывал статью доктора Эмерана Майера, в гости к которому как раз и ехал. Он писал о том, что нашим настроением и качеством мышления управляют… микробы! Те, которые живут у нас в кишечнике. Это было невероятно, волновало своей новизной и заставляло лишний раз подумать: а вот та курица с рисом, которой кормили сейчас в самолёте, – это плюс или минус для моего «внутреннего зоопарка», а стало быть, и работы моего мозга? Мы потом очень хорошо поговорили с Майером, и многое стало для меня яснее. Наверное, именно тогда, во время съёмок для программы «Живая еда», у меня и возникла первый раз мысль о том, что надо написать книгу обо всех удивительных открытиях последнего времени, связанных с тем, как еда влияет на наше сознание.
Вот, например, признайтесь, когда вы в последний раз чувствовали настоящий голод? Не тягу съесть на десерт что-нибудь этакое… А то пугающее состояние, для которого народ столетиями придумывал живописные выражения: «живот подвело», «в брюхе волки воют», «кишка кишке кукиш кажет», «маковой росинки во рту не было»? Да, такое сейчас бывает нечасто. Вокруг столько доступных калорий! Но вот парадокс: чем больше вкусного и сытного нас окружает, тем чаще оказывается голодным… наш мозг. Ему не хватает веществ, о которых среднестатистический человек задумывается разве что в кабинете врача или перед походом в спортзал.
Я когда-то тоже считал, что правильное питание – это в основном для тела. Но чем глубже погружался в эту тему, тем яснее становилось: на самом деле на кону ясность мысли, память, настроение, способность радоваться жизни и даже защищаться от тревоги и депрессии… не говоря уже о таких страшных вещах, как болезнь Альцгеймера или диабет. Что же для этого нужно есть? И вот тут начинается самое интересное.
Вспомните, сколько раз вы ловили себя на том, что рука сама тянется к шоколадке, хотя вы только что пообедали? У меня тоже была такая привычка: как-то коллеги даже подарили мне в шутку запас шоколада на такой случай, до сих пор не израсходовал.
А как часто вы ощущали после обеда непреодолимый приступ вялости и сонливости, хотя, на первый взгляд, для этого не было никаких причин? Начну с хорошей новости… Когда последние силы уходят на то, чтобы вспомнить имя давнего коллеги, а простые задачи вызывают ступор и желание отпроситься домой, прокачивать силу воли не потребуется. Это не лень. Это мозг перевёл ваш внутренний компьютер в спящий режим – из-за острой нехватки ресурсов.
Ирония в том, что виной всему – его же гастрономические капризы! Он частенько заказывает себе «фастфуд для нейронов» – сладкую булку или жирный торт, пончик с газировкой, пиццу на бегу, – а потом мучается несварением мысли. Эти продукты не содержат по-настоящему питательных элементов. Они быстро дают прилив удовольствия и сил, но потом – плохая новость – у нашего «компьютера» быстро заканчивается энергоснабжение, потому что он получил некачественное топливо. И теперь оно бьёт токсичными отходами по митохондриям – нашим «клеточным электростанциям». Такая еда обкрадывает нас дважды: сначала не даёт белков, витаминов и полезных жиров для синтеза энергии, а потом заставляет организм чинить повреждения от скачков сахара в крови.
Так кто же в этом виноват? Кто кому хозяин: мы своему мозгу или он нам? Человечество задавалось этим вопросом не одно столетие. За это время учёные совершили массу неожиданных открытий, проводя на себе и других весьма смелые эксперименты (об одном из них, изменившем наше понимание голода, поговорим в главе 6). В общем, путь к тому, чтобы научиться кормить мозг правильно, оказался весьма запутанным.
По нему мы и отправимся в этой книге, чтобы узнать самые важные факты и познакомиться с результатами исследований – порой настолько ошеломительными, что даже продвинутым учёным бывает в них сложно поверить. Помните пресловутую поговорку «нервные клетки не восстанавливаются»? Она пошла гулять по миру, просочившись из одной научной лаборатории, но споры на этот счёт продолжались десятилетиями! Чем дело кончилось, я обязательно расскажу.
А ещё мы выясним:
• почему для памяти рыбий жир может быть полезнее витаминов;
• какой завтрак перед экзаменом нужен для студента и школьника;
• какая связь между кишечником и тревожностью;
• почему зимой особенно тянет на булочки и как с этим быть;
• что есть, чтобы справиться со стрессом на работе и сдать экзамен на пятёрку.
Уверен: через несколько глав вы начнёте слушать свой мозг – и заодно научитесь его немножко обманывать (ему же на пользу).
Пора отправляться. Давайте разберёмся, чего же хочет наш мозг и что ему нужно на самом деле!
Глава 1
Где рождаются радости и печали: от Гиппократа до графа Калиостро
– На что жалуемся?
– На голову жалуемся.
– Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит…
– А голова?
– А голова – предмет тёмный, исследованию не подлежит.
Помните этот забавный эпизод из советского фильма «Формула любви»? Такой диагноз сельский доктор (в исполнении Леонида Броневого) поставил графу Калиостро, который лежал с мокрым полотенцем на лбу и «на голову жаловался». Медикам действительно было непросто исследовать этот «тёмный предмет» до появления современных диагностических технологий вроде МРТ и ЭЭГ. Первая способна буквально осветить структуру мозга, а вторая – увидеть электрические импульсы мысли.
Но даже древние уже о многом догадывались… Гиппократ, которого считают отцом классической медицины, в одном из своих трактатов написал: «Человек должен знать, что от мозга, и только от мозга, происходят наши удовольствия, радости, смех и шутки, равно как и наши печали, боли, огорчения и слёзы… Им же мы мыслим и разумеем, видим и слышим, распознаём безобразное и прекрасное, дурное и хорошее…»
Это был весьма продвинутый подход: прежде древние греки – и даже сам Аристотель – довольно долго считали источником эмоций, желаний и интеллекта, конечно же, сердце.
Это сохранил и наш язык – причём выражения «говорить от сердца» или «почувствовать сердцем» когда-то имели буквальный смысл. Гиппократа к тому же можно считать первым в истории диетологом. Он был уверен, что каждому пациенту следует подбирать индивидуальную диету – в зависимости от возраста, темперамента и образа жизни. На этом, правда, совпадения древнего грека с современной наукой, можно считать, заканчивались. Врачи тогда (и ещё долго-долго) полагали, что здоровье человека зависит от неких «четырёх жидкостей тела»: крови, флегмы, чёрной и жёлтой желчи. Это была так называемая гуморальная теория (от латинского humor – «жидкость»). Она доминировала в европейской медицине более 2000 лет, окончательно уступив место современным научным представлениям лишь в XIX веке. По этой теории, состояние здоровья и настроение зависело от гармоничного сочетания этих «гуморов», а лечение заключалось в восстановлении правильного баланса, если какая-то из «жидкостей» затмила влияние всех остальных, с помощью диеты и лекарств (в их роли часто выступали напитки на основе трав). Особенности психологии тоже объяснялись через «жидкости»: например, меланхоликам (людям с преобладанием «чёрной желчи») – легко ранимым, склонным к глубоким переживаниям и унынию – запрещали есть баклажаны и чечевицу, зато рекомендовали сладкую и мягкую пищу. Тут, кстати, сложно не согласиться – это ведь та самая «комфортная» еда, о которой столько говорят и пишут сегодня! Модное выражение, которое подразумевает блюда, вызывающие приятные чувства – что-то привычное из детства, ассоциации с родительским домом и уютом. Людей холерического склада (преобладающий «гумор» – жёлтая желчь) описывали как энергичных, горячих, вспыльчивых и язвительных. Им рекомендовали есть больше «влажных и охлаждающих» овощей и фруктов – вроде огурцов, кабачков, дынь, груш и яблок.
Не имея современных инструментов для изучения клеток и бактерий, не понимая физиологии или биохимии, древние врачи могли опираться только на внешние наблюдения. Они видели: истекая кровью, человек умирает; а при простуде у него течёт из носа и он обливается по́том. Вполне вероятно, именно эти факты навели их на мысль, что здоровье зависит от баланса внутренних жидкостей и их избыток или недостаток вызывает недуги. Стоит отдать должное: это была первая попытка объяснить болезни не сверхъестественными (вроде вмешательства духов и богов), а рациональными причинами. И посмотрите, какими живучими оказались эти идеи! Мы давно знаем, что древние во многом были неправы… но и сейчас (спустя 2400 лет со дня смерти Гиппократа!) по-прежнему называем раздражительных и язвительных людей не какими-нибудь, а именно «желчными»!
Юмористы давно уже не те
Но давайте вернёмся на шаг назад. Гумор… Звучит как-то очень знакомо, правда? Верьте ушам своим! Именно гуморальная теория породила слово «юмор» в его современном значении. Причём в большинстве славянских языков оно практически идентично древнему звучанию – только в русском слегка видоизменилось. И вот как это произошло…
Поскольку склонности и поведение человека объясняли преобладанием одного из четырёх «гуморов», само это слово стало означать некую причуду, странность, экстравагантную черту характера – вытекающую (в прямом и переносном смысле!) из «доминирующей жидкости». А «чёрный юмор»? Это наследие «чёрной желчи» меланхолика, которая – в определённом контексте – могла казаться абсурдной и потому смешной.
Театр подхватил эту идею. Драматурги начали создавать персонажей, чья комичность строилась на одной гипертрофированной черте – скупости, жадности, хвастовстве и тому подобном. Зрители потешались над их нелепостью, и постепенно, к концу XVII – началу XVIII века, само слово «гумор» уже стало означать способность видеть и показывать смешное, умение создавать комическое. Так медицинский термин о жидкостях тела трансформировался в понятие, которое мы знаем и используем сегодня, – мощное напоминание о том, как язык хранит следы даже забытых научных теорий.
Путь к хорошему настроению (или тоске беспросветной) лежит через желудок
Перемещаемся ближе к современности! В первом тысячелетии уже нашей эры Авиценна, знаменитый арабский врач и философ, обратил внимание: связь еды и настроения работает не только в болезни, но и в самой обычной жизни. Его «Канон врачебной науки» (основной учебник по медицине в течение сотен лет) утверждал: если желудок работает плохо, то человек становится вялым, печальным, и у него «тускнеют мысли». А вот ещё одна яркая цитата: «Избыток жирной пищи делает ум ленивым, как болотная вода». Знакомо, правда? Коллегам-врачам Авиценна советовал оценивать не только то, что ест пациент, но и как, когда, в каком порядке. По его мнению, молоко, арбуз, персики и грибы стоило употреблять с осторожностью, иначе получишь проблемы с ЖКТ, а с ними и… тоску. Зато сладкая и одновременно жирная пища – это всегда источник хорошего настроения, говорил он. Кто бы спорил! Сложно сказать, каким был любимый десерт средневекового гения, но современные торты и мороженое, безусловно, дают мгновенную радость сладкоежкам. Вот только мозг, как позже выяснила наука, заплатит за это счастье свою цену – и радость окажется недолгой (особенно если речь идёт об ультрапереработанных продуктах). Позже мы поговорим об этом парадоксе: в чём секрет удовольствия, которое может обернуться туманом в голове и внезапным приступом хандры и уныния?
Авиценну, кстати, называют ещё и одним из первых в истории психиатров: именно он впервые описал (и поразительно точно) состояния вроде депрессии, меланхолии, бессонницы…
И для каждого искал причины в питании, пытался разрабатывать особые диеты. Его догадки о влиянии еды на настроение и ясность мысли были поистине гениальными, хотя он опирался на всё ту же нелепую (с нашей точки зрения) гуморальную теорию. Он интуитивно нащупал то, что нейронаука доказала относительно недавно: пища и мозг ведут постоянный диалог. Сегодня такое взаимодействие принято называть осью кишечник – мозг. Это сложнейшая система связи, где пища, её компоненты и кишечные бактерии генерируют сигналы, напрямую влияющие на состояние нашего ума.
Фонтан, орган, часы и «животные духи»
Представьте: на дворе уже XVII век, и научному сообществу становится ясно, что с гуморальной теорией пора заканчивать – она попросту не выдерживает груза накопленных объективных данных! Учёные жаждут новых объяснений, но у них ещё нет ни микроскопов, ни понятия о клетках, ни знаний о гормонах или электрических импульсах нейронов. Зато есть Рене Декарт – человек, которого сегодня назвали бы гением многозадачности. Он был не только суперталантливым математиком (придумал, например, оси координат Х и Y, которые мы изучали в школе и на которых держится очень многое), но и выдающимся философом. Именно ему принадлежит гениальная фраза: «Я мыслю – следовательно, существую». А ещё он искренне пытался разгадать загадку работы мозга и человеческого тела в целом, используя в качестве эталона самые передовые технологии своего времени.
Что же было перед глазами у Декарта? Сложные часовые механизмы с шестерёнками и пружинами, гидравлические фонтаны в роскошных садах… а ещё музыкальные инструменты, в частности церковные органы, где воздух под давлением создавал звук. Именно с этими устройствами учёный и сравнивал наш мозг. Он представлял себе то, что мы называем нервной системой, в виде сети полых трубок. По его теории, съеденная пища сначала попадала в сердце, где каким-то чудесным образом превращалась… в «животные ду́хи»! Затем эти эфемерные субстанции текли по нервным трубопроводам, подобно воде в фонтане, и передавали ощущения в мозг и обратно (например, достигали конечностей и приводили их в движение). И вот что особенно важно для нашей темы: он считал, что эти «животные духи», которые образуются из пищи, напрямую влияют на наши эмоции и настроение!
Декарт, кстати, был противником переедания и верил в связь правильного питания с хорошим самочувствием, хотя и не выделял каких-то конкретных суперфудов.
И пожалуй, именно после Декарта учёные, пытаясь разгадать тайны строения и работы мозга, стали всё активнее сравнивать его с самыми передовыми приборами своего времени. Например, после изобретения телефонной связи в XIX веке мозг представили гигантской телефонной станцией, ведь патологоанатомы уже знали, что артерии, сосуды и нервы, расходящиеся от мозга по телу, похожи на провода. Логично было предположить, что по ним мозг всё время «разговаривает» с другими частями организма.
В XX веке родилась новая, очень живучая аналогия – мозг-компьютер. Мне она, честно говоря, не нравится. Мозг устроен гораздо сложнее. Для стабильной работы его мало «включить в розетку», то есть забросить любое топливо в виде еды. Он очень разборчив и – не подобрать слова точнее – прожорлив! Занимая всего 2% массы тела, мозг потребляет 20% всей нашей энергии и кислорода.
Мне кажется более подходящим сравнение сложного устройства мозга с большим мегаполисом или даже целой страной. А для детей я обычно использую метафору киновселенной – той, где происходит действие основанных на комиксах супергеройских фильмов. Там есть и герои, и злодеи. (Главный из них, конечно, сахар. Вы наверняка не представляете, на какие подлости и смертельные ловушки он способен! А я вам скоро расскажу.) Впрочем, всё это было лирическое отступление, которое нам пригодится чуть позже…
«Нервный клей», который оказался совсем не клеем (и его коллега по несправедливой опале)
Двинемся в нашей истории ещё ближе к современности, в 1846 год. К этому моменту наука обзавелась наконец довольно мощными микроскопами. Наш следующий герой – немецкий учёный Рудольф Вирхов. Даже Декарт, пожалуй, уступил бы ему свой титул гения многозадачности: Вирхов был археологом, антропологом, политиком, врачом, и не только. Для нас сейчас он выступает в роли патологоанатома и пристально изучает мозговую ткань в анатомичке. И что же он видит? Между нейронами (которые тогда считались единственными важными жителями мозга) лежит какая-то бесформенная, «не нервная», аморфная масса. Это же просто какой-то клей! Так, во всяком случае, подумал Вирхов. Он так и назвал своё открытие – Nervenkitt («нервный клей» в переводе с немецкого). Позже учёные, известные любители греческих корней, дали этой субстанции имя «нейроглия» (от neuron – «нерв» и glia – «клей»). Представление было простым: это вещество – пассивный наполнитель. Никаких особых функций! Просто цемент, скрепляющий «кирпичики»-нейроны и не дающий им сбиться в кучу.
Профессор, который во времена моей учёбы в мединституте рассказывал об этом на лекции, в этом месте заразительно рассмеялся. «Коллеги, да вы вдумайтесь – ведь это всё равно что посмотреть на звёздное небо и решить: весь этот космос только для того и существует, чтобы приклеивать звёзды к небу. Иначе они, чего доброго, попадают на Землю!»
А что же на самом деле? В мозге, разумеется, нет ничего второстепенного или лишнего. Справедливости ради, Вирхов кое в чём был всё же прав – глиальные клетки действительно создают структурную поддержку для нейронов. Но сегодня мы знаем, что клетки микроглии (есть ещё и не микро-, а калибром покрупнее) – это ещё и иммунные стражи мозга, активно патрулирующие его территорию, удаляющие мёртвые клетки, борющиеся с инфекциями и даже участвующие в формировании памяти и обучении. Микроглия реагирует на изменения в вашем рационе, на воспаление, вызванное определёнными продуктами, на уровень сахара в крови. Когда мы переедаем или употребляем слишком много ультрапереработанной пищи, эти клетки могут перейти в состояние хронической активации, что приводит к нейровоспалению – тихому врагу когнитивных функций.
Микроглия полностью обновляет себя каждые несколько месяцев, и то, что мы едим, напрямую влияет на этот процесс.
Вчерашний обед может легко и бесповоротно изменить то, как эти клетки будут защищать наш мозг завтра.
Возможно, если бы Вирхов мог заглянуть в современный микроскоп и увидеть, как эти клетки движутся, меняют форму, взаимодействуют с нейронами и даже «подравнивают» синаптические связи, он бы пересмотрел своё мнение о «клее мозга». А может, и не удивился бы – ведь настоящий учёный всегда готов признать, что природа гораздо сложнее, чем кажется.
Я, признаться, коллекционирую такие научные казусы и никогда не понимал тех, для кого наука – это скучно! Взять хотя бы холестерин – это же «скандалы, интриги, расследования», 12 Нобелевских премий и настоящие холестериновые войны! Его на заре развития медицины тоже считали совершенно бесполезной субстанцией, которая годится, только чтобы отправиться в унитаз. Как говорило одно из светил XIX века, «тело просто должно от него избавиться!». Сегодня одни называют холестерин главной причиной смертельно опасных болезней, другие заявляют, что его плохая слава целиком на совести фармакологических гигантов, пытающихся продать нам ненужные лекарства…
А правда в том, что это среди прочего ещё и настоящая трудовая лошадка среди молекул нашего мозга. Именно в центральной нервной системе сосредоточено около 25% всего холестерина организма – и, в отличие от остальных тканей, мозг производит практически весь необходимый ему объём самостоятельно! Для чего – скоро расскажу.
Глава 2
Кухня мозга: из чего готовить? И в чём виноват холестерин?
Если бы мозг был городом, то совершенно точно – со сложнейшей инфраструктурой, транспортными артериями и системами жизнеобеспечения. Ему нужна своя полиция (иммунные клетки), энергетические станции (митохондрии), строители и ремонтники (глиальные клетки). Как и настоящему городу, мозгу требуется постоянная поставка ресурсов. Это не просто топливо, а целый комплекс веществ, и каждое из них имеет своё особое назначение. Глюкоза – основной источник энергии, аминокислоты – строительный материал, жирные кислоты – компоненты для «ремонта» клеточных мембран, микроэлементы – незаменимые детали для биохимических реакций.
И население нашего города-мозга – это что-то невообразимое! Около 86 миллиардов жителей-нейронов, каждый из которых «ходит на работу» и выполняет свою функцию. И все они очень общительны: связаны между собой триллионами дорог-синапсов, по которым непрерывно движутся электрические импульсы и химические молекулы: курьеры-нейромедиаторы, доставщики еды, почтальоны, передающие информацию… «Алфавит» и «грамматику» языка, на котором все они общаются, сегодня расшифровывают биохимики, генетики и нейробиологи. Некоторые их открытия заставляют по-новому посмотреть и на устоявшиеся в веках пищевые традиции.
Возьмём, например, квашеную капусту. Варианты этого блюда популярны у разных народов, а в Корее и вовсе принято есть капусту кимчи каждый день, в том числе на завтрак. Так вот – оказывается, это полезно не только для сохранения урожая и разнообразия меню.
В процессе ферментации участвуют молочнокислые бактерии, которые производят ГАМК – гамма-аминомасляную кислоту.
Это естественный «успокоитель» для нервной системы, её важнейший тормозной нейромедиатор. ГАМК задействована во многих важных процессах организма, включая сон, настроение и когнитивные функции – такие, как внимание и мышление.
Ещё пример: в начале XX века японский учёный Кикунаэ Икеда выделил из водорослей комбу глутамат, давший пятый вкус – умами. (Первые четыре – это горькое, сладкое, кислое и солёное.) Позже выяснилось: это вещество не только даёт удовольствие, но и является важным нейромедиатором обучения! Не потому ли Китай, Южная Корея и Япония, где производят огромный ассортимент продуктов из водорослей, постоянно занимают первые ступени пьедестала почёта среди стран с самым высоким IQ (коэффициентом интеллекта) населения? Стоит ли на них равняться? Не пора ли бежать в магазин за морской капустой и комбу – в сушёном виде она тоже доступна россиянам? На эти вопросы я обязательно отвечу чуть позже. Но для начала, чтобы всё уложилось по полочкам, нам обязательно нужно поговорить о самом главном, о «кухне мозга». Как именно он реагирует на еду? И что должно быть у нас в меню, чтобы главный шеф-повар организма мог приготовить ясное мышление, хорошее настроение, крепкую память и здоровый сон?
