Строгий мир логики с практическими упражнениями
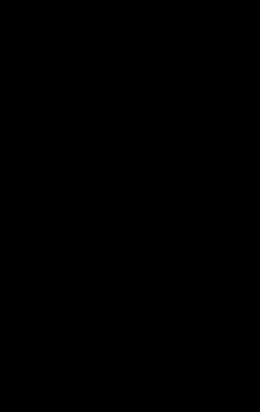
© ООО «Издательство АСТ»
К читателю
Эта книга посвящена логике – науке о принципах правильного мышления.
Трудно найти более многогранное и сложное явление, чем человеческое мышление. Оно изучается многими науками, и логика – одна из них. Всякое движение нашей мысли, постигающей истину, добро и красоту, опирается на логические законы. Мы можем не осознавать их, но вынуждены всегда следовать им. Задача книги – соединить логическую теорию и практику, описать современные научные представления о механизме человеческого мышления и вместе с тем помочь читателю «узнать то, что он знает», углубить и оживить имеющееся у него стихийно сложившееся знание логики, научить эффективно им распоряжаться.
Всегда было принято считать, что без знания логики, полученного в практике мышления или путем специального изучения, нет образованного человека. Сейчас, в условиях научно-технической революции и коренного преобразования характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. Особенно важно помнить об этом нынешнему школьнику, готовящемуся жить в «информационном обществе» XXI в.
Растущее значение компьютерной грамотности – свидетельство важности знания логики – одной из теоретических основ электронно-вычислительной техники.
Многими конкретными обстоятельствами жизни и деятельности человека определяются те сведения, которые действительно нужны ему и остаются в его памяти. Но нужно помнить, что наши знания не набор разрозненных сведений, а цельная, внутренне согласованная система. Решающую роль в обеспечении ее единства играют внутренние, логические связи ее утверждений. Каким бы ни было содержание знания, логика – необходимое средство придания ему ясности, определенности, последовательности. Поэтому она важна для каждого человека независимо от рода занятий. Знание ее благотворно сказывается на всякой человеческой деятельности.
Мир логики не только строг, но и необычен. Его объекты абстрактны, лишены наглядности и эмоционального оттенка. Психологические, личностные моменты сведены к минимуму. Это сфера чистого разума, а не чувств. С ним трудно связать живые образы и представления. Его законы, иллюстрируемые на конкретных примерах, порождают зачастую громоздкие и неуклюжие конструкции, далекие как будто от реального мышления.
И вместе с тем это наш мир, наше собственное мышление, но мышление, освобожденное от всего, что не связано непосредственно с его логической последовательностью и правильностью.
Глава 1. Кто мыслит логично
Интуитивная логика
Заметить несостоятельность некоторых доказательств можно и без специальных знаний. Вполне достаточно естественной логики, тех интуитивных представлений о правильности рассуждения, которые складываются у нас в процессе повседневной практики мышления.
Однако далеко не всегда эта интуитивная логика успешно справляется со встающими перед нею задачами.
Рассуждение – это всегда принуждение. Размышляя, мы постоянно ощущаем давление и несвободу.
От нашей воли зависит, на чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прервать начатое размышление и перейти к другой теме.
Но если мы решили провести его до конца, то мы сразу же попадем в сети необходимости, стоящей выше нашей воли и наших желаний. Согласившись с одними утверждениями, мы вынуждены принять и те, что из них вытекают, независимо от того нравятся они нам или нет, способствуют нашим целям или, напротив, препятствуют им. Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным.
В чем источник этого постоянного принуждения? Какова его природа? Что именно следует считать несовместимым с принятыми уже утверждениями и что должно приниматься вместе с ними? Какие вообще принципы лежат в основе деятельности нашего мышления?
Над этими вопросами человек задумался очень давно. Из этих раздумий выросла особая наука о мышлении – логика.
Правильно ли рассуждает человек, когда говорит: «Если бы алюминий был металлом, он проводил бы электрический ток; алюминий проводит ток; значит, он металл»? Чаще всего отвечают: правильно, алюминий металл, и он проводит ток.
Этот ответ, однако, неверен. Логическая правильность, как гласит теория, это способ связи утверждений. Она не зависит от того, истинны используемые в выводе утверждения или нет. Хотя все три утверждения, входящие в рассуждение, верны, между ними нет логической связи. Рассуждение построено по неправильной схеме: «Если есть первое, то есть второе; второе есть; значит, есть и первое». Такая схема от истинных исходных положений может вести не только к истинному, но и к ложному заключению, она не гарантирует получения новых истин из имеющихся.
Другой пример: «Если бы шел дождь, земля была бы мокрой; но дождя нет; следовательно, земля не мокрая». Это рассуждение интуитивно обычно оценивается как правильное, но достаточно небольшого размышления, чтобы убедиться, что это не так. Верно, что в дождь земля всегда мокрая; но если даже дождя нет, из этого вовсе не следует, что она сухая: земля могла быть просто полита. Рассуждение опять-таки идет по неправильной схеме. Эта схема может привести к ошибочному заключению. «Если у человека повышенная температура, он болен; у него нет повышенной температуры; значит, он не болен» – оба исходных утверждения верны, но вывод неверен: многие болезни протекают без повышенной температуры.
Психологи занимаются проблемой связи мышления с культурой, предполагая, что люди разных эпох и соответствующих им культур мыслят по-разному. Ни к чему определенному эти исследования пока не привели, но показали, сколь высок процент логических ошибок в рассуждениях, опирающихся на интуитивную логику.
Во время исследования, проводившегося в Либерии и в США, предлагалась такая задача, представленная в форме сказки:
«Два человека, которых звали Флюмо и Йакпало, захотели жениться. Они отправились на поиски невест, захватив с собой подарки: деньги и болезнь. Зайдя в дом, в котором жила красивая девушка, они сказали хозяину: «Если ты не выдашь свою дочь за одного из нас и не примешь его подарки, тебе придется плохо». Флюмо сказал: «Ты должен взять деньги и болезнь». Йакпало сказал: «Ты должен взять деньги или болезнь». За кого из них выдал хозяин свою дочь и почему?»
Оказалось, что даже эту несложную задачу многие испытуемые не сумели решить правильно. Причем процент неверных ответов был одинаковым в двух группах испытуемых, заметно различавшихся по уровню своего образования.
Эти простые примеры показывают, что логика, усвоенная стихийно, даже в обычных ситуациях может оказаться ненадежной.
Навык правильного мышления не предполагает каких-либо теоретических знаний, умения объяснить, почему что-то делается именно так, а не иначе. Интуитивная логика почти всегда недостаточна для критики неправильного рассуждения. К тому же сама она, как правило, беззащитна перед лицом критики.
Одна пожарная команда все время опаздывала на пожары. После очередного опоздания брандмейстер издал приказ: «В связи с тем, что команда систематически опаздывает на пожар, приказываю со следующего дня выезжать всем за 15 минут до начала пожара». Понятно, что этот приказ по своей сути абсурден. Над ним можно посмеяться, но выполнить его нельзя. Какие же именно принципы логики им нарушены? Как убедительно показать, что приказ логически несостоятелен? Интуитивной логики для ответа на подобные вопросы явно недостаточно.
Л. Н. Толстой сказал о первых годах своей жизни: «Разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и сотой доли того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние».
Среди ранних приобретений детского разума огромную ценность представляет, конечно, язык: его словарный фонд и грамматика. Но не меньшую ценность имеет умение логически правильно мыслить. Незаметно и быстро оно усваивается в детстве.
Ребенок может сказать: «У тебя большой шар, а у меня красный», «Принеси мне коробочку точно такой величины, но чтоб была побольше» и т. п. Но постепенно его мышление становится все более упорядоченным и последовательным. Слова складываются во фразы, фразы начинают связываться между собой так, что становится невозможным, приняв одни, не принять другие. Период «детской логики» заканчивается, ребенок начинает рассуждать «как взрослый». Усвоение языка оказывается одновременно и усвоением общечеловеческой, не зависящей от конкретных языков логики. Без нее, как и без грамматики, нет, в сущности, владения языком.
В дальнейшем стихийно сложившееся знание грамматики систематизируется и шлифуется в процессе школьного обучения. На логику же специального внимания не обращается, ее совершенствование остается стихийным процессом. Нет поэтому ничего странного в том, что, научившись на практике последовательно и доказательно рассуждать, человек затрудняется ответить, какими принципами он при этом руководствуется. Почувствовав сбой в рассуждении, он оказывается, как правило, не способным объяснить, какая логическая ошибка допущена. Это под силу только теории логики.
Задачи логики
Слово «логика» употребляется нами довольно часто, но в разных значениях. Нередко говорят о логике событий, логике характера и т. д. В этих случаях имеется в виду определенная последовательность и взаимозависимость событий или поступков. «Быть может, он безумец, – говорит один из героев рассказа английского писателя Г. К. Честертона, – но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии есть логика. Именно это и сводит человека с ума». Здесь логика как раз означает наличие в мыслях определенной общей линии, от которой человек не в силах отойти.
Слово «логика» употребляется также в связи с процессами мышления. Так, мы говорим о логичном и нелогичном мышлении, имея в виду его определенность, последовательность, доказательность и т. п.
Кроме того, логика – особая наука о мышлении. Она возникла еще в IV в. до н. э., основателем ее считается древнегреческий философ Аристотель, ученик Платона. Он дал первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос о природе и принципах человеческого мышления. «Принудительную силу наших речей» он объяснил существованием особых законов – логических законов мышления. Именно они заставляют принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать несовместимое с принятым. «К числу необходимого, – писал Аристотель, – принадлежит доказательство, так как если что-то безусловно доказано, то иначе уже не может быть; и причина этому – исходные посылки…»
Подчеркивая безоговорочность логических законов и необходимость всегда следовать им, он замечал: «Мышление – это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тягость она нам».
С работ Аристотеля началось систематическое изучение логики и ее законов. Позднее она стала называться формальной логикой.
Историю логики можно разделить на два основных этапа: первый продолжался более 2 тыс. лет, в течение которых логика развивалась очень медленно; второй начался во второй половине XIX в., когда в логике произошла научная революция, в корне изменившая ее лицо. Это было обусловлено прежде всего проникновением в нее математических методов. На смену аристотелевской, или традиционной, логике пришла современная логика, называемая также математической или символической. Эта новая логика не является, конечно, логическим исследованием исключительно математических доказательств. Она представляет собой современную теорию всякого правильного рассуждения, «логику по предмету и математику по методу», как охарактеризовал ее известный русский логик П. С. Порецкий.
Сфера конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении ее истории, но основная цель всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. При этом предполагается, что вывод зависит только от способа связи входящих в него утверждений и их строения, а не от их конкретного содержания. Изучая, «что из чего следует», логика выявляет наиболее общие, или, как говорят, формальные, условия правильного мышления.
Вот несколько примеров логических, или формальных, требований к мышлению:
• независимо от того, о чем идет речь, нельзя что-либо одновременно и утверждать и отрицать;
• нельзя принимать некоторые утверждения, не принимая вместе с тем все то, что вытекает из них;
• невозможное не является возможным, доказанное – сомнительным, обязательное – запрещенным и т. п.
Эти и подобные им требования не зависят, конечно, от конкретного содержания наших мыслей, от того, что именно утверждается или отрицается, что считается возможным, а что – невозможным.
Задача логического исследования – обнаружение и систематизация определенных схем правильного рассуждения. Эти схемы представляют логические законы, лежащие в основе логически правильного мышления. Рассуждать логично – значит рассуждать в соответствии с законами логики.
Отсюда понятна важность данных законов. Об их природе, источнике их обязательности высказывались разные точки зрения. С позиции диалектического материализма логические законы независимы от воли и сознания человека. Их принудительная сила для человеческого мышления объясняется тем, что они являются в конечном счете отображением в голове человека наиболее общих отношений самого реального мира, практики его познания и преобразования человеком. Законы логики кажутся самоочевидными и как бы изначально присущими человеческой способности рассуждать.
Логика и наука
Французский дипломат Талейран заметил однажды, что реалист не может долго оставаться реалистом, если он не идеалист, и идеалист не может долго оставаться идеалистом, если он не реалист. Применительно к нашей теме эту мысль можно истолковать как указание на две основные опасности, всегда подстерегающие логическое исследование. С одной стороны, логика отталкивается от реального мышления, но она дает абстрактную его модель. С другой стороны, прибегая к абстракциям высокого уровня, логика не должна отрываться от конкретных, данных в опыте процессов рассуждения.
Как и математика, логика не является эмпирической, опытной наукой. Но стимулы к развитию она черпает из практики реального мышления. А изменение последней так или иначе ведет к изменению самой логики.
В общем и целом развитие логики всегда было связано с теоретическим мышлением своего времени и прежде всего с развитием науки. Конкретные рассуждения дают логике материал, из которого она извлекает то, что именуется логическим законом, формой мысли и т. д. Теории логической правильности оказываются в итоге очищением, систематизацией и обобщением практики мышления.
Современная логика с особой наглядностью подтверждает это. Она активно реагирует на изменения в стиле и способе научного мышления, на осмысление его особенностей в теории науки.
Сейчас логическое исследование научного знания активно ведется в целом ряде как давно освоенных, так и новых областей. Можно выделить четыре основных направления этого исследования: анализ логического и математического знания, применение логического анализа к опытному знанию, применение логического анализа к оценочно-нормативному знанию, применение логического анализа в исследовании приемов и операций, постоянно используемых во всех сферах научной деятельности.
Логика не только используется в исследовании научного познания, но и сама получает мощные импульсы для развития в результате воздействия своих научных приложений. Имеет место именно взаимодействие логики и науки, а не простое применение готового аппарата логики к некоторому внешнему для него материалу.
Логика и творчество
Иногда можно услышать мнение, будто логика препятствует творчеству. Последнее опирается на интуицию, оно требует внутренней свободы, раскрепощенного, раскованного полета мысли. Логика же связывает мышление своими жесткими схемами, она анатомирует его, предписывая контролировать каждый его шаг.
Не делает ли логика человека скучным, однотонным, лишенным всякой светотени? Нет.
Творчество безо всяких ограничений – это не более, чем фантастика. Законы логики стесняют человеческое мышление не больше, чем любые другие научные законы. Подлинная свобода не в пренебрежении необходимостью и выражающими ее законами, а в следовании им.
Логичность сама по себе не исключает ни интуицию, ни фантазию. Дилемма «либо логика, либо интуиция» несостоятельна. Даже детская игра подчиняется определенным ограничениям.
Нельзя не считаться с ограничительными принципами логики и пытаться создавать иллюзию, будто можно обходиться без них. Надо максимально овладеть этими принципами, сделать их применение естественным и свободным, не затрудняющим движения мысли. Только в этом случае станет возможным подлинное творчество, предполагающее не только способность выдвинуть интересную идею, но и умение убедительно обосновать ее.
Контрольные вопросы
Как складывается интуитивная логика?
В чем основные слабости интуитивной логики?
В каких смыслах употребляется слово «логика»?
Что является основной задачей логики?
Какие основные этапы прошла в своем развитии логика?
Что значит рассуждать логично?
Препятствует ли логика творчеству?
Глава 2. Законы логики
В логике, как и во всякой науке, главное – законы. Логических законов бесконечно много, и в этом ее отличие от большинства других наук. Однородные законы объединяются в логические системы, которые тоже обычно именуются логиками. Каждая из них дает описание логической структуры определенного фрагмента, или типа, наших рассуждений.
Без логического закона нельзя понять, что такое логическое следование, а тем самым – и что такое доказательство. Правильное, или, как обычно говорят, логическое, мышление – это мышление по законам логики, по тем абстрактным схемам, которые фиксируются ими. Законы логики составляют тот невидимый каркас, на котором держится последовательное рассуждение и без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь.
Закон противоречия
Один из наиболее известных законов логики – закон противоречия. Его сформулировал еще Аристотель, назвав «самым достоверным из всех начал, свободным от всякой предположительности».
Закон говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другое, а вместе составляют логическое противоречие, например: «Пять – нечетное число, и неверно, что пять – нечетное число».
Идея, выражаемая законом противоречия, проста: высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными. Пусть А обозначает произвольное высказывание, тогда выражение не-А – отрицание этого высказывания. Тогда закон можно представить так: «Неверно, что А и не-А». Неверно, например, что Солнце – звезда и Солнце не является звездой, что человек – разумное существо и вместе с тем не является разумным и т. п.
Закон противоречия не раз становился предметом ожесточенных споров. Попытки опровергнуть его чаще всего были связаны с неправильным пониманием логического противоречия. Составляющие его утверждения должны говорить об одном и том же предмете, который рассматривается в одном и том же отношении. Если этого нет, нет и противоречия. Те примеры, которые обычно противопоставляют закону противоречия, не являются подлинными противоречиями и не имеют к нему никакого отношения.
В «Гисторических материалах» Козьмы Пруткова нашел отражение такой эпизод: «Некий, весьма умный, XIV века ученый справедливо тогдашнему германскому императору заметил: «Отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие от того и смеху достойные ошибки войти: не явное ли в том, ваше величество, покажется малоумному противоречие, что люди в теплую погоду обычно в холодное платье облачаются, а в холодную, насупротив того, завсегда теплое одевают?»…Сии, с достоинством произнесенные, ученого слова произвели на присутствующих должное действие, и ученому тому, до самой смерти его, всегда особливое внимание оказывали».
Этот поучительный случай описывается под заголовком: «Наклонность противоречия нередко в ошибки ввести может». Применительно к нашей теме можно сделать такой вывод: наклонность видеть логические противоречия там, где их нет, обязательно ведет к неверному истолкованию закона противоречия и попыткам ограничить его действие.
Нет противоречия в утверждении: «Осень настала и еще не настала». Подразумевается, что, хотя по календарю уже осень, тепло, как летом.
В оде «Бог» – вдохновенном гимне человеческому разуму – Г. Р. Державин соединяет вместе явно несоединимое:
- …Я телом в прахе истлеваю,
- Умом громам повелеваю,
- Я царь – я раб, я червь – я бог!
Но здесь нет противоречия. Точно так же, как нет его в словах песни: «Речка движется и не движется… Песня слышится и не слышится».
Отношение логики к противоречиям лишено двусмысленности и неопределенности: где есть противоречия, там логика поколеблена.
Если ввести понятия истины и лжи, закон противоречия можно сформулировать так: никакое высказывание не является вместе истинным и ложным.
В этой версии закон звучит особенно убедительно. Истина и ложь – это две несовместимые характеристики высказывания. Истинное высказывание соответствует действительности, ложное не соответствует ей. Тот, кто отрицает закон противоречия, должен признать, что одно и то же высказывание может соответствовать реальному положению вещей и одновременно не соответствовать ему. Трудно понять, что означают в таком случае сами понятия истины и лжи.
Иногда закон противоречия формулируют следующим образом: из двух противоречащих друг другу высказываний одно является ложным.
Эта версия подчеркивает опасность, связанную с противоречием. Тот, кто допускает противоречие, вводит в свои рассуждения или в свою теорию ложное высказывание. Тем самым он стирает границу между истиной и ложью, что, конечно же, недопустимо.
Римский философ-стоик Эпиктет, вначале раб одного из телохранителей императора Нерона, а затем секретарь императора, так обосновывал необходимость закона противоречия: «Я хотел бы быть рабом человека, не признающего закона противоречия. Он велел бы мне подать себе вина, я дал бы ему уксуса или еще чего похуже. Он возмутился бы, стал бы кричать, что я даю ему не то, что он просил. А я сказал бы ему: ты не признаешь ведь закона противоречия, стало быть, что вино, что уксус, что какая угодно гадость: все одно и то же. И необходимости ты не признаешь, стало быть, никто не силах принудить тебя воспринимать уксус как что-то плохое, а вино как хорошее. Пей уксус как вино и будь доволен. Или так: хозяин велел побрить себя. Я отхватываю ему бритвою ухо или нос. Опять начинаются крики, но я повторил бы ему свои рассуждения. И все делал бы в таком роде, пока не принудил бы хозяина признать истину, что необходимость непреодолима и закон противоречия всевластен».
Так комментировал Эпиктет слова Аристотеля о принудительной силе необходимости, и в частности закона противоречия.
Смысл этого эмоционального комментария сводится, судя по всему, к идее, известной еще Аристотелю: из противоречия можно вывести все, что угодно. Тот, кто допускает противоречие в своих рассуждениях, должен быть готов к тому, что из распоряжения принести ему вина будет выведено требование подать уксуса, из команды побрить – команда отрезать нос и т. д.
Один из законов логики говорит: из противоречивого высказывания логически следует любое высказывание. Появление в какой-то теории противоречия ведет в силу этого закона к ее разрушению. В ней становится доказуемым все, что угодно, были смешиваются с небылицами. Ценность такой теории равна нулю.
Конечно, в реальной жизни все обстоит не так страшно, как это рисует данный закон. Ученый, обнаруживший в какой-то научной теории противоречие, не спешит обычно воспользоваться услугами закона, чтобы дискредитировать ее. Чаще всего противоречие отграничивается от других положений теории, входящие в него утверждения проверяются и перепроверяются до тех пор, пока не будет выяснено, какое из них является ложным. В конце концов ложное утверждение отбрасывается, и теория становится непротиворечивой. Только после этого она обретает уверенность в своем будущем.
Противоречие – это еще не смерть научной теории. Но оно подобно смерти.
Никто, пожалуй, не утверждает прямолинейно, что дождь идет и не идет или что трава зеленая и одновременно не зеленая. А если и утверждает, то только в переносном смысле. Противоречие вкрадывается в утверждение, как правило, в неявном виде. Чаще всего противоречие довольно легко обнаружить.
В начале века, когда автомобилей стало довольно много, в английском графстве было издано распоряжение: если два автомобиля подъезжают одновременно к пересечению дорог под прямым углом, то каждый из них должен ждать, пока не проедет другой. Это распоряжение внутренне противоречиво и потому невыполнимо.
У детей популярны головоломки такого типа: что произойдет, если всесокрушающее пушечное ядро, сметающее на своем пути все, попадет в несокрушимый столб, который нельзя ни повалить, ни сломать? Ясно, что ничего не произойдет: подобная ситуация логически противоречива.
Однажды актер, исполняющий эпизодическую роль слуги, желая хотя бы чуть-чуть увеличить свой текст, произнес:
– Синьор, немой явился… и хочет с вами поговорить. Давая партнеру возможность поправить ошибку, другой актер ответил: – А вы уверены, что он немой? – Во всяком случае, он сам так говорит…
Этот «говорящий немой» так нее противоречив, как и «знаменитый разбойник, четвертованный на три неравные половины» или как «окружность со многими тупыми углами».
Противоречие может быть и не таким явным.
М. Твен рассказывает о беседе с репортером, явившимся взять у него интервью:
– Есть ли у вас брат? – Да, мы звали его Билль. Бедный Билль! – Так он умер? – Мы никогда не могли узнать этого. Глубокая тайна парит над этим делом. Мы были – усопший и я – двумя близнецами и, имея две недели от роду, купались в одной лохани. Один из нас утонул в ней, но никогда не могли узнать который. Одни думают, что Билль, другие – что я. – Странно, но вы-то, что вы об этом думаете? – Слушайте, я открою вам тайну, которой не поверял еще ни одной живой душе. Один из нас двоих имел особенный знак на левой руке, и это был я. Так что тот ребенок, что утонул…
Понятно, что, если бы утонул сам рассказчик, он не выяснял бы, кто же все-таки утонул: он сам или его брат. Противоречие маскируется тем, что говорящий выражается так, как если б он был неким третьим лидом, а не одним из близнецов.
Скрытое противоречие является стержнем и маленького рассказа польского писателя-юмориста Э. Липиньского: «Жан Марк Натюр, известный французский художник-портретист, долгое время не мог схватить сходство с португальским послом, которого как раз рисовал.
Расстроенный неудачей, он уже собирался бросить работу, но перспектива высокого гонорара склонила его к дальнейшим попыткам добиться сходства.
Когда портрет близился к завершению и сходство было уже почти достигнуто, португальский посол покинул Францию, и портрет остался с несхваченным сходством.
Натюр продал его очень выгодно, но с этого времени решил сначала схватывать сходство и только потом приступать к написанию портрета».
Уловить сходство несуществующего портрета с оригиналом так же невозможно, как невозможно написать портрет, не написав его.
Противоречие недопустимо в строгом рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но, как очевидно из приведенных примеров, в обычной речи у противоречия много разных задач.
Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и т. д. «Настоящие художники слова, – пишет немецкий лингвист К. Фосслер, – всегда осознают метафорический характер языка. Они все время поправляют и дополняют одну метафору другой, позволяя словам противоречить друг другу и заботясь лишь о связности и точности своей мысли».
Реальное мышление – и тем более художественное – не сводится к одной логичности. В нем важно все: и ясность и неясность, и доказательность и зыбкость, и точное определение и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту.
Известно, что Н. В. Гоголь очень не жаловал чиновников. В «Мертвых душах» они изображены с особым сарказмом. Они «были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто „Московские ведомости“, кто даже и совсем ничего не читал». Хороша же просвещенность, за которой только чтение газеты, а то и вовсе ничего нет!
Испанский писатель XVI–XVII вв. Ф. Кеведо так озаглавил свою сатиру: «Книга обо всем и еще о многом другом». Его не смутило то, что, если книга охватывает «все», для «многого другого» уже не остается места.
Классической фигурой стилистики, едва ли не ровесницей самой поэзии, является оксюморон – сочетание логически враждующих понятий, вместе создающих новое представление. «Пышное природы увяданье», «свеча темно горит» (А. С. Пушкин), «живой труп» (Л. Н. Толстой), «ваш сын прекрасно болен» (В. В. Маяковский) – все это оксюмороны. А в строках стихотворения А. А. Ахматовой «смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной» сразу два оксюморона. Один поэт сказал о Г. Р. Державине: «Он врал правду Екатерине». Без противоречия так хорошо и точно, пожалуй, не скажешь.
Нелогично утверждать одновременно А и не-А. Но каждому хорошо понятно двустишие римского поэта I в. до н. э. Катулла:
- Да! Ненавижу и вместе люблю. – Как возможно,
- ты спросишь?
- Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.
«…Все мы полны противоречий. Каждый из нас – просто мешанина несовместимых качеств. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благодарность тяжелее воздуха; но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое „Я“, желтый цвет вполне может оказаться лошадью с тележкой, а благодарность – серединой будущей недели». Этот отрывок из романа английского писателя С. Моэма «Луна и грош» выражает сложность, а нередко и прямую противоречивость душевной жизни человека. «…Человек знает, что хорошо, но делает то, что плохо», – с горечью замечал Сократ.
Вывод из сказанного как будто ясен. Настаивая на исключении логических противоречий, не следует, однако, всякий раз «поверять алгеброй геометрию» и пытаться втиснуть все многообразие противоречий в прокрустово ложе логики.
Логические противоречия недопустимы в науке, но установить, что конкретная теория не содержит их, непросто. То, что в процессе развития и развертывания теории не встречено никаких противоречий, еще не означает, что их в самом деле нет. Научная теория – очень сложная система утверждений. Не всегда противоречие удается обнаружить относительно быстро путем последовательного выведения следствий из ее положений.
Вопрос о непротиворечивости становится яснее, когда теория допускает аксиоматическую формулировку, подобно геометрии Евклида или механике Ньютона. Для большинства аксиоматизированных теорий непротиворечивость доказывается без особого труда.
Есть, однако, теория, в случае которой десятилетия упорнейших усилий не дали ответа на вопрос, является она непротиворечивой или нет. Это математическая теория множеств, лежащая в основе всей математики.
Закон исключенного третьего
Закон исключенного третьего, как и закон противоречия, устанавливает связь между противоречащими друг другу высказываниями. И опять-таки идея, выражаемая им, представляется поначалу простой и очевидной: из двух противоречащих высказываний одно является истинным.
В использовавшейся уже полусимволической форме: А или не-А, т. е. истинно высказывание А или истинно его отрицание, высказывание не-А.
Конкретными приложениями этого закона являются, к примеру, высказывания: «Аристотель умер в 322 г. до н. э. или он не умер в этом году», «Личинки мух имеют голову или не имеют ее».
Истинность отрицания равнозначна ложности утверждения. В силу этого закон исключенного третьего можно передать и так: каждое высказывание является истинным или ложным.
Само название закона выражает его смысл: дело обстоит так, как описывается в рассматриваемом высказывании, иди так, как говорит его отрицание, и никакой третьей возможности нет.
Рассказывают историю про одного владельца собаки, который очень гордился воспитанием своего любимца. На его команду: «Эй! Приди или не приходи!» – собака всегда либо приходила, либо нет. Так что команда в любом случае оказывалась выполненной.
Человек говорит прозой или не говорит прозой, кто-то рыдает или не рыдает, собака выполняет команду или не выполняет и т. п. – других вариантов не существует. Мы можем не знать, противоречива некоторая конкретная теория или нет, но на основе закона исключенного третьего еще до начала исследования мы вправе заявить: она или непротиворечива, или противоречива.
Этот закон с иронией обыгрывается в художественной литературе. Причина понятна: сказать «Нечто или есть, или его нет», значит, ровным счетом ничего не сказать. И смешно, если кто-то этого не знает.
В комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» есть такой диалог:
Г-н Журден.…А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне хотелось бы, чтобы вы помогли написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам.
Учитель философии. Конечно, вы хотите написать ей стихи?
Г-н Журден. Нет, нет, только не стихи.
Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?
Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.
Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.
Г-н Журден. Почему?
Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе, как прозой или стихами.
Г-н Журден. Не иначе, как прозой или стихами?
Учитель философии. Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза.
В известной сказке Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» Белый Рыцарь намерен спеть Алисе «очень, очень красивую песню»:
– Когда я ее пою, все рыдают… или… – Или что? – спросила Алиса, не понимая, почему Рыцарь вдруг остановился. – Или… не рыдают…
В сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» народный лекарь Богомол заключает после осмотра Буратино:
– Одно из двух: или пациент жив, или он умер. Если он жив – он останется жив или не останется жив. Если он мертв – его можно оживить или нельзя оживить.
Закон исключенного третьего кажется самоочевидным, и трудно представить, что кто-то мог предложить отказаться от него. Немецкий математик Д. Гильберт утверждал даже, что «отнять у математиков закон исключенного третьего – это то же самое, что забрать у астрономов телескоп или запретить боксерам пользоваться кулаками». И тем не менее в современной логике имеются системы, в которых этот закон отбрасывается. В дальнейшем о них будет сказано несколько слов, как и о тех «логиках», в которых не принимается, казалось бы, столь же очевидный закон непротиворечия. Очевидное в одно время и в одних обстоятельствах способно потерять свою очевидность в другое время и в свете других обстоятельств.
Оба закона – и закон противоречия и закон исключенного третьего – были известны еще до Аристотеля. Он первым дал, однако, их ясные формулировки, подчеркнул важность этих законов для понимания мышления и бытия и вместе с тем выразил определенные сомнения в универсальной приложимости второго из них.
«…Невозможно, – писал Аристотель, – чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных затруднений) – это, конечно, самое достоверное из всех начал». Такова формулировка закона противоречия и одновременно предупреждение о необходимости сохранять одну и ту же точку зрения в высказывании и его отрицании «во избежание словесных затруднений». Здесь же Аристотель полемизирует с теми, кто сомневается в справедливости данного закона: «…не может кто бы то ни было считать одно и то же существующим и несуществующим, как это, по мнению некоторых, утверждает Гераклит».
О законе исключенного третьего: «…не может быть ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то одного необходимо что бы то ни было одно либо утверждать, либо отрицать».
От Аристотеля идет также живущая и в наши дни традиция давать закону противоречия, закону исключенного третьего, да и другим логическим законам, три разные интерпретации.
В одном случае закон противоречия истолковывается как принцип логики, говорящей о высказываниях и их истинности: из двух противоречащих друг другу высказываний только одно может быть истинным.
