Пение под аккомпанемент дождя
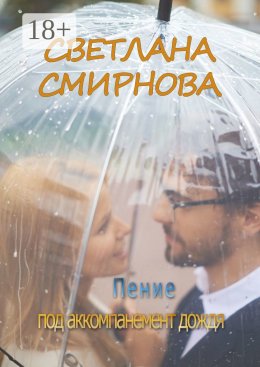
Редактор Юлия Руденко
Дизайнер обложки Юлия Руденко
Иллюстратор pressfoto by freepik
© Светлана Смирнова, 2025
© Юлия Руденко, дизайн обложки, 2025
© pressfoto by freepik, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0068-3774-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Суперлуние
…И я однажды тоже видела Суперлуние. Это произошло осенним вечером, тихим и безветренным. Мы возвращались домой с шумного литературного собрания. Начинало темнеть. Старенький трамвай привычно дребезжал и скрипел на поворотах.
И вдруг, когда мы выехали на Аксакова, в конце улицы над горизонтом я увидела огромную красную луну. Она висела так низко, что казалось – задевала крыши домов. Такой луны в природе не бывает, я знала. И промолчала.
А ты стоял, держась за спинку кресла, на котором я сидела, читал стихи:
- «Со мною вот что происходит:
- совсем не та ко мне приходит,
- мне руки на плечи кладёт
- и у другой меня крадёт…»
Ты не заметил эту луну. Бубнил и бубнил стихи.
Мне даже неловко стало. Я подумала: может быть, эти строки относятся ко мне?
Не помню, сказала ли я тебе про луну? Наверное, нет..
Ведь ты её не заметил…
И в ответ я прочитала известное цветаевское:
- «Мне нравится, что Вы больны не мной,
- Мне нравится, что я больна не Вами…»
И действительно – это было так. Мы были давно знакомы, дружны. Но не переходили ту грань, за которой начинается любовь. Самым ценным в наших отношениях были простота и естественность. Когда он изредка заглядывал к нам в дом, я не стеснялась неприбранной квартиры, небрежной причёски. Я знала, что он не осудит, поймёт, как надо. И даже не обратит на это внимания. Он был свой.
И потому я дорожила этой дружбой. Второго такого человека в моей жизни не было. С ним было легко и просто.
Но однажды через несколько лет он сам всё разрушил.
Неожиданно вечером в конце лета позвонил и стал кричать в трубку хриплым срывающимся голосом:
«Я люблю тебя… Я люблю тебя… Я люблю тебя…»
Я растерялась… Я не нашла нужных слов. Мне было нечего сказать. Я подумала, что он пьян.
А Суперлуние в тот вечер было настоящим. На следующий день во всех газетах были опубликованы снимки. Жаль, что он его не заметил. Такие астрономические явления случаются редко.
Квадратный двор военкомата
Мы с Люськой сидели во дворе на брёвнах и смотрели на твои окна. В них горел яркий свет – тебя провожали в армию.
Нам было немного грустно – три года мы не сможем тебя видеть. За эти годы мы окончим школу и станем совсем взрослыми.
Уже стемнело. Но сентябрь в том году был тёплым…
Вдруг хлопнула дверь твоего подъезда, и вышел ты.
Подошёл к нам, стал угощать конфетами и рулетом с маком, покрытым тёмной шоколадной глазурью…
Принимать угощение из твоих рук было таким необъяснимым счастьем! Я не найду слов, чтобы описать чувства, которые я испытывала в тот момент. Не всё можно описать словами.
Может быть, это сближение душ, обмен энергией, теплота какая-то? Я не знаю…
Я тогда ни о чём таком не думала. Мне просто было сладко, я была счастлива.
Иногда мы бываем счастливы от пустяка. И пусть это счастье длится несколько секунд или минуту, но мы потом долго вспоминаем этот момент и живём им.
Ты был добрый! Постоял около нас, немного поговорил, а потом ушёл к своим взрослым гостям, они тебя ждали.
Накануне твоего отъезда лил дождь, а ты стоял у Люськиных раскрытых окон, вы были соседями по двору. Мы прощались с тобой, дарили на память всякие безделушки, а ты обещал нам писать письма.
Отправляли вас где-то в начале октября. Я проснулась глубокой ночью. Меня разбудил сон, потрясший до глубины души. Я не поняла, что за чувства я испытала, но они всю меня перевернули.
Мне приснился квадратный двор военкомата на Октябрьской. К стене дома был прислонён гроб.
Я не могла себя сдержать, я так рыдала, что разбудила всю семью. Мать долго меня успокаивала.
Что означал этот сон? Я так и не поняла.
Такие сны людям снятся редко. Наверное ты думал обо мне. Сильные чувства передаются через сны.
Прошло много лет. В конце наших отношений давно поставлена жирная точка.
Но когда начинают плакать осенние дожди, опавшие листья летят по тротуарам, вспоминается первая любовь…
Поэма конца
«Любовь – это все дары
В костёр – и всегда задаром!»
Такси петляло по городским улицам, и она знала, что скоро будет дома. Но ей хотелось отдалить этот момент. Она всё ещё не пришла в себя после того, как сухо попрощавшись с Вадимом, вышла на крыльцо под мелкий моросящий дождь – неожиданный – ведь с утра ничто его не предвещало.
Таня торопливо натянула на голову капюшон и застегнула ветровку на молнию. Но это её не спасло, дул осенний неприветливый ветер.
В голове мысли и чувства скакали как зайцы, никак не могли успокоиться. И потому ей хотелось продлить время поездки.
Что она сделала не так? Или наоборот – поступила правильно?
Он сказал: «Помнишь тот старый парк, столетние дубы, жёлуди на траве, июль?.. Помнишь нашу первую встречу?»
Таня конечно помнила, но возвращаться в прошлое ей не хотелось, так как она помнила и другое – их последнюю встречу, их расставание.
Зимним вечером она ждала его у кинотеатра «Салават» – он опаздывал.
Соскочил с подножки подошедшего автобуса – весь растрёпанный – извинился:
– Пришлось внеклассный час проводить. В школе произошло ЧП.
Таня видела, что он какой-то другой, не в себе, и ничего не могла понять. Пришли на память стихи Цветаевой из «Поэмы конца»:
- «Мысленно: милый, милый.
- – Час? Седьмой.
- В кинематограф, или? —
- Взрыв: «домой!»
Этого она ждала уже давно. Но он конечно сказал по-другому, просто и буднично: «Знаешь, нам наверное не стоит больше встречаться…»
Она ничего не ответила. Повернулась и ушла по зимней утоптанной улице. А в душе всё рвалось и бунтовало.
Вспоминалась их последняя встреча. Шли предновогодние дни, люди несли пушистые пахучие ёлки. В магазинах была давка. Она зашла в один из них, посоветовавшись с продавцом, купила бутылку дорогого вина. Уже темнело. Мягко светились окна в соседних домах. Начиналась пурга, сыпал снег, завывал ветер.
Он пришёл, когда совсем стемнело, в больших неуклюжих валенках. Прямо в прихожей обнял её и стал мягко целовать в губы, забыв про белые хризантемы, которые принёс.
Таня поставила слегка помявшиеся цветы в вазу. Свет они так и не стали включать. В темноте пили вино из бокалов и целовались…
С тех пор прошло много лет. И вот сегодня случилась эта неожиданная встреча.
Она не могла забыть как он, глядя ей в глаза, просительно, беспомощно, как-то по-детски всё повторял:
– Пойдём в кафе, посидим…
А она отказала… Зачем?
Шляпка из секонд-хенда
Роман Романович сидел напротив и допивал, не торопясь, седьмую чашку чая. Наконец, он её допил и поставил на блюдце.
– А знаете, я месяц встречался с девушкой. Мы недавно расстались.
Она даже со мной в Йошкар-Олу ездила на рок-фестиваль! И я ей подарил шляпу! Да, да, я подарил ей шляпу! Из секонд-хенда… Мы зашли в магазин, ей понравилась эта шляпка. Ну, я её и купил… Что такого?
Ольга молчала. Ну, что тут скажешь? Девушка поняла, что кроме шляпы из секонд-хенда он ей больше ничего не сможет подарить и ушла. Знаем мы этих современных девушек!
– А ещё я три года встречался с Марией. Она была на семь лет меня моложе! Когда расстались, она мне писала длиннющие письма…
«А к чему он всё это мне рассказывает?» – не поняла Ольга.
Она посмотрела на часы: было поздно – половина одиннадцатого! Трамваи уже не ходят.
– Ну, вызывай такси, – сказала она Роману Романовичу.
Роман Романыч засуетился:
– Да, поздно! Трамваи не ходят!.. – и начал шарить по своим карманам, искать телефон. Набрал номер таксопарка и уже через пятнадцать минут мчался по ночному нарядному городу мимо ярких огней в сторону своего дома.
Путешествие в никуда
Она приехала в этот небольшой незнакомый городок, потому что ей хотелось побыть одной. О многом надо было подумать.
Город она выбрала по карте, случайно. Закрыла глаза, как в детстве, и ткнула карандашом в свободное пространство.
Когда поезд затормозил на платформе, увидела низкие крыши, мостовую, выложенную крупным булыжником, кружево листьев…
И словно попала в прошлый век. Время здесь стояло неподвижно, как зной, застрявший в сердцевине горячего летнего дня. Река за городом манила и блестела как зелёное стёклышко. Улицы были горбаты, пустынны. Только у продуктового магазина сновал народ.
В первую минуту она ощутила блаженство от того, что её здесь никто не знает, словно оборвались все туго натянутые ниточки, за которые её дёргали. А потом стало жутковато.
И ещё у неё неожиданно появилось странное чувство безграничной свободы и безнаказанности… Она словно выпала из времени. Она была одна во Вселенной. И случись с ней что, никто бы из близких не узнал.
У здания вокзала она приметила одинокое такси.
Села в машину и попросила довезти её до ближайшей гостиницы.
Шофёр, мужчина лет тридцати пяти, рассмеялся: «А у нас всего одна гостиница! Здесь, рядом, за углом. Можете пешком дойти».
И Катя решила прогуляться… Гостиницей оказалось неказистое двухэтажное здание из белого кирпича с массивной вывеской, устрашающе нависающей над главным входом. Называлась она стандартно и провинциально «Волжские зори».
В голове мелькнула мысль: «Почему всегда „зори“, а не „закаты“? Наверное, потому что зори – это начало, а закаты – всё-таки конец… Конец всегда грустен».
В небольшом уютном фойе сидела немолодая женщина с усталыми глазами. Она, не дожидаясь вопроса и даже не поздоровавшись, сказала:
– Номеров свободных нет! К нам тут художники понаехали Волгу рисовать и все номера заняли.
Это было неожиданно! Катя растерялась:
– А как же быть?
– Ну, не знаю… – протянула равнодушно женщина. – Другой гостиницы в нашем городе нет. Впрочем, если хотите, можете у меня пару дней пожить в комнате дочери. Она в Москву уехала!
– Да, хочу, хочу!!! – уцепилась за это предложение Катя.
Вот так срываются иногда задуманные планы. Ей хотелось одиночества. Но одиночество – роскошь. Желания не всегда совпадают с возможностями. Ещё она мечтала побыть наедине с Волгой, почувствовать и впитать в себя её мощь, её энергию.
Людмила Викторовна, так звали женщину на ресепшене, сказала:
– Вы погуляйте по городу, осмотритесь. А часа через полтора приходите. У меня в пять заканчивается рабочий день.
Катя вышла на крыльцо в пыль и зной. Стоял август.
Не смотря на жару, в воздухе уже витали нотки грусти. Приближалась осень.
Она решила спуститься к реке – давно не видела Волгу.
Берег был усыпан мелкими белыми камушками, вода сияла и искрилась на солнце. От бескрайнего водного простора захватывало дух. Вот она – воля и свобода!
Река синела до горизонта…
На берегу играли мальчишки в свои, им одним ведомые, игры. Что-то кричали, купались… Своим поведением они напоминали чаек, которые также беспорядочно хлопают крыльями, садятся, взлетают, собираются в стаи…
Были и купальщики. Они загорали, подстелив под себя яркие махровые полотенца.
Катя отошла в сторонку, туда, где было потише, и присела у кромки воды. Волны набегали и мягко шлёпались о берег. Она любила слушать реку, её мелодичное журчание.
В последнее время она чувствовала, что изменила себе. Вспоминала себя семнадцатилетней девочкой. Где та девочка теперь? Разве об этом она мечтала? И она скучала по себе самой, той, семнадцатилетней.
Сделаешь в юности один неверный шаг – и вся жизнь летит под откос.
Нет, не сразу. Вначале всё идёт гладко, и ты даже можешь быть счастлива. А позже всё заостряется, и ты вдруг понимаешь – не того человека выбрала.
Когда выбираешь мужа, выбираешь свою судьбу.
Кате не объяснили этого в детстве. Впрочем, почти все браки заключаются по молодости и по глупости.
Но, если люди мешают друг другу, значит – не любят. Отсюда и раздражение идёт.
Они столкнулись нос к носу на кухне в очередное утро очередного понедельника.
Катя ещё не успела сварить овсянку на завтрак, как заявился Ярик и стал ворчать:
– Что, мне теперь на работу голодным идти?
– На плите четыре конфорки! – буркнула она в ответ.
Ей надоели его вечные капризы.
Они жили в одной квартире, но в разных комнатах уже года три. После операции он перебрался спать на диван в соседнюю комнату и больше не возвращался. Так и жили, как соседи, но вели общее хозяйство.
Обед и ужин Катя готовила на всех, праздники отмечали вместе, по-семейному.
Развестись не решались из-за сына Дениса, худенького серьёзного мальчика, студента первого курса университета. В школе он был победителем всех олимпиад и конкурсов по физике – к науке относился серьёзно и с увлечением. Им не хотелось ломать его жизнь. Слишком он был впечатлительным.
Да, и Ярик вёл себя так, словно Катя всё ещё оставалась его женой. Ревновал безумно, она сразу замечала в его глазах этот бешеный огонь. Но он не всегда проявлял свою ревность. Это удивляло.
«Как собака на сене!» – думала про себя Катя.
Но до поры до времени её это устраивало.
А потом неожиданно в её жизни появился Александр.
И она не знала как быть.
За спиной послышались шаги, громкие голоса. Катя обернулась – это были художники. Они устанавливали этюдники, раскладывали краски и о чём-то спорили.
Катя поднялась и поспешила в город. Однако часы показывали ещё только половину пятого, и она решила зайти в кафе, которое попалось ей по дороге. Села на открытой веранде, с которой хорошо была видна река, и заказала кофе. Ничего на свете не было приятней запаха жареных кофейных зёрен! Один этот запах уже бодрил её.
Вокруг сновали люди, разговаривали друг с другом, ссорились, мирились, что-то обсуждали… А она была совсем одна! И ей опять стало не по себе.
Она вдруг поняла, что такое настоящее одиночество, и содрогнулась. Это не то игрушечное одиночество, когда ты отключаешь телефон, не выходишь в интернет, прячешься в своём уютном мирке, чтобы послушать любимую музыку или почитать книгу…
Нет! Это совсем другое. Это всё равно, что лежать в гробу. Это когда ты стоишь одна посреди толпы, но ты для всех пустое место…
Неожиданно зажужжал смартфон, пришла эсэмэска от Ярослава. Он писал: «Ты где? Денису пришла повестка!»
И Катя ужаснулась! Она не могла представить, как её худенький, неприспособленный к этому миру Деник будет держать ружьё, убивать людей. Он ещё совсем ребёнок!
И она, не допив кофе, побежала на вокзал, купила обратный билет.
Когда за окном поезда замелькали знакомые пейзажи, ей почему-то вспомнилось поле за городом, по которому они втроём в жаркий июльский полдень возвращались из деревни. А где-то в верхушках старых тяжёлых сосен слышался невесомый звонкий голосок кукушки. Они всё пытались сосчитать, сколько раз она прокукует. Но у них не получалось. Кукушка обрывала свою песню на полуслове, потом снова заводила её, очевидно перелетая с ветки на ветку. И они смеялись.
Счастливое было время…
Чайный сервиз
Всё началось с того, что Наталья случайно обнаружила, что пропали две чайные пары из винтажного фарфорового сервиза, который им достался когда-то давно от свекрови. Свекрови же этот сервиз в 60-е годы прошлого века подарила неизвестная им балерина Эльза, с которой она дружила.
Свекровь почему-то никогда не называла её полного имени. А может быть и называла, да оно забылось.
Сервиз был красивый! Чашки с волнистыми боками из тонкого матового фарфора, украшенные жёлтыми кленовыми листиками. Они дома так и называли этот сервиз – «сервиз с кленовыми листиками».
В быту они им не пользовались, ставили на стол только тогда, когда к ним приходили гости. А гости приходили редко. Теперь осталось четыре чашки и четыре блюдца.
Что делать? Купить новый? Но это уже будет не то, не семейная реликвия.
А ставить на стол разнокалиберные чашки – дурной тон.
Она всех гостей этого года помнила и могла пересчитать по пальцам. Но приходили близкие люди, и ей было больно, и не хотелось думать, что кто-то из них способен на такой поступок. Она им доверяла.
В прошлом году, когда приезжал двоюродный брат с племянниками из Сибири, сервиз был цел. Она его ставила на стол, а брат делал фотки застолья, которые она позже частично выставила в соцсети. И получила один неожиданный комментарий как раз по поводу чашек: «Что это вы из каких-то кружек пьёте?!» Её поначалу задел этот несправедливый комментарий, и только сейчас она поняла, что это возможно была зависть. Ведь нельзя же было изящные фарфоровые чашки Дулёвского завода назвать кружками!
Имя комментатора она не запомнила, но скорее всего это была чья-то фейковая страница.
Одно время Наталья интересовалась краеведением, и среди краеведов у неё было много знакомых, которые, как оказалось позже, не совсем бескорыстно занимались им. Главное в их жизни было коллекционирование.
И даже не коллекционирование, а хорошо спланированный оборот винтажных и антикварных вещей. Схема была чётко отработана.
У подъезда многоквартирного дома вывешивалось объявление о том, что такого-то числа в такое-то время будет производиться приём старых ненужных вещей для музея: часов, фарфора и т. д.
Люди несли ненужные надоевшие им старые вещи, оставшиеся от бабушек, от родителей. Им казалось, что это хлам. Кому нужно старьё?
Они не знали настоящей их цены. Дарили от чистого сердца! Для музея не жалко.
Приём вещей проводили обычно студенты. А поодаль стояла парочка, на которую никто в запале не обращал внимания, и наблюдала за происходящим.
Когда приём заканчивался, грузили тяжёлые коробки с вещами в стоящую неподалёку машину и увозили. А затем эти вещи всплывали на блошином рынке, в антикварном магазине или оказывались дома у коллекционеров. А те, в свою очередь, уж знали, что с ними делать!
Но простые люди в таких местах никогда не бывали. Народ был наивен…
В этом году, не считая газовика, сантехников, электрика и соседей, к ним в дом приходило шесть человек в гости и по разным делам. Наталье разумеется приходилось часто отлучаться из комнаты и оставлять их одних. А сервиз стоял в старом cоветском серванте в той комнате, в которой она обычно принимала гостей.
Четыре чашки, вложенные одна в другую, образовывая круг, лежали на блюдцах. А остальные две стояли рядом. И вот эти-то две чашки с блюдцами пропали.
Этот сервиз в их семье прожил несколько десятилетий, и они с ним сроднились. А покупать другой винтажный, которым пользовались чужие неизвестные ей люди, не хотелось. Она была брезглива и суеверна. Не хотелось нести в дом чужую энергетику.
Если перебрать тех людей, которые бывали в этом году у них в доме, то можно было сразу отбросить рабочих: газовика, сантехников и электрика. Они работали на кухне и в других комнатах. Да и не нужно им было это!
Соседки обычно дальше прихожей не проходили, забегали на минутку что-нибудь спросить.
Оставалось шесть человек. Двоих из них тоже можно было исключить – заходили ненадолго.
В итоге осталось четверо: Валерия Геннадиевна, школьный преподаватель, заходила поговорить о книгах и посмотреть её старые семейные фотоальбомы.
Когда пили чай и разговаривали, Валерии Геннадиевне шли бесконечные эсэмэски. Она самодовольно, с ироничной улыбкой, едва глянув на них краем глаза, сбрасывала, не отвечая.
Наталья поняла, что это звонит шофёр Виталик, торопит её.
А вот Виталик… коллекционировал старые вещи и был связан с местными краеведами.
Они пили неторопливо чай, разговаривали. Валерия Геннадиевна интересовалась многими вещами, задавала разные вопросы. И вдруг Наталья заметила, что на её телефоне включён диктофон, и прервала беседу.
Ещё заходил Эдик, местный поэт. Он принёс торт, и Наталья пошла на кухню ставить чайник. Потом они до вечера говорили о поэзии, Эдик читал свои новые стихи.
Ну, и перед самым Новым годом снова приезжал двоюродный брат из Новосибирска. Его привёз родной брат Натальи – Сергей.
Сергей сидел во главе стола, как раз рядом с сервантом. А двоюродный брат, Анатолий, – на диване. Наталья накрывала на стол, и ей приходилось без конца бегать на кухню то за одним, то за другим. Когда вернулась в очередной раз, увидела, что все семь семейных фотоальбомов, которые лежали на соседнем столе рядом с компьютером, раздёрганы и из них торчат в разные стороны фотокарточки – не успели убрать! Ей стало неприятно. Почему они разрешения не попросили? Могли бы вместе посмотреть… по-родственному, повспоминать…
И закралось в душу нехорошее подозрение: возможно они что-то тайком взяли себе… Но она смолчала.
В это время в дверь позвонили – пришёл с работы муж и тоже сел за стол.
И вот на кого из них она должна думать? Ей никого из этих людей не хотелось подозревать. Да и вряд ли это сделали они.
Этим летом произошёл ещё один загадочный случай. Рассыпались её любимые бусы из розового кварца – порвалась нитка. Наталья просила мужа собрать их на леску, леска покрепче будет. Но у него как всегда не доходили до этого дела руки. Рассыпанные бусы так и лежали на столе.
И вдруг она увидела, что бусы собраны на леску!
Наталья обрадовалась и сказала мужу: «Спасибо! Это ты бусы собрал?» Но он удивился и раздражённо ответил, что ничего не делал. Теперь, в свою очередь, удивилась Наталья: «А кто тогда?»
Так и решили, что это сделал домовой…
Много загадок и тайн на свете…
21 век – март…
Шёл март: пасмурный, промозглый, неуютный.
По ночам было слышно, как в глубине непроглядной тьмы лило с балконов и с крыш, падал с глухим стуком ошмётками подтаявший снег. И ничто не предвещало света впереди.
Под окнами лежала разбухшая скользкая дорога, на которой каждый день бились машины. Дорога не была рассчитана на двухстороннее движение. Она вообще не была рассчитана ни на какое автомобильное движение. Это был бульвар, засаженный вдоль домов рябинами.
А напротив дома по плану должны были разбить сквер, но вместо сквера построили двухэтажный кирпичный гараж.
Оля проснулась глубокой ночью, лежала и смотрела в потолок. Она не знала, сколько сейчас времени, в комнате было темно, как в проруби. Даже лёгкой полоски лунного света не наблюдалось на той стене, на которой висели часы. А сотовый она выключила и снова включать телефон ей было лень.
Так и лежала в какой-то прострации, думая о своём…
Она вдруг поняла смысл народной поговорки: «Сердцу не прикажешь…»
Да, сердцу приказать нельзя, оно живёт своей жизнью.
Оно продолжает любить, хотя любить бы не надо: и человек неподходящий, и уже давно это чувство изжило себя. Но сердце этого не понимало…
Если бы не было интернета, они давно бы разошлись и забыли друг про друга. Как говорится: «С глаз долой – из сердца вон!»
Но в двадцать первом веке в их жизнь вошёл интернет – ещё одна реальность существования и общения людей. И сделать это стало сложно.
Как забыть его, если он каждый день шлёт ей видеоролики в Ватсап? Она видит его, слышит его голос…
Как-то незаметно проскользнула первая четверть нового двадцать первого века – жизнь круто изменилась.
Кругом видеокамеры, дверь в подъезде теперь можно открыть с телефона, без которого никто уже не мыслит существования, настолько слились с ним. Вся жизнь в телефоне: и контакты, и календарь, и… весь мир! Телефон – это маленький компьютер, сжимающий мировое пространство до площади твоей ладони.
Телефон – это твоя правая рука, без которой не обойдёшься.
А есть ли место любви в этом веке? По радио сказали, что скоро появятся роботы, которых можно будет использовать в быту: они смогут гулять с собакой, ухаживать за престарелыми родственниками…
Всё в мире будет устроено функционально. Станет не нужным и бесполезным искусство: живопись, поэзия, литература… В планах у мирового правительства не запланировано развитие души человека. Они и людей мечтают превратить в роботов, которые будут им прислуживать. И тогда начнётся вымирание человечества…
На этом месте Оля нечаянно уснула. Ей снился прекрасный луг с полевыми цветами. Дул лёгкий ветерок, цветы покачивались на тонких ножках. Светило жаркое летнее солнце… Ей хотелось нарвать букет полевых ромашек, но было жаль лишать цветы жизни. Ведь они быстро завянут…
Глухой телефон
На окраине села, у почты, как сейчас помню, стоял обшарпанный телефон-автомат. Из которого можно было позвонить в город, домой, если у тебя была мелочь.
Этот телефон часто был неисправен, работал на одном честном слове. Но всё равно, когда я начинала сильно скучать по дому, то тоска гнала меня через бесконечное поле, мимо ромашек и колокольчиков, к этому телефону.
Набирая номер, я слышала в трубке зловещее шипение, щёлканье… словно по проводам шла передача тоски маленькой девочки по маме – туда, далеко, домой, в город… И я надеялась, что меня услышат, или почувствуют, как мне одиноко и плохо.
Но в моём доме телефона тогда не было, значит не было и номера, по которому я могла бы дозвониться. В то время мало у кого в квартирах стояли телефоны. Но я не знала об этом и с упорством набирала какие-то цифры и крутила диск… А почтальонка, глядя на меня в окно, улыбалась: «…Ох, уж, эти дети! Живут в санатории, что им ещё надо?»
Село Большеустьикинское… Само село я собственно и не помню. Мне было десять лет, когда родители меня отправили в ревматический санаторий для детей, который был расположен не то в самом селе, не то рядом с селом. Скорее всего, рядом. Потому что санаторий стоял в сосновом бору. Я до сих пор помню его сладкий воздух.
В селе я запомнила книжный магазинчик, одноэтажный, кирпичный, побелённый известью. И молочную ферму. На ферме нас поили парным молоком. Но я его пить не смогла. Сделала два глотка и отказалась. А другие дети пили.
Но главное, что мне запомнилось, – это дорога в санаторий, в село с длинным и непонятным названием – Большеустьикинское.
На вокзале в Уфе нас провожали родители. Помню, как мать суетилась, нервничала, беспокоилась за меня. Наложила полный чемодан копчёной колбасы и другой еды, которую я не запомнила.
Эту колбасу мы ели потом всем отрядом целый месяц. Но одной девочке, слишком хорошенькой, я из зависти не давала, хотя она очень просила. Вот такая была вредина! Но это был единичный случай в моей жизни, потому я его и запомнила. Больше я никогда никому не завидовала.
Поезд отошёл от станции под вечер. Я проснулась ночью от грохота его металлических колёс. Выглянула в окно и увидела совсем близко, прямо за окном, на расстоянии вытянутой руки, высокую скалистую гору красноватого цвета со светлыми прожилками. Гора была как стена, я не видела, где она кончается, не видела неба – она всё закрывала собой. Поезд шёл словно сквозь туннель. Это видение меня захватило. Я никогда не видела таких больших отвесных гор.
Разбудили нас на ранней зорьке: едва-едва рассвело… Краешек бледного заспанного солнца нехотя выглядывал из-за облака.
На пустой станции было очень тихо. Только где-то в кустах изредка лениво чирикали птички. Они тоже только-только начинали просыпаться… Кругом простиралась степь.
Я впервые присутствовала при рождении дня.
Мы стояли, не выспавшиеся, в мятой одежде, сбившись в стайку, как цыплята. Было зябко. Поезд тоже стоял. Пахло мазутом. По железнодорожным путям бродили рабочие, они, переговариваясь, осматривали, простукивали рельсы и колёса поезда…
В стороне стояли два автобуса, которые должны были доставить нас в санаторий.
По дороге нам встретилась речка, неширокая, с тёмной коричневой водой. Называлась она Ик.
А неподалёку протекала ещё одна река, которую называли Ай. Речки – близнецы. Эти названия, состоящие из одного слога, мне показались интересными.
И я поняла, почему село носит такое длинное название, которое так трудно произносится – оно было расположено в устье реки Ик и потому называлось Большеустьикинское…
Со мной в одной группе ехали две девочки с нашей улицы, двоюродные сёстры Оля и Наташа. Я думала, что мы будем дружить. Но они всегда держались вдвоём, а меня задирали.
Я аккуратно и часто писала письма домой…
…А на окраине села, у почты, у боковой её стены, стоял обшарпанный телефон-автомат какого-то непонятного, вроде бы серого, цвета, с облупившейся краской. Сколько помню, это место всегда продувалось ветром… Ветер ерошил и путал волосы, задирал юбку, хлестал по щекам…
Этот телефон часто был неисправен… Связь с городом была ненадёжна…
Но всё равно, когда я начинала сильно скучать по дому, то тоска гнала меня через бесконечное поле, мимо ромашек и колокольчиков, к этому телефону…
От ледохода до ледохода…
Дом
Никогда не думала, что переживу свой дом. Мне казалось, что дома вечны.
Но вот он стоит с забитыми окнами: то ли коричневым картоном, то ли фанерой. Из окна такси толком не разглядела. Но сердце кольнуло! Стоит как слепой. Подготовлен к сносу. И мне больно на него смотреть. Скоро от него останется груда щебня.
А в этих стенах прошли мои детство и юность – волшебное время! Там я училась ходить, произнесла первое слово, выучила буквы и читала свои первые книжки. Смотрела в окна на звёзды… В этот дом приходил мой будущий муж. Когда я после завтрака выходила в палисадник, он уже сидел там, на скамеечке, – ждал меня. В этот дом мы принесли свою дочку из роддома, и первые месяцы её жизни тоже прошли в этих стенах.
Я думала – город вечен! Густые кроны старых лип, что шумели в Софьюшкиной аллейке за воротами нашего двора; зелёная тенистая улица Цурюпы, по которой мы ходили в школу, на которой жили многие ребята из нашей школы; кабельный завод, труба которого жутковато гудела на всю округу во время учебных военных тревог в пятидесятые годы в моём дошкольном детстве; наши любимые парки: Матросова, Луначарского…
Но ничего не осталось. Всё смело время.
Ещё в раннем детстве, когда мы с бабушкой ходили за керосином в лавку, расположенную у холма, на котором стояла полуразрушенная Троицкая церковь, я, собирая ромашки и васильки, любила смотреть на эту церковь, и уже тогда поняла, что всё в мире хрупко, ненадёжно – всё может разбиться как фарфоровая чайная чашка в одну секунду, стоит только неосторожно двинуть рукой.
В памяти хранятся уютные улочки прежнего старого города, сирень во дворах, яблони… Город в те годы был небольшим. Главным событием весны был ледоход. Он всех волновал. Его ждали. А когда по Белой шёл лёд, все шли на мост – смотреть как кружатся и плывут огромные льдины, как очищается к лету река. Город жил от ледохода до ледохода…
А после начинались весна и лето.
***
Весной мы задыхались от густого запаха сирени, летом от запаха цветущей липы. Жизнь торжествовала! Деревья цвели буйно и неистово. Вдоль ограды аллейки росла жёлтая акация. Её жёлтые нежные цветочки проглядывали сквозь листики. Они были сладкие на вкус. И мы их жевали… А когда вызревали стручки, делали из них свистульки. Дети тесно связаны с природой.
Мы целые дни проводили во дворе, каждый день был светел и бесконечен. Мы никогда не скучали.
Рядом с нашим двором, за невысоким деревянным забором, стояла мечеть с узким высоким минаретом. По вечерам над всей окрестностью плыл голос муэдзина, он на арабском языке пел аяты из Корана.
Арабский язык нам был не знаком, но мелодия этих молитв проникала в сердце. И мы – русские, татары, башкиры, чуваши, евреи – затаив дыхание, слушали это пение. Мы не придавали никакого значения национальностям, мы были единым народом, родом человеческим.
Но время движется, оно не может стоять на месте. И всё меняет.
Многие улицы уже не узнать. Старые уютные домики, построенные ещё в девятнадцатом веке, снесли. На их месте стоят башни из стекла и бетона. Они холодные и чужие. В них ещё надо вдохнуть жизнь.
Исчез парк имени Александра Матросова, в котором мы зимой катались на лыжах, а летом бегали по его тенистым аллеям с вековыми деревьями, с пёстрыми клумбами, и, спасаясь от жары, пили воду из краников водопроводных труб, которые были протянуты вдоль летних павильонов с Читальней, с залом, в котором собирались шахматисты.
Нет уже деревянного красавца летнего кинотеатра «Идель», в котором мы смотрели популярный в то время индийский фильм с Раджем Капуром «Господин 420», и все мальчишки нашего двора распевали песни из этого фильма: «…В русской шапке большой, но с индийскою душой…»
Изменился парк имени Луначарского, который все называли «Лунный». Изменили форму озера, спилили толстые старые ивы, которые росли по его берегам. Снесли старый Летний театр. Да и площадь парка урезали наполовину.
Этот парк был связан со школой. В этом парке проводились школьные линейки. Возвращаясь домой после уроков, мы часто шли через этот парк, любуясь осенней раскраской кленовых листьев, шуршащих под ногами… У него было три входа: главный с улицы Пушкина, и ещё два – с Ново-Мостовой и с улицы Фрунзе, мимо корпуса Кабельного завода.
Я не могу забыть старые тополя по улице Матросова, всё мне помнится как светло они зеленели в мае! Вся улица тонула в нежной зелёной дымке.
Посмотреть на первые зелёные листики я шла туда. У тополя они особенно светлые, блестящие, клейкие, мне нравился их горьковатый запах.
Мы часто там гуляли с одноклассницами, делились секретами, мечтали…
Город – это тоже наш дом. Но главный повелитель – время. Ничто не может стоять на одном месте, всё постоянно течёт и меняется…
И сейчас, когда я еду по Салаватке с его хитрыми развязками и переплетениями дорог, я вспоминаю тихую задумчивую улицу Воровского, которая когда-то стояла на этом месте, неспешную жизнь горожан. И деревья… Теперь я знаю, о чём они грустили. Они грустили о времени, которое всё изменит.
Мороженое из детства
В 50-60-е годы мы жили спокойно. Жили с уверенностью в завтрашнем дне, с радостью в сердце, что закончилась война – наши отцы воевали. Люди были доброжелательны, отзывчивы.
Но время было всё же послевоенное. Часто проводились военно-воздушные тревоги. Жутко завывала труба на кабельном заводе, родители загоняли нас с улицы домой и завешивали окна плотным байковым одеялом. Электрический свет выключали. В городе воцарялась такая тишина, что даже был слышен стук поезда, идущего по железнодорожному мосту через Белую.
Зазевавшихся прохожих, не успевших дойти до своего дома, санитары укладывали на носилки, бинтовали и куда-то уносили. Таковы были условия учений. В мире было ещё неспокойно.
А мои мать и бабушка при каждом обострении мировой обстановки запасались мылом и спичками. Я помню как большие куски коричневого хозяйственного мыла сушились на нашей печке.
Когда привозили в магазин муку, выстраивалась огромная очередь. Давали по 3 кг на человека. Мы были прикреплены к небольшому кирпичному магазинчику, который стоял рядом со школой №14. Мать занимала очередь, а когда её очередь приближалась, бежала домой за нами. Нас укутывали, обвязывали шалями, садили на санки и везли к магазину. Таким образом можно было получить муки побольше: на себя и троих детей. А наша семья состояла из шести человек.
Через несколько лет этот небольшой магазинчик закрыли, и мы стали ходить в магазин на углу улиц Ново-Мостовой и Фрунзе, ныне Заки Валиди. На правой, чётной стороне улицы, в подвале одноэтажного деревянного дома был Хлебный магазин. Каких только булочек там не было! Были сдобные «Калорийные» с орехами и изюмом, обсыпанные сахарной пудрой по 9 копеек, были большие плетёнки, простые и сдобные, тоже с орехами и изюмом, с сахарной пудрой по 22 копейки. Мать такой плетёный батон почему-то называла «хала». Были городские булки с хрустящим швом сверху посередине, были маленькие плетёные булочки и круглый белый хлеб по 26 копеек, который мы обычно покупали.
Когда отправляли кого-нибудь из нас, детей, за хлебом, то давали большую хозяйственную сумку, и мы покупали два пшеничных серых кирпичика по 16 копеек и один белый круглый хлеб по 26 копеек. Семья у нас была большая.
А на противоположной стороне улицы, на самом углу, стоял продуктовый магазин, в котором можно было купить сахар, масло, колбасу… При этом магазине имелся подвал. Вначале в этом подвале располагался овощной магазин, в котором мы покупали самое дешёвое лакомство – финики по 70 копеек за килограмм. А позже – молочный магазин.
И здесь же, неподалёку, на Ново-Мостовой, стояла цистерна с разливным молоком.
Покупать хлеб и молоко было обязанностью детей.
Но по улице Фрунзе шёл грузовой поток машин, машины спускались на ул. Воровского и, сворачивая на мост через реку Белую, выезжали из города.
Светофоров не было. Бывали случаи, когда дети попадали под машину.
В те годы в магазинах города продавались натуральные продукты. Искусственных продуктов не было – ещё не додумались до этого. Да и необходимости, судя по всему, в этом не было.
Помню вкус и аромат сливочного масла на свежей плетёной булочке за пять копеек!
Кондитерские изделия в те годы привозили из Москвы, наша уфимская кондитерская фабрика «Конди» ещё не была построена. Московские печенье, конфеты, шоколад были очень вкусными, но дорогими.
Отец с зарплаты обычно покупал нам, троим детям, одну большую шоколадку на всех. И это был праздник! Помню бирюзовую обёртку и золотую белочку, изображённую на ней, с орехом в лапках, шуршащую серебряную фольгу и тонкий дразнящий аромат шоколада…
Позже, когда построили местную кондитерскую фабрику, она не смогла производить продукцию такого же качества, как московская. И мы ездили в Москву за любимым печеньем и шоколадом.
Когда я жила в двадцатом веке, мне хотелось жить в девятнадцатом. Мне казалось, что там была тихая размеренная жизнь, без суеты. Экология лучше, продукты чище, без нитратов. А сейчас, в двадцать первом, хочется назад, в двадцатый.
Да, надо было читать научную фантастику! А я её почему-то избегала. Проглотила в девять лет за один день всего Беляева, читала Герберта Уэллса, и ещё одного популярного фантаста из Японии, имя, к сожалению, забыла. И всё!
Кто бы знал, что двадцать первый век пойдёт по этому пути?
Появились компьютеры, интернет, сотовые телефоны, роботы, искусственный интеллект, и они изменили ритм жизни, образ мышления.
В двадцатом веке обычный городской телефон был большой редкостью, стоял не в каждой квартире. И поэтому люди чаще общались. Но сколько же они времени тратили на то, чтобы куда-то съездить, что-то выяснить?
Наше детство проходило на улице и в библиотеках. Мы много читали. Книга нам открывала мир. И ещё мы любили кино!
В каждой семье были фильмоскопы и диафильмы, которые хранились в металлических и пластмассовых баночках. Диафильмы нам обычно показывал отец, проецируя изображение на вывешенную белую простыню, заменявшую экран. Ещё у нас дома были виниловые пластинки с детскими сказками и стихами, которые нам прислали родственники из Апрелевки, которые работали на заводе грампластинок. Телевизоры стали появляться в наших домах лишь в начале 60-х годов. И были не в каждой семье. По вечерам люди ходили друг к другу «на телевизор». В комнате не хватало места, и потому сидели даже на полу перед самым экраном.
Мы выросли без весёлых забавных мультиков, которые с таким увлечением смотрели наши дети. Поэтому кинотеатры в нашей детской жизни играли такую большую роль. Мы все очень любили кино и не представляли без него своей жизни.
Каждое воскресение, в тот единственный день недели, свободный от занятий в школе, мы вставали спозаранку, чтобы успеть на первый сеанс, на который продавали дешёвые детские билеты. Родители выдавали нам по рублю дохрущёвскими деньгами. И мы, собравшись стайкой, отправлялись в поход по кинотеатрам. Обычно шли на тот фильм, на который удавалось купить билеты. Нам было всё равно, что смотреть, лишь бы побывать в кино.
Народу в кинотеатрах в то время было очень много. Выстояв длинную очередь и едва дотянувшись до окошечка кассы, мы важным голосом произносили: «Один, детский!» – и радостно сжимая в кулачке клочок синей бумаги, спешили шумной ватагой в зал. Чаще всего мы ходили в кинотеатр «Октябрь». Был в то время такой кинотеатр. Он стоял на месте нынешней гостиницы «Агидель». Это был большой хороший кинотеатр с просторным фойе с колоннами, на которых были развешены большие портреты популярных киноактёров. Мы их с благоговением разглядывали, ожидая звонка и хрустя вафельным стаканчиком мороженого, которое было обязательным приложением к просмотру кинофильма.
Когда начали строить гостиницу «Агидель», кинотеатр «Октябрь» перевели в другое помещение по-соседству, похожее на кирпичный сарай. Вход был с правой стороны, за аркой, по улице Ленина. А затем и вовсе закрыли.
В этом кинотеатре мы посмотрели много хороших фильмов. Но почему-то мы смотрели в основном фильмы для взрослых. Несколько раз смотрели цветной фильм «Над Тиссой» про пограничников, «Партизанская искра», «В горах», «Звезда» про Великую Отечественную войну.
Помню, как мы с подругой шли мимо сквера им. Сталина, в котором ещё возвышался посередине клумбы его памятник в полный рост. И я увидела на противоположной стороне улицы Ленина, на фасаде кинотеатра «Октябрь» огромный плакат с рекламой фильма «Война и мир» в американской постановке с Одри Хепберн. На плакате была изображена прекрасная молодая девушка в белом платье с огромными выразительными глазами. Афиша поразила наше воображение. Нам захотелось как можно быстрее посмотреть этот фильм, но на рекламе огромными буквами стояло: «Анонс!».
Летом часто ходили в парк имени Матросова в кинотеатр «Идель». В те годы были очень популярны индийские фильмы «Господин 420», «Бродяга» с Раджем Капуром в главной роли.
Мальчишки из нашего двора распевали знаменитую песенку Раджа Капура:
- «Я одет как картинка,
