Пурпурная Земля
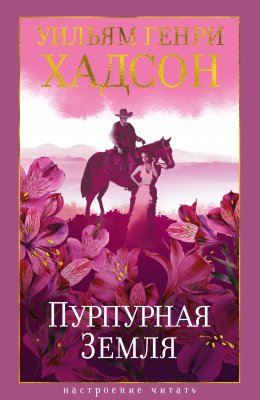
Серия «Настроение читать»
William Henry Hudson
THE PURPLE LAND
Перевод с английского Александра Глазырина
© А. А. Глазырин, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025 Издательство Азбука®
Пурпурная Земля
Повесть о приключениях некоего Ричарда Лэма на Восточном Берегу, в Южной Америке; рассказано им самим
Предисловие к новому изданию
Это сочинение впервые было опубликовано в 1885 году в издательстве Сэмпсона Лоу в виде двух небольших томиков под более пространным и для большинства читателей загадочным названием «Пурпурная Земля, Утраченная Англией». Пурпурную землю можно найти едва ли не в любом регионе земного шара, но ведь мы повсюду, кажется, ведем счет своим приобретениям, а не потерям. Немногочисленные отклики на книгу появились в газетах, одно или два из более серьезных литературных изданий поместили рецензии (неблагоприятные) в разделах «Путешествия и география», но читающая публика не проявила особого интереса, книга не раскупалась и очень скоро была предана забвению. В забвении она и оставалась в течение следующих девятнадцати лет – и могла остаться навеки, поскольку погрузившиеся в сон книги вообще имеют склонность уже никогда не просыпаться, если бы некоторые имеющие отношение к литературе люди, которые отыскали ее в груде забвенного старья и которым она полюбилась, несмотря на ее недостатки или благодаря оным, не взяли на себя труд вернуть ее к жизни.
Часто говорят, что автор навсегда сохраняет особую привязанность к своей первой книге, и чувство это сравнивали (и не раз) с чувством, которое родитель испытывает к своему первенцу. Я бы так не сказал, но, давая согласие на это переиздание, я рассудил, что раннее или в свое время недооцененное произведение писателя может пережить второе рождение, если сам автор не стоит в стороне и готов сделать кое-какую правку. Может ведь случиться и так, что в нужный момент автор отсутствует, совершая то путешествие, из которого возвращения ожидать не приходится. Потому-то, показалось мне, будет лучше, если второе издание выйдет под моим собственным наблюдением – это позволит мне удалить хотя бы некоторые из многочисленных пятнышек и прыщиков, украшающих бесхитростную физиономию моего произведения, прежде чем отдать его на суд потомков.
Помимо множества мелких языковых поправок и словесных замен, удаления одних абзацев и вставки других, я целиком исключил одну главу, содержащую историю Пегой Лошади, – недавно она была переиздана в составе другой моей книги, которая называется «El Ombu». Я выбросил также громоздкое предисловие к предыдущему изданию, сохранив только, в виде приложения, историческую его часть, ради тех моих читателей, которым интересно будет узнать несколько фактов из истории земли, утраченной Англией.
У. Г. Х.
Сентябрь 1904
Вступительная заметка
Всяческого одобрения заслуживает предпринимаемое ныне отдельное издание «Пурпурной Земли». Хотелось бы, конечно, чтобы издание это было более представительным и включало «El Ombu», а еще такие замечательные книги, как «Праздные дни в Патагонии» и «Натуралист в Ла-Плате», в которых птицы и мелкие зверьки Аргентины так живо предстают перед читателем, что после чтения он чувствует, что так же хорошо с ними знаком, как с издавна ему известными живыми существами из песен и сказок Старого Света.
Творчество Хадсона имеет большое и непреходящее значение. Он сочетает бесценный дар наблюдательности с бесценным даром настолько живого изображения всего того, что ему пришлось наблюдать, что другие тоже будто бы видят это воочию. Он – один из очень немногих людей – в число их входят Найт, автор «Полета сокола», и еще Каннингем Грэм, – кто оказался способен не только глубоко прочувствовать и оценить первозданную живописность южноамериканской жизни в старые времена, но и отобразить ее так, как ее следует отображать. Его сочинения принадлежат к тому очень немногочисленному разряду книг, которые заслуживают называться настоящей литературой. Для людей культурных, но любящих жизнь под открытым небом и обладающих вкусом к приключениям и ко всему живописному, эти книги – явление. Герман Мелвилл для китобоев Южных морей, Ракстон для трапперов Скалистых гор сделали то же, что Хадсон сделал для гаучо. Он выводит перед нами диких всадников пампы, как Гоголь – диких всадников степей. А кроме того, он изображает жизнь птиц и зверей так же, как в странах более цивилизованных ее изображали Уайт из Селборна и Джон Берроуз. Люди, лошади, скот, птицы – все обитатели бескрайнего моря трав знакомы ему и близки. Мы видим тяжелую, грубую работу наездников и грубые их развлечения, видим длинный, низкий, белый дом владельца большого ранчо, одиноко стоящий под одиноким деревом омбу, видим убогие лачуги, где живут наездники-рабочие, и убогие питейные заведения, где они кутят. Мы видим индейцев, которые встают на неоседланные спины своих лошадей, чтобы оглядеть округу поверх волнующихся султанов высокой густой травы; и мы слышим наводящий ужас хорал – ночную песнь огромной, похожей на дрофу, водяной птицы (этот вид не известен нигде в северных странах). Он повествует о лютых и кровавых беззакониях гражданской войны. И прежде всего, он дает нам почувствовать все великолепие и всю бесконечную затерянность страны, где идет эта исполненная страсти жизнь.
Теодор Рузвельт
Сагамор Хилл,
14 августа 1916
Глава I
Прогулки по новейшей Трое
Три главы в истории моей жизни – три периода, совершенно особенных, четко очерченных и к тому же непосредственно следовавших один за другим – начало первого относится ко времени, когда мне не сравнялось еще двадцати пяти лет, а последний завершился до тридцати, – так, вероятно, и останутся самыми богатыми на события за всю мою жизнь. До самого моего конца они чаще всего будут вновь приходить мне на память и видеться ярче и живее, чем все остальные годы существования – чем те двадцать четыре, что я прожил ранее, и те, скажем, сорок или сорок пять – надеюсь, их может оказаться и пятьдесят, а то и шестьдесят, – которые за ними последовали. Есть ли хоть одна душа, которой хотелось бы оставить этот полный чудес, многоликий мир, не дожив до девяноста? Мрак мира и его свет, сладость его и горечь равно внушают мне любовь к нему.
О сути первого из этих трех можно сказать без долгих слов. Это был период ухаживания и женитьбы; и хотя переживания мои казались мне тогда чем-то совершенно новым и на свете небывалым, они тем не менее, конечно, походили на то, что переживают все остальные люди, с тех пор как они завели обычай вступать в брак. А последний период, который был самым длинным из трех и занял целых три года, не описать словами. Это была одна сплошная черная беда. Три года насильственного разлучения и неимоверных мук, которые разъяренный отец, благодаря жестокому закону страны, имел право причинять своей дочери и мужчине, который дерзнул сочетаться с ней вопреки его воле. Человека благоразумного, и того притеснения могут свести с ума; а для меня, который никогда не отличался благоразумием, но жил, обуреваемый и ведомый страстями и иллюзиями, и безмерной самонадеянностью юности, каково это должно было оказаться для меня, когда нас безжалостно оторвали и удалили друг от друга; когда меня бросили в тюрьму, и я долгие месяцы делил общество негодяев-уголовников, неотступно думая о ней, той, что так же всеми оставлена и чье сердце так же разбито! Но и этому настал конец – ненавистному заключению, тревоге, бесконечным мыслям о тысячах возможных и невозможных способов отмщения. Если можно найти какое-то утешение в сознании того, что, разбив ее сердце, он в то же время разбил и свое собственное и поспешил соединиться с ней в том же безмолвном убежище, я это утешение нашел. Ах нет! Нет мне успокоения, потому что я не могу не думать о том, что прежде, чем он разрушил мою жизнь, я сам разрушил его жизнь, отобрав у него ту, которая была его божеством. Теперь мы квиты, и я могу сказать даже: «Мир праху его». Но тогда, в неистовстве и скорби, я сказать этого не мог, и не могло это быть сказано в той роковой стране, в которой я обитал с мальчишеских лет, которую научился любить как свою родину, и с которой надеялся никогда не расстаться. Потом я ее возненавидел, а бежав из нее, однажды вновь увидел себя на этой Пурпурной Земле, где когда-то мы вместе нашли пристанище, и которая моему расстроенному рассудку предстала теперь обителью радостных и мирных воспоминаний.
В месяцы наставшего после бури спокойствия, проведенные большей частью в одиноких прогулках по прибрежью, эти воспоминания все чаще и чаще приходили ко мне. Иногда, сидя на вершине того огромного одинокого холма, который и городу дал имя, я часами, на этом широком просторе, словно бы пристально всматривался внутрь самого себя, как если бы я мог там увидеть – и зрелище это никогда не могло мне наскучить – все, лежащее там, вдали, за здешними пределами: равнины и реки, и леса, и холмы, и хижины, в которых мне приходилось отдыхать, и множество милых человеческих лиц. Даже лица тех, кто дурно со мной обошелся или желал мне зла, моим нынешним глазам представали вполне дружелюбными. А более всего думалось мне о той славной реке, незабвенной Йи, о стоящем в тени белом домике на окраине маленького городка и о печальном и исполненном красоты облике той, кому я – увы! – принес несчастье.
Ближе к концу этого периода бездеятельности я был настолько поглощен воспоминаниями, что, помнится, незадолго до того, как я покинул эти берега, ко мне явилась мысль, не пережить ли мне все это вновь сейчас, во время случившегося в моей жизни интервала тишины, и не записать ли историю моих скитаний, чтобы в будущем другие могли ее прочесть. Но я не предпринял такой попытки ни тогда, ни спустя еще много лет. И я снова стал, пусть не сразу всерьез, обращаться к этой идее не раньше, чем что-то пробудило меня от моего тогдашнего состояния – а я ощущал себя в то время человеком, как бы уже пережившим свою способность к действию, невосприимчивым более к новым чувствам и находящим пищу в одном только прошлом. И эта новизна, так на меня повлиявшая, что я вмиг снова стал самим собой, бодрым, жаждущим действия, была не чем иным, как одним только случайным словом, долетевшим издали, мольбой одинокого сердца, нечаянно донесшейся до моего слуха; и, услышав ее, я почувствовал себя как человек, который открыл глаза, очнувшись от беспокойной дремоты, и вдруг увидел неземное сиянье утренней звезды над широкой, погруженной во мрак равниной, где ночь застигла его, – звезды настающего дня и бессмертной надежды, и страсти, и борьбы, и тяжкого труда, и покоя, и счастья.
Нет нужды подробно описывать события, приведшие нас в Banda, на Берег – наше ночное бегство из летнего дома Пакиты в пампе; скрытное пребывание в столице и негласно заключенный там брак; последующий побег на север, в провинцию Санта-Фе, и там семь-восемь месяцев довольно тревожного счастья; наконец, тайное возвращение в Буэнос-Айрес ради того, чтобы найти корабль, на котором мы могли бы покинуть страну. Тревожное счастье! О да, и тревожней всего мне было, когда я смотрел на нее, подругу моей жизни, когда мне казалось, что прекрасней ее нет, такая она была тоненькая, такая изящная, с ее темно-синими глазами – фиалками, с ее шелковистыми черными волосами и нежным, розовым и оливковым, цветом лица – воплощение хрупкости! И я забрал ее – похитил ее – у ее естественных покровителей, из ее дома, где пред нею преклонялись, – я, человек чужой расы и другой веры, без средств и, поскольку я ее похитил, преступник в глазах закона. Но довольно об этом. Я начинаю описание своего странствия в момент, когда, оказавшись в безопасности на борту нашего маленького суденышка и глядя на башни Буэнос-Айреса, быстро исчезающие из вида на западе, мы наконец почувствовали, как мрачные опасения нас оставляют, и предались мечтам о радостях, ожидающих нас впереди. Но тут ветер и волны помешали нашим восторгам; оказалось, что Пакита – очень неважный моряк, и в течение нескольких часов нам пришлось очень несладко. На следующий день задул благоприятный северо-западный бриз, мы птицей пронеслись над злобными багряными валами и ввечеру сошли на берег в Монтевидео, граде спасения. Мы направились в гостиницу и несколько дней прожили там очень счастливо, зачарованные обществом друг друга; и когда мы выходили пройтись по взморью, чтобы посмотреть, как заходит солнце, и, потрясенные зрелищем мистически пламенеющих небес, и воды, и огромного холма, давшего имя городу, вспоминали, что по направлению нашего взгляда лежат берега Буэнос-Айреса, каким наслаждением было сознавать, что широчайшая в мире река катит свои воды между нами и теми, кто, вероятно, чувствовал себя оскорбленным тем, что мы совершили.
Этому прелестнейшему положению дел в итоге все же настал конец – и довольно необычным образом. Как-то ночью – мы к тому времени жили в гостинице около месяца – я лежал в постели, но бодрствовал. Было поздно; мне только что послышался унылый, протяжный голос ночного сторожа, выкликающего под окном: «Половина второго, туман».
Жиль Блаз рассказывает в своей биографии, как однажды ночью, лежа без сна, он ни с того ни с сего занялся самоанализом – вещь, вообще-то, ему вовсе несвойственная, – и пришел к выводу, что он – не слишком-то хороший молодой человек. Той ночью я тоже испытывал нечто подобное, как вдруг, посреди моих нелестных для меня самого раздумий, я понял по глубокому вздоху Пакиты, что она тоже лежит без сна и тоже, по всей вероятности, погружена в раздумья. Когда я спросил ее, в чем причина этого вздоха, она тщетно попыталась было скрыть от меня, что начинает чувствовать себя несчастной. Какой страшный удар нанесло мне это открытие! Мы же совсем недавно поженились! Но как это похоже было на Пакиту: тут же сказать, что не женись я на ней, она бы чувствовала себя еще более несчастной. Однако бедное дитя не могло не думать об отце с матерью; ее истомила мечта о примирении с ними, и нынешнее ее горе выросло из убеждения, что они никогда, никогда, никогда не смогут простить ее. Я попытался, пустив в ход все красноречие, на какое был способен, развеять эти мрачные мысли, но она была тверда в своем убеждении, что так оно есть и никак иначе: ведь именно потому, что они так сильно ее любили, они никогда и не извинят ей этой первой огромной обиды. Когда она так сказала, я подумал, уж не вычитала ли это моя милая бедняжка в «Кристабели»: что рана, нанесенная сердцу теми, кого оно глубже всего любило, сильнее всего и саднит. Затем, в качестве иллюстрации, она рассказала мне о ссоре между своей матерью и ее до того нежно любимой сестрой. Это случилось очень давно, когда она, Пакита, была еще совсем ребенком, но сестры с тех пор так и не простили друг друга.
– И где же, – спросил я, – находится эта твоя тетя, о которой до сей минуты я от тебя ни разу не слышал?
– Ах, – отвечала Пакита с величайшим, какое только можно вообразить, простодушием, – она покинула нашу страну очень-очень давно, и ты никогда о ней не слышал, поскольку у нас в доме не разрешалось даже упоминать ее имя. Она уехала жить в Монтевидео, и я уверена, она все еще там, несколько лет назад я от кого-то слышала, что она купила себе дом в этом городе.
– Сердце мое, – сказал я, – я вижу, ты в душе и не покидала Буэнос-Айреса, даже чтобы составить компанию твоему бедному мужу! И все же я совершенно точно знаю, Пакита, что, разговаривая со мной в этот самый миг, телом ты сейчас именно в Монтевидео.
– И правда, – сказала Пакита, – я как-то призабыла, что мы как раз в Монтевидео. Мысли у меня как-то спутались; может быть, я уже начинала засыпать.
– Клянусь, Пакита, – ответил я, – завтра, прежде чем сядет солнце, ты должна увидеться с этой своей теткой; и я положительно уверен, милочка, что ей будет чрезвычайно приятно принять такую близкую и красивую родственницу. Как она будет рада такой возможности порассказать об этой старой ссоре с сестрой и освежить свои заплесневелые обиды! Знаю я этих старых дам – все они одинаковы.
Сперва Пакита была от этой идеи не в восторге, но, когда я убедил ее, что деньги наши подходят к концу и что, не исключено, ее тетка окажется в состоянии помочь мне получить какую-нибудь работу, она согласилась, как и положено послушной своему долгу маленькой жене, какой она и была.
На другой день я отыскал ее родственницу без особых хлопот; Монтевидео – город небольшой. Мы нашли донью Исидору – ибо таково было имя этой леди – живущей в довольно убогом домике на самом краю города, на его восточной окраине, наиболее удаленной от воды. Вокруг уж слишком веяло нищетой для места, где обитает приличная дама; но хотя она имела вполне достаточно средств, чтобы устроиться со всеми удобствами, видимо, собственное богатство ее обременяло. Тем не менее она приняла нас очень радушно, когда мы представились и рассказали нашу печальную и романтическую историю; тут же была приготовлена комната, в которой мы могли поселиться, и она даже дала мне какие-то неопределенные обещания оказать поддержку. При более тесном знакомстве с нашей хозяйкой выяснилось, что я был не так уж далек от истины в своих догадках о ее характере. В течение нескольких дней она не могла говорить ни о чем ином, кроме как о достопамятной ссоре со своей сестрой и с мужем своей сестры, и нам приходилось внимательно ее слушать и выказывать ей сочувствие, поскольку нам нечем было больше отплатить ей за ее гостеприимство. Пакита всем своим существом погрузилась в эту историю, но так и не могла разобраться в причинах этой застарелой междоусобицы, поскольку, хотя донья Исидора, несомненно, и пестовала свое негодование все эти годы, не давая ему остынуть, она, хоть убей, была не в силах вспомнить, с чего же ссора началась.
Каждое утро после завтрака я целовал Пакиту и препоручал ее нежному попечению матушки Исидоры, а затем предавался бесплодным блужданиям по городу. Сначала я просто разыгрывал любопытствующего иностранца из тех, что курсируют, глазея на общественные здания, а то увлекаются собиранием каких-нибудь галек замысловатой формы и диковинной пестроты или армейских медных пуговиц, которые в давние дни срывали с мундиров и обращали в превосходные пули, теперь же они, окислившиеся и потерявшие форму, служат сувенирами в память о бессмертных временах девяти-, не то десятилетней осады, благодаря которой Монтевидео заслужил скорбное прозвание современной Трои. Когда же я полностью обследовал с внешней стороны сцену моих будущих триумфов – поскольку я принял решение осесть тут и попытать судьбу в Монтевидео, – я всерьез приступил к поискам занятия. Я по очереди посетил не только все имевшиеся там крупные торговые предприятия, но и практически каждое заведение, где, как казалось, мог быть шанс, что для меня высветится какое-то дело. Было необходимо с чего-то начать, и я не собирался воротить нос от любого поприща, пусть даже незначительного; я очень сильно страдал от своего положения человека бедного, праздного и зависимого. Но я ничего не мог найти. В одном месте мне сказали, что город еще не оправился от последствий последней революции и что, как следствие, деловая жизнь находится в состоянии полного паралича; в другом – что город находится накануне революции и что вследствие этого деловая жизнь находится в полном параличе. И повсюду была одна и та же история – политическая ситуация в стране не оставляла мне возможности честно заработать хотя бы доллар.
И вот как-то, чувствуя себя совершенно подавленным и уже едва не до дыр стерев подметки башмаков, я присел на скамью у моря или, если угодно, у реки – одни называют так, другие этак это мутного оттенка, но веющее свежестью водное пространство; географы так и не высказались с определенностью, оставив нас терзаться сомнениями – расположен ли Монтевидео на берегах Атлантики или только поблизости от Атлантики, но на берегах реки, достигающей в устье ширины в сто пятьдесят миль. Но эта проблема меня вовсе не беспокоила; были предметы, куда ближе меня касающиеся, о которых следовало поразмыслить. Я был в ссоре с этой «Восточной нацией», и это куда больше меня занимало, чем то, какого именно зеленого оттенка и какой степени солености воды безбрежного эстуария, омывающего грязные подошвы своей королевы, – ибо эта современная Троя, этот город сражений, убийств, внезапных смертей, именует себя также Королевой Ла-Платы. То, что это была именно ссора, я со своей стороны был совершенно убежден. Вражда к любому человеческому существу, которое так жестоко мною помыкало, стала отныне моим руководящим принципом. Не стоит говорить, что это принцип нехристианский; ведь на самом деле, когда меня ударяли по правой ли, левой ли щеке (а боль совершенно одинаковая в любом случае), то, пока я собирался с духом нанести ответное оскорбление, часто проходило столько времени, что все гневные или мстительные мысли улетучивались. Я ратую в подобном случае скорее за общественное благо, чем за собственное удовлетворение, и я, следовательно, прав, называя мой движущий мотив принципом действия, а не просто порывом. И что еще очень ценно, принцип этот бесконечно более эффективен, чем фантастический кодекс дуэлянта, благоприятствующий лицу, нанесшему оскорбление, и предоставляющий ему возможность убить или изувечить лицо, им оскорбленное. Это оружие, изобретенное для нас Природой задолго до появления на свет полковника Кольта, и оно имеет то преимущество, что его позволено носить любому как в сугубо законопослушном сообществе, так равно и среди рудокопов или обитателей лесной глуши. Как только люди безобидные переставали к нему прибегать, люди злонамеренные поворачивали все по-своему и делали жизнь невыносимой. К счастью, злодеи всегда испытывают страх перед этим нематериальным шестизарядником, на них направленным; именно это благотворное чувство обуздывает их лучше доводов разума или формального правосудия, и именно ему мы обязаны тем, что кротким дано наследовать землю. Но тут я оказался в ссоре с целой нацией, пусть, правда, и не слишком многочисленной, поскольку население Восточного Берега, Banda Oriental, насчитывало не более четверти миллиона человек. И в этой редконаселенной стране с ее плодородной почвой и мягким климатом, со всей несомненностью, не было места для меня, молодого мужчины, крепкого физически и, по совести говоря, не обиженного умом, который просил только о том, чтобы ему позволили зарабатывать себе на жизнь! Но как мне было достучаться до них, чтобы они осознали эту несправедливость? Я просил у них яйцо, а они совали мне в руку скорпиона, но как мне было сделать так, чтобы этот скорпион ужалил каждого из тех, кто составлял эту нацию? Я был бессилен, совершенно бессилен покарать их, мне оставалось единственно всех их проклинать.
Мой блуждающий взгляд то и дело останавливался на знаменитом холме по ту сторону залива, и вдруг я решил подняться на его вершину и, глядя вниз на Banda Oriental, произнести свое проклятие в манере, самой торжественной и выразительной.
Экспедиция на так называемый cerro оказалась довольно приятной. Несмотря на чрезвычайную для этого времени года жару, множество диких цветов цвело на его склонах, превращая его в великолепный сад. Достигнув руин старого форта, венчающего вершину, я взобрался на стену и с полчаса отдыхал, овеваемый свежим бризом и поистине наслаждаясь зрелищем раскинувшейся передо мной панорамы. Я не упускал из виду серьезную цель моего восхождения на эту господствующую высоту и желал только, чтобы проклятие, которое я готовился произнести, обрушилось бы, как громадный утес, сорвавшийся со своего основания, низверглось, подскакивая, к подножию горы, перемахнуло прямо через залив и, грохнувшись в ненавистном городе, прокатилось до самых его пределов, наполняя его руинами и ужасом.
– В какую сторону ни гляну, – сказал я, – везде передо мною одна из прекраснейших обителей, сотворенных Господом для человека: бескрайние равнины, благоденствующие среди нескончаемой весны; вековечные леса; прекрасные стремительные реки; гряды голубых холмов, протянувшиеся к туманному горизонту. Прекрасны эти склоны, а за ними на много лиг вокруг дремлет под сияющим солнцем радующая глаз пустыня, где дикие цветы расточают сладкий аромат, где плуг никогда не бороздил плодородную почву, где олени и страусы бродят, не страшась охотника, и надо всем этим простирается голубое небо, чью совершенную красоту не пятнает ни единое облачко. И люди, пребывающие в сем городе – а он – ключ к континенту, – обладатели всего этого. Все это им принадлежит с тех пор, как право владенья даровано им мирозданьем, величье коего объять не в силах, гаснет утомленный разум. И что же сделали они с этим своим наследством? И вот хоть сейчас – что они с ним делают? Они уныло сидят по домам или стоят при входе в свои жилища, руки их сложены, на лицах – тревожное ожиданье. Ибо грядут перемены: собирается буря. И это не какие-то изменения в атмосфере: никакой пагубный самум не промчится над их полями, никакой вулкан своим изверженьем не затмит хрустальную чистоту их небес! Андские города содрогнутся до основанья от землетрясений, незнаемых доселе и недоступных предвиденью. Грядущие перемены и бури будут политическими. Заговор созрел, кинжалы наточены, нанят отряд убийц, и трон, сложенный из человеческих черепов и с жуткой издевкой величаемый Президентским Креслом, вот-вот будет взят приступом. Еще долго, еще, быть может, недели или даже месяцы пройдут, пока последний вал, увенчанный гребнем кровавой пены, разольется опустошительным потопом по всей стране; и, однако, самое время всем приготовиться к удару надвигающейся волны. И мы считаем правильным и достойным вырывать с корнем волчцы и тернии, и осушать малярийные топи, и истреблять гадюк и крыс; но искоренить этих людей считаем безнравственным, я полагаю, лишь потому, что их порочная природа скрыта под человечьим обличьем; а ведь эти люди в преступлениях своих превзошли всех иных, прежних и нынешних, вплоть до того, что имя целого континента вошло по всей земле в поговорку как нечто, достойное всяческого глумления и поношения, и смрад деяний их поднялся в ноздри всех живущих!
И даю зарок, я тоже стану заговорщиком, если останусь надолго в этой стране. О, во имя тысячи молодых уроженцев Девона и Сомерсета, что, как и я, находятся здесь и чей разум сжигают те же мысли! Какие славные подвиги мы совершим во имя человечества! Какую звонкую здравицу мы возгласим во славу старой Англии, а ведь слава эта меркнет! Кровь потечет по вашим улицам, как никогда не текла прежде, или, лучше сказать, текла лишь однажды, а было это, когда их начисто подмели британские штыки. А потом настанет мир, и трава будет зеленее, и цветы ярче после этого кровавого ливня.
Горше полыни и желчи горечь мысли о том, что над этими куполами и башнями там внизу, у меня под ногами, не более чем полстолетия назад реял честной крест святого Георгия! Ибо никогда не предпринимался столь священный крестовый поход, никогда не задумывалось завоевание, более доблестное, чем то, что имело целью вырвать эту прекрасную страну из недостойных рук и навсегда сделать ее частью могучего Английского королевства. Какими бы они могли быть сейчас – эта прекрасная страна, где не бывает зимы, этот город, господствующий над устьем величайшей в мире реки? И подумать только, ведь она была добыта для Англии, и добыта не низким предательством, не куплена золотом, а истинно на старый англосаксонский манер, в суровых боях, когда приходилось перебираться через груды тел мертвых противников; и после того, как она была так завоевана, она была утрачена – можно ли поверить? – сдана без боя, без всякой борьбы подлыми негодяями, недостойными имени бриттов! Я сижу один здесь, на вершине горы, и лицо мое горит огнем при мысли об этом – о блистательных возможностях, утраченных навеки! «Мы обещаем вам сохранение ваших законов, вашей религии и собственности под покровительством британского правительства», – высокомерно провозгласили захватчики – генералы Бересфорд, Эчмьюти, Уайтлок и их соратники; а ныне, потерпев одно лишь поражение, они (либо кто-то один из них) утратили мужество и обменяли страну, которую они оросили кровью и завоевали, обменяли на пару тысяч британских солдат, попавших в плен в Буэнос-Айресе, по ту сторону водного пространства; а затем, вновь взойдя на свои суда, они уплыли, покинули Ла-Плату навсегда! Эта сделка, которая, должно быть, заставила кости наших предков-викингов содрогаться в могилах от негодования, была забыта потом, когда мы завладели такой богатой добычей, как Фолкленды. Блистательное завоевание и славное возмещение нашей потери! Эта королева-столица была в нашей власти, власть укрепилась и близилась, может быть, уже к окончательному и бесповоротному обладанию этим зеленым миром, раскинувшимся перед нами; и тут мужество оставило нас, и желанная награда выпала из наших дрогнувших рук. Мы оставили солнечный материк, а взамен захватили безлюдное обиталище тюленей и пингвинов; и теперь пусть все, кто в этой части света стремится жить под «британским покровительством», которое Эчмьюти столь широковещательно проповедовал при вратах сей столицы, отправляются на эти уединенные антарктические острова слушать, как грохочут волны, разбиваясь о серые берега, и дрожать под холодными ветрами, дующими со студеного юга!
Покончив с произнесением этого грозного порицания, я почувствовал, что мне стало гораздо легче, и направился домой в приятном предвкушении ужина, который в этот вечер состоял из бараньей шейки, сваренной с тыквой, сладким картофелем и молочной кукурузой – вовсе не плохое блюдо для голодного человека.
Глава II
Сельские жилища и семейные очаги
Прошло несколько дней, и у моей второй пары башмаков пришлось уже второй раз сменить подметки, прежде чем планы доньи Исидоры касательно улучшения моих обстоятельств начали приобретать какую-то ясность. Возможно, она начинала подумывать о нас как о бремени, отягощающем ее привычный, довольно-таки скаредный домашний обиход; как бы то ни было, слыша, что я отдаю предпочтение сельской жизни, она дала мне рекомендательное письмо в полдюжины строк, адресованное Mayordomo, управляющему отдаленного скотоводческого хозяйства, где просила услужить автору письма, предоставив ее племяннику – так она меня назвала – какого-либо рода работу в estancia, имении. Весьма вероятно, она с самого начала знала, что это письмо на самом деле ни к чему не приведет, и дала его, просто чтобы отправить меня вглубь страны, а Пакиту удержать на неопределенное время при себе, поскольку она необычайно привязалась к своей красивой племяннице. Эстансия располагалась на границе департамента Пайсанду, не менее чем в двух сотнях миль от Монтевидео. Это было длинное путешествие, и меня предупредили, чтобы я даже не пытался его предпринять без tropilla, то есть табунка лошадей. Но когда местный уроженец говорит вам, что вы не сможете проехать двести миль без дюжины лошадей, он просто имеет в виду, что вы не сможете покрыть это расстояние за два дня; ибо ему трудно поверить, что кто-то сможет удовлетвориться менее чем сотней миль в день. Я поехал на одной-единственной лошади, так что путешествие заняло у меня несколько дней. Прежде чем я достиг пункта моего назначения, который назывался Estancia de la Virgen de los Desamparados, эстансия Святой Девы Бесприютных, со мной приключилось несколько происшествий, достойных упоминания, и я начал чувствовать себя настолько же у себя дома в областях Восточных, или Orientales, как ранее чувствовал в Argentinos.
К счастью, после того как я покинул город, западный ветер продолжал дуть весь день, неся по небу множество легких летучих облаков, умерявших солнечный жар, так что до вечера я смог покрыть немалое число лиг. Я держал путь к северу через департамент Камелонес и уже значительно продвинулся в глубь департамента Флорида, когда остановился на ночь на уединенном, неприглядного вида ранчо у старого скотовода, который жил там со своей женой и детьми в совершенно первобытных условиях. На подъезде к дому несколько громадных псов бросились на меня в атаку: один схватил моего коня за хвост и принялся таскать бедную скотину туда-сюда, так что конь зашатался и едва мог устоять на ногах; другой вцепился в удила чуть ли не прямо у него во рту; тогда как третий впился клыками в каблук моего сапога. Оценивающе поглядев на меня несколько мгновений, седой старик пастух с ножом длиною в ярд на поясе двинулся на выручку. Он прикрикнул на собак, а поняв, что слушаться они не намерены, подскочил и несколькими ударами, умело нанесенными тяжелым кнутовищем, отогнал их прочь, завывающих от ярости и боли. Затем он приветствовал меня с величайшей вежливостью, и очень скоро, когда конь мой был расседлан и отправлен пастись на воле, мы оба уже сидели, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом и попивая горький и освежающий мате, приготовленный для нас его женой. Пока мы разговаривали, я обратил внимание на бесчисленных летающих вокруг светлячков; никогда раньше я не видел их в таком множестве, зрелище было восхитительное. Немного погодя один из ребятишек, паренек лет семи-восьми, сияя от радости, подбежал к нам – в руке у него было одно из сверкающих насекомых – и завопил:
– Смотри, tatita, папочка, я фонарика, linterna поймал. Гляди, как горит!
– Святые да простят тебе, дитя мое, – сказал отец. – Иди, сынок, и посади его назад на траву, а если ты ему навредишь, духи рассердятся на тебя, ведь они гуляют по ночам и любят linterna за то, что те составляют им компанию.
Какое прелестное суеверие, подумал я; и каким мягким, сострадательным сердцем должен обладать этот старый скотовод с Востока, раз он выказывает столько чуткости в отношении одной из мельчайших тварей Господних. Я поздравил себя с тем, какой счастливый случай мне выпал негаданно встретиться с таким человеком в этих глухих местах.
Псы, после своего грубого поведения по отношению ко мне и постигшего их вслед за тем сурового наказания, возвратились и собрались теперь вокруг нас, разлегшись на земле. Тут я отметил, уже не впервые, что собаки, обитающие в таких пустынных местах, вовсе не готовы с тем же удовольствием принимать знаки внимания и ласку, как те, что живут в областях, более населенных и цивилизованных. В ответ на мою попытку погладить одну из этих угрюмых зверюг по голове пес показал зубы и дико на меня рыкнул. И все же это животное, хотя и столь свирепое нравом, и не ищущее никакой доброты у своего хозяина, ровно так же предано человеку, как и его благовоспитанные собратья в более населенных странах. Я заговорил об этом предмете с моим великодушным скотоводом.
– То, что вы говорите, верно, – отвечал он. – Вспоминаю, как-то во время осады Монтевидео, когда я в составе маленького подразделения был направлен следить за передвижениями армии генерала Риверы, мы в один из дней настигли человека, ехавшего на измотанной лошади. Наш офицер, подозревая, что это шпион, приказал его убить, и, перерезав ему глотку, мы оставили его тело лежать на голой земле примерно в двух с половиной сотнях ярдов от небольшого ручья. С ним была собака; когда мы сели в седла и тронулись, мы кликнули ее, чтобы шла с нами, но она не двинулась с того места, где лежал ее мертвый хозяин.
Тремя днями позже мы вернулись в ту же точку и нашли труп лежащим ровно на том же месте, где мы его бросили. Ни лисы, ни птицы не прикоснулись к нему, потому что собака была все еще там и охраняла его. Множество стервятников собралось поблизости, ожидая удобного случая, чтобы начать свое пиршество. Мы спешились, чтобы освежиться в ручье, потом стояли там с полчаса и наблюдали за собакой. Она казалась полумертвой от жажды и порывалась сбегать к ручью попить, но прежде, чем пес успевал сделать полпути, стервятники, по двое и по трое, начинали придвигаться, и тут он возвращался и лаем их отгонял. Отдохнув несколько минут у тела, он опять бежал к воде и снова, видя, как подступают голодные птицы, он устремлялся назад, к ним, яростно лая и пуская изо рта пену. Мы видели, как это повторялось раз за разом, и наконец, уезжая, мы снова попытались подманить собаку, чтобы она последовала за нами, но не тут-то было. Еще через два дня нам вышел случай опять проехать мимо этого места, и мы увидали, что пес лежит там мертвый рядом со своим мертвым хозяином.
– Боже мой, – воскликнул я, – какое ужасное чувство вы и ваши товарищи испытали, должно быть, при виде этого зрелища!
– Нет, сеньор, вовсе нет, – ответил старик. – Зачем же, сеньор, ведь я сам воткнул нож этому человеку в горло. Если мужчина в этом мире стал взрослым, а кровь проливать не привык, тяжелой ношей будет ему его жизнь.
«Какой бесчеловечный старый убийца!» – подумал я. Затем я спросил его, был ли в его жизни случай, чтобы он почувствовал раскаяние из-за пролитой им крови.
– Да, – ответил он, – я тогда был очень молод, и мне еще ни разу не пришлось окунуть оружие в человеческую кровь; осада тогда как раз только началась. Меня послали с полудюжиной людей на поимку хитрого шпиона, который наловчился ходить через линии траншей с письмами от осажденных. Мы пришли в дом, где, как донесли нашему офицеру, у него была тайная лежка. Хозяином дома был молодой парень лет двадцати двух. Он упорно ни в чем не сознавался. Столкнувшись с таким упрямством, наш офицер рассвирепел и велел ему идти прочь, да побыстрее, а потом приказал нам заколоть его пиками. Мы галопом отъехали ярдов на сорок, потом развернулись. Он стоял молча, с руками, сложенными на груди, с улыбкой на губах. Без крика, без стона, все с той же улыбкой на губах, он упал, насквозь пронзенный нашими пиками. Дни проходили за днями, а его лицо все представлялось мне. Я не мог есть, пища вставала мне поперек горла. Я подносил к губам кувшин с водой, а оттуда, сеньор, я отчетливо это видел, на меня смотрели его глаза. Я ложился спать, а его лицо опять было передо мною, всегда с той же улыбкой на губах, – казалось, он насмехается надо мной. Я не мог понять, что со мной. Мне сказали, что меня мучает совесть и что это скоро пройдет, потому что нет такой боли, которой время не излечивает. Мне сказали правду, и, когда это ощущение исчезло, я опять был на все готов.
Мне так тошно стало от истории, рассказанной стариком, что я поужинал без аппетита и дурно провел ночь, то просыпаясь, то снова задремывая, но все думая о том молодом парне в этом глухом углу вселенной, который, сложа на груди руки, усмехался в лицо душегубам, когда те его убивали. На другое утро спозаранку я приветливо попрощался с моим хозяином, благодаря его за гостеприимство и искренне надеясь, что никогда больше не увижу его ненавистное лицо.
Я мало продвинулся в тот день, палило, и моя лошадь совсем обленилась. Проехав около пяти лиг, я передохнул пару часов, потом снова пустился вялой рысью, пока во второй половине дня не спешился у стоящей на обочине дороги pulperia, иначе говоря лавки и трактира в одном лице, где несколько местных потягивали ром и переговаривались. Перед ними стоял бойкого вида старик – я говорю, старик, потому что кожа у него была высохшая и потемневшая, хотя волосы и усы были черны как смоль; чтобы поклоном поприветствовать меня, он на миг отвлекся от разговора, в который то и дело вставлял словцо, потом, окинув меня испытующим взглядом своих темных ястребиных глаз, вернулся к разговору. Заказав ром с водой, под стать здешним вкусам, я сел на лавку, закурил сигарету и приготовился слушать. На старике был поношенный наряд гаучо – хлопковая рубашка, короткая куртка, широкие хлопковые же рейтузы и chiripa, облачение вроде шали, перехваченное на талии кушаком, а внизу спускающееся до середины ноги между коленом и лодыжкой.
Вместо шляпы он носил хлопчатобумажный платок, небрежно повязанный на голове; левая нога у него была босая, а правая обута в чулок из жеребячьей кожи, называемый bota-de-potro, и к этой привилегированной ноге была прицеплена здоровенная железная шпора с шипами длиною в два дюйма. Одной такой шпоры, надо полагать, более чем достаточно, чтобы пробудить в лошади всю энергию, какая в ней только есть. Когда я вошел, он разглагольствовал на довольно избитую тему о силе судьбы в сравнении со свободной волей; аргументы его, однако, не были обычными сухими абстракциями, но имели форму примеров, преимущественно его личных воспоминаний или странных случаев из жизни людей, ему известных, и до того живыми и обстоятельными были его описания, блистающие страстью, сатирой, юмором, пафосом, и с таким драматизмом он разыгрывал сцену за сценой, в то время как одна чудесная история сменяла другую, что я был просто поражен и решил про себя, что этот подвизающийся в пульперии старый оратор – какой-то гений-самородок.
Прервав свою речь, он уставился на меня своими проницательными глазами и сказал:
– Друг мой, я так понимаю, вы держите путь из Монтевидео: могу я спросить, что нового в этом городе?
– О каких новостях вы надеетесь услыхать? – сказал я и сразу сообразил, что вряд ли прилично отделываться пустыми общими фразами, отвечая этой диковинной старой восточной птице, с ее, пусть потрепанным, опереньем, но притом и с таким безыскусным обаяньем природного песенного дара. – Там снова все одна и та же старая история, – продолжал я. – Говорят, скоро будет революция. Одни уже попрятались по домам, а предварительно мелом написали на дверях большими буквами: «Войдите, пожалуйста, в этот дом и перережьте хозяину глотку, дабы он упокоился в мире и больше не страшился того, что может произойти». Другие взобрались на крыши и занимаются разглядываньем луны в подзорную трубу, считая, что заговорщики укрылись на этом светиле и только и ждут, что найдут на него тучи, а они тогда спустятся в город незамеченными.
– Точно! – завопил старик и забрякал по прилавку пустым стаканом, как бы восхищенно аплодируя.
– Что пьешь, друг? – спросил я, посчитав, что такая пылкая оценка моей гротескной речи заслуживает угощения, и желая раззадорить его еще больше.
– Ром, дружище, благодарю. Как говорится, зимой согреет он тебя, а летом он тебя остудит – что тебе больше нравится?
– А вот посоветуй-ка, – сказал я, когда лавочник снова наполнил его стакан, – что я должен говорить, когда вернусь в Монтевидео и меня спросят, что нового во глубине страны?
Глаза старикана блеснули, остальные тем временем примолкли и глядели на него, будто предвкушая, как он отличится, отвечая на мой вопрос.
– Скажи им, – отвечал он, – что ты повстречал старика – объездчика лошадей по имени Лусеро – и он тебе рассказал вот такую байку, чтоб ты ее повторил горожанам.
Росло когда-то в этой стране большущее дерево, и называлось оно Монтевидео, а в ветвях у него жила стая обезьян. И вот как-то раз одна обезьяна спустилась с дерева и в восторге понеслась по равнине, то ковыляя, как человек на четвереньках, то выпрямляясь навроде собаки, которая бежит на задних лапах, а хвосту ее при этом не за что было ухватиться, вот он и болтался-извивался, как змея, головой к самой земле. И вот прибежала она в одно место, а там быки паслись, и лошади, и еще страусы, олени, козы, и свиньи. «Друзья мои, – закричала обезьяна, скалясь, как череп, и вытаращив круглые, как доллар, глаза, – послушайте, какие новости! Новости-то какие! Я к вам пришла рассказать, что скоро будет революция». «Где?» – спрашивает бык. «На дереве – где же еще?» – отвечает обезьяна. «А это нас не касается», – говорит бык. «Еще как касается, – кричит обезьяна, – она ведь скоро пойдет по всей стране, и вам всем глотки перережут». А бык в ответ: «Вот что, обезьяна, иди-ка ты обратно и отстань от нас со своими новостями, а то как бы мы не разозлились да не пошли и не взяли вас там в осаду на вашем дереве, как не раз уж нам приходилось делать, с тех пор как мир стоит; а потом, коли ты и твои обезьяны сойдете с дерева, мы вас на рога подденем».
Басня эта произвела сильное впечатление: с такой изумительной картинностью старик изобразил нам голос и жестикуляцию болтающей, захлебываясь от волнения обезьяны и величественный апломб быка.
– Сеньор, – продолжал он, когда хохот приутих, – я не хочу, чтобы кто-нибудь из моих друзей и близких, здесь присутствующих, пришел к заключению, что я тут наговорил чего-то для кого-то обидного. Если бы я посчитал вас за жителя Монтевидео, я бы не поминал про обезьян. Но, сеньор, хотя вы и говорите по-нашему, а в говоре вашем все же есть какой-то перец с солью и дают они явственный иноземный привкус.
– Вы правы, – сказал я, – я иностранец.
– В чем-то, друг, да, вы иностранец, поскольку родились, без сомнения, под иными небесами; но вот что до главного свойства, которым, думается, Творец наделил нас в отличие от людей других земель – а это способность душою родниться с людьми, которые вам повстречаются, одеты ли они в бархат или в шкуры овечьи, – вот в этом вы один из нас, чистокровный Oriental, житель Востока.
Я улыбнулся его тонкой лести; возможно, то была всего лишь отплата за ром, которым я его угостил, но мне было оттого не менее приятно, и к другим качествам его ума я был теперь склонен добавить еще поразительное умение как по писаному читать в чужой душе.
Немного погодя, он пригласил меня провести ночь под его крышей.
– Конь у тебя толстый и ленивый, – сказал он, и это была правда, – и если только ты не родня совиному семейству, то сильно далеко тебе до завтра не уехать. Домишко у меня непритязательный, но баранина там сочная, огонь жаркий, а вода холодная, не хуже, чем в любом другом месте.
Я с готовностью принял его предложение, желая по возможности ближе узнать личность, столь оригинальную, и, прежде чем отправиться к нему, прикупил бутыль рома; тут глаза его так заблестели, что мне пришло в голову: имя его, Лусеро (заря), подходит ему как нельзя более. От лавки до его ранчо было около двух миль, мы поехали верхами и всю дорогу туда неслись таким диким галопом, каким до того мне скакать не доводилось ни разу. Лусеро был domador, то есть укротитель лошадей, и тварь, на которой он ехал, была, наверное, самой необъезженной и норовистой изо всех тварей. Между лошадью и человеком все время бушевала лютая борьба за господство: лошадь внезапно вставала на дыбы, взбрыкивала и пускалась на все мыслимые уловки, чтобы избавиться от своей ноши, а Лусеро с неиссякаемой энергией потчевал ее плетью и шпорами, изливая на нее при этом потоки небывалых эпитетов. В какой-то момент они едва не врезались в мою старую мирную скотину, а в следующий между нами уже было ярдов пятьдесят; и все это время Лусеро не прекращал говорить, поскольку, когда мы еще только тронулись, он приступил к очень интересной истории и упорно, несмотря ни на что, придерживался нити своего рассказа, подхватывая ее после каждой очередной серии проклятий, обрушенных им на свою лошадь, и возвышая голос почти до крика, когда нас разносило слишком далеко. Выносливость старикана была совершенно необычайной: когда мы подъехали к дому, он с воздушной легкостью спрыгнул наземь и казался свеж и невозмутим как ни в чем не бывало.
В кухне несколько человек потягивали мате, это были дети и внучата Лусеро, и с ними его жена, старая седая подслеповатая дама. Мой же хозяин, хотя сам был стар годами, но, подобно Улиссу, в душе продолжал сохранять негасимый огонь и энергию юности, тогда как спутницу его жизни время наделило немощами, морщинами и сединами.
Он представил ей меня в манере, от которой я так застеснялся, что меня бросило в краску. Встав перед нею, он сказал, что встретил меня в пульперии и задал мне вопрос, с каким всякий старый простак-деревенщина пристает, должно быть, к каждому проезжему из Монтевидео – что там, дескать, за новости? Затем, взяв сдержанный сатирический тон, воспроизвести который мне не удалось бы, практикуйся я хоть годами, он перешел к изложению моего фантастического ответа, обильно украшая его чудной отсебятиной.
– Сеньора, – сказал я, когда он кончил, – вы не должны ставить мне в заслугу все, что вы услышали от вашего мужа. Я только снабдил его грубой шерстью, а он соткал из нее ради вашего удовольствия прекрасное сукно.
– Слышала? Каково? Разве я тебе не говорил, Хуана, чего от него ждать? – воскликнул старик, отчего я покраснел еще сильнее.
Потом мы сели пить мате и перешли к спокойной беседе. В кухне на конском черепе – обычный предмет мебели на восточных ранчо – сидел мальчик лет двенадцати, один из внуков Лусеро, с очень красивым лицом. Он был бос и плохо одет, но его кроткие темные глаза и оливковое лицо имели то нежное, слегка меланхоличное выражение, которое часто можно увидеть у детей испанского происхождения и которое всегда бывает таким необыкновенно пленительным.
– Где твоя гитара, Сиприано? – спросил, обращаясь к нему, его дедушка, после чего мальчик поднялся и сходил за гитарой, которую сперва вежливо предложил мне.
Когда я отказался от нее, он снова уселся на изглаженный до блеска конский череп и сам принялся играть и петь. У него был приятный мальчишеский голос, и одна из его баллад настолько захватила мое воображение, что я попросил его повторить мне слова, чтобы я записал их в свою записную книжку; это доставило большое удовольствие Лусеро, который, очевидно, гордился талантами мальчика. Привожу эти слова в почти буквальном переводе, стало быть без рифм, и жаль только, что я не в силах донести до моих музыкальных читателей ту причудливую, заунывную мелодию, на которую они пелись.
О, дай уйти мне – отпусти туда, Где высоко в горах берут начало Ручьи и радостно бегут на юг Средь муравы широкой степью, Рогатые олени к ним идут, чтоб жажду утолить, Они ж торопятся на встречу с огромным синим океаном.
Скалистые холмы, холмы С лазурными цветами на утесах, Там скот пасется без тавра, ничей; И бык, царь стад, там кажется Величиной с мою ладошку, Когда скитается в высотах, среди круч.
Как хорошо они знакомы мне, как хорошо знакомы
Господни те холмы, и хорошо я им знаком; Когда я там, они хранят покой, Но если там появится чужак, Над их вершинами сойдутся грозовые тучи И грянет над землей гроза.
А если скажешь: нет, а если нет, То как печально прозябать одной Моей душе придется в городе, в плену, Томясь по вольным и пустынным далям; Красны от крови улицы, и в страхе Бледнеют скорбных женщин лица.
Вдаль унеси меня, вдаль унеси, Мой быстрый, крепконогий, верный конь: Я кладбищ не люблю, Но я уснуть хотел бы на равнине, Там пышная зеленая трава волнами будет вкруг меня ходить, И дикие стада кругом пастись там будут.
Глава III
Наброски для пасторали
На другое утро, спозаранку покинув ранчо красноречивого старого объездчика, я продолжил свой путь и весь день спокойно ехал медленной рысью; я оставил позади департамент Флорида и вступил в пределы департамента Дурасно. Здесь я прервал свое путешествие на эстансии, где мне представилась превосходная возможность изучать нравы и обычаи жителей Востока и где я, кроме того, подвергся испытаниям несколько иного характера и значительно расширил свои познания о мире насекомых. Дом этот, куда я прибыл за час до захода солнца, дабы попросить приюта («позволение расседлать лошадь» – так это называется у путешественников), являл собой длинное, низкое строение, крытое камышом, но имевшее низкие, чудовищно толстые стены, сложенные из камня, добытого в соседних горах, sierras; куски камня были всевозможных форм и размеров, и снаружи все это выглядело чем-то наподобие неровной каменной ограды. Как эти булыжники, беспорядочно нагроможденные, без связующего их между собой цемента, не развалились, осталось для меня тайной; еще труднее было понять, почему эту грубую кладку, всю в бесчисленных, забитых пылью впадинах и щелях, с внутренней стороны ни разу не попытались заштукатурить.
Я был любезно принят весьма многочисленным семейством, состоявшим из хозяина, его убеленной сединами тещи, его жены, трех сыновей и пяти дочерей; все дети были уже взрослые. Там было также несколько маленьких ребятишек, принадлежавших, как я понял, дочерям, несмотря на тот факт, что ни одна из них не была замужем. Меня сильно поразило названное мне имя одного из этих младшеньких. Такие христианские имена, как Троица, Сердце Иисусово, Рождество, Иоанн Божий, Непорочное Зачатие, Вознесение, Воплощение, довольно распространены, но привычка к ним едва ли подготовила меня к встрече с человеческим существом по имени – представьте себе – Обрезание! Помимо людей, там были собаки, кошки, индюшки, утки, гуси и куры в неисчислимом количестве. Не удовольствовавшись этим изобилием домашних птиц и животных, они держали еще гадкого, пронзительно вопившего, длиннохвостого попугая, с которым старуха беспрерывно беседовала, все время отпуская в сторону краткие ремарки, чтобы пояснить остальным, что птица сказала или желала сказать, или, точнее, что ей самой воображалось по поводу смысла птичьих речей. Там было еще несколько молодых ручных страусов: они без конца слонялись по большой кухне или по жилой комнате, выглядывая, не остались ли где без присмотра медный наперсток, железная ложечка или какие-нибудь другие маленькие металлические лакомые вещицы, чтобы сожрать их, пока никто не видит. Домашний броненосец весь вечер сновал туда-сюда, туда-сюда, а хромая чайка, куда бы кто бы ни пошел, всегда возникала на пороге, беспрестанными воплями выпрашивая чего-нибудь поесть – упорнее попрошайки я не встречал во всю мою жизнь.
Здешние обитатели были жизнерадостны, общительны и – для страны, где леность в обычае, – отличались немалым трудолюбием. Земля была их собственная, мужчины управлялись со скотом, которого, как казалось, у них было множество, тогда как женщины занимались изготовлением сыров и каждый день до света вставали доить коров.
В течение вечера двое или трое молодых парней – я думаю, соседей, явно приударявших за юными дамами дома сего, – присоединились к обществу; и после обильного ужина мы принялись петь и плясать под музыку гитары, на которой все члены семейства – за исключением разве что младенцев – немножко умели тренькать.
Часов в одиннадцать я отправился на отдых и в каморке за кухней, растянувшись на незатейливой койке, застланной грубыми шерстяными покрывалами, благословил в душе этих простодушных и гостеприимных людей. Боже мой, думал я, какая замечательная идиллия ждет тут появления какого-нибудь нового Феокрита! Какой неимоверно избитой, ходульной, донельзя искусственной кажется вся так называемая пасторальная поэзия, доселе появившаяся, когда вот так сидишь за ужином, а то присоединишься к какому-нибудь грациозному танцу – Cielo или Pericon'у – в одной из этих отдаленных полуварварских южноамериканских эстансий! Я поклялся в душе, что сам стану поэтом и в один прекрасный день вернусь в старую пресыщенную Европу, чтобы поразить ее чем-то таким, таким… Что за черт? Мой уже переходивший в сон монолог вдруг завершился самым негармоничным и жалким манером, ибо мне послышался ужасный звук – ошибки быть не могло, это «ззз-ззз» могли издавать лишь крылья насекомых, и этими насекомыми были мерзкие кровососы vinchuca. Появился враг, против которого бессильны британская отвага и шестизарядный револьвер и в присутствии которого начинаешь испытывать чувства, которым, как обычно считается, не должно быть места в груди истинно мужественного человека. Натуралисты скажут нам, что имя этому врагу Connorhinus infestans, но, поскольку вряд ли кого-то удовлетворит одна лишь эта информация, я добавлю еще несколько слов и попытаюсь описать, что это за бестия. Она обитает повсеместно в Чили, в Аргентине и на Восточном Берегу, и всем жителям этих бескрайних территорий она известна как винчука, поскольку, подобно некоторым вулканам, смертельно опасным змеям, водопадам и прочим величественнейшим и грознейшим творениям природы, ей было дозволено сохранить за собой древнее имя, присвоенное ей аборигенами. Она вся черновато-бурого цвета, шириною с ноготь мужского большого пальца и плоская, как лезвие столового ножа, – пока голодна. Днем она прячется, наподобие клопов, в щелях и норах, но стоит свечам погаснуть, как она тут как тут в поисках, на кого б наброситься, чтоб утолить голод: как чума, она разгуливает по ночам. Она умеет летать и в темной комнате знает, где вы и как к вам подобраться. Выбрав на вашем теле удобное нежное местечко, она пронзает кожу своим хоботком или, если угодно, клювиком и жадно сосет две-три минуты; и, как ни странно, вы и не почувствуете, как она это проделывает, даже если сна у вас ни в одном глазу. Тем временем тварь, до того совершенно плоская, приобретает форму, размер и общий вид спелой крыжовины – столько крови она вытягивает из ваших вен. Сразу после того, как она вас оставляет, укушенное место вспухает и начинает гореть, как ужаленное крапивой. То обстоятельство, что боль возникает лишь после, а не во время операции, дает винчуке большое преимущество, и я сильно сомневаюсь, что существуют какие-нибудь другие кровососущие паразиты, которым природа так же благоприятствует в этом отношении.
Представьте теперь мои ощущения, когда я услышал звук, издаваемый не одной, а двумя, если не тремя, парами крылышек. Я старался отвлечься от этого звука и уснуть. Я старался изгнать мысль об этих неровных старых стенах с их множеством щелей – мой хозяин осведомил меня, что им уже добрых сто лет. Какой интересный старый дом, только подумал я, и в тот же миг внезапный жгучий зуд охватил большой палец у меня на ноге. Вот такие дела! – сказал я сам себе; разгоряченная кровь, поздний ужин, танцы и все прочее. Мне показалось, будто кто-то впился мне в палец зубами, хотя ничего такого на самом деле, конечно, не было. Затем, пока я яростно тер и расцарапывал палец, испытывая дикое желанье буквально отгрызть его, лишь бы избавиться от боли, мою левую руку точно пронзило раскаленными докрасна иглами. Мое внимание тотчас же переключилось на это место, но вскоре мои столь занятые руки получили уже новый сигнал, подобно паре врачей, по уши загруженных работой в городе, охваченном эпидемией; и так сражение продолжалось всю ночь, лишь случайно прерываемое ничтожно-краткими провалами в сон.
Я встал рано, пошел к довольно широкому ручью, протекавшему в четверти мили от дома, и бросился в воду – это сильно меня освежило и придало мне сил, чтобы отправиться на поиски лошади. Бедная скотина! Я ведь сперва намеревался дать ей день отдыха, такими славными и гостеприимными показали себя хозяева, но теперь меня бросало в дрожь при одной мысли, что придется провести еще ночь в этом чистилище. Я нашел коня в состоянии столь убогом, что он вряд ли смог бы даже еле-еле плестись, так что я вернулся в дом на своих двоих и поверженный в совершенное уныние. Мой хозяин стал меня утешать, уверяя, что я смогу отлично поспать во время сиесты, когда мне не будет надоедать «эта мелюзга, которая тут мельтешит» – в таких мягких выражениях он охарактеризовал постигшее меня ночью страшное бедствие. После завтрака, около полудня, воспользовавшись его советом, я постелил коврик в тени дерева, лег и сразу провалился в глубокий сон, продлившийся чуть не до вечера.
