Тайна короля Лира
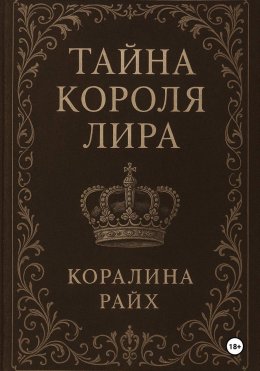
Пролог
Дождь барабанил по черной шляпе зонтика, дробясь на капли и теряясь среди луж на мостовой. Каменные дорожки блестели от влаги. Воздух пах мокрыми листьями, пылью и сырым деревом – в Кардиффской академии даже грозы казались воспитанными. Лакированные туфли звонко цокнули по мраморной лестнице. Тяжёлая дверь поддалась с тихим скрипом, и в освещённый холл вошёл мужчина среднего роста. С темного плаща капала вода. Руки, облаченные в черные перчатки, держали опущенный зонт.
– Мистер Крацвег, вы наконец прибыли!
Слуга торопливо поставил чемоданы у стены, принял зонт и сдержанно поклонился. Из глубины коридора вышла профессор Дамиан, строгая и точная, как всегда.
– Дорога выдалась нелегкой, директор. Мы должны были прибыть на час раньше, если бы не шторм. – Опустил подбородок Альбирео.
Профессор Дамиан, директриса пансионата уже тридцать лет, едва заметно улыбнулась и кивнула. Седые пряди коснулись покатых плеч, сверкнувшие ностальгией карие глаза прикрылись, и вся она будто стала мягче, моложе.
– Академия скучала по Вам, мистер Крацвег.
– Пожалуй, я тоже по ней скучал. Всё же, прошло шестнадцать лет.
Он говорил спокойно, но пальцы чуть дрогнули, когда он коснулся перил лестницы.
Высокие потолки Кардиффской академии тонули в сумраке дождливого вечера, скрывая тени прошлого. Твердая поступь эхом отражалась в длинном переходе с витражными окнами. Настенных ламп едва хватало на освещение старинного помещения.
Слуга проводил Крацвега взглядом до конца галереи, где на витражах отражались вспышки молний. За дверями старого зала, где раньше проходили занятия, слышался ровный шорох.
– Простите, директор… Как давно ушел Элден? – спросил он, оборачиваясь.
– В начале марта. – Дамиан едва слышно вздохнула. – Вечерами здесь тихо. С тех пор, как мистер Элден… покинул нас, аудитория пустует.
– Ясно. – произнёс Крацвег, и на мгновение его голос стал глуше. – Элден преподавал ещё и французский, верно?
– Да. – В её интонации послышалось колебание. – Но я надеюсь, что его замена на немецкий не сильно скажется на программе.
Мужчина кивнул, будто отметил для себя что-то важное. За его спиной гулко отзывались шаги, а дождь бился в витражи всё сильнее. Альбирео остановился у окна, разглядывая отреставрированный балкон крыла напротив. Странное чувство пронзило его – не ностальгия, но что-то похожее.
На втором этаже, в узком проходе между кабинетами, мелькнула рыжая прядь. Девушка, пряча лицо, выглянула из-за колонны, задержав дыхание.
Он изменился – лицо стало резче, осанка прямее. Только глаза остались прежними.
– Рео приехал… – шепнула она едва слышно, и её голос растворился в шуме дождя.
Крацвег нахмурился, будто уловил этот шёпот, но не обернулся. Лишь продолжил разглядывать стены академии и на секунду позволил себе короткую, почти неуловимую улыбку.
Снаружи грянул гром.
В академии начался новый семестр.
Часть 1.
В утро после грозы академия пахла мокрым камнем и прелой листвой. Сады вокруг главного корпуса утопали в росе, дорожки посеребрились, а воздух был таким прозрачным, что казалось – вдохни чуть глубже, и почувствуешь вкус металла на языке.
Эйлин шла через внутренний двор, придерживая подол юбки, чтобы не зацепить влажную траву. Пальцы, тонкие и холодные, цеплялись за старый шарф, в который она всегда куталась, даже теплой осенью. На ней было пальто серо-зеленого цвета, уже немного потертое на рукавах. Оно делало девушку похожей на часть самой академии – ту, что старше всех студентов и всё ещё хранит тайны в своих стенах.
Из окон доносились голоса – кто-то спорил о правильном ударении в латинской фразе, кто-то смеялся, обсуждая лекцию по семантике.
В Кардиффской академии теперь изучали языки. Искусства давно отошли на второй план – мольберты пылились в подвальных аудиториях, а старый концертный зал служил библиотекой. Всё стало строже, логичнее, тише.
Эйлин это устраивало.
Слова были для неё живыми существами. Она любила наблюдать, как одно и то же слово в разных языках дышит по-разному, как буквы складываются в нечто, что может ранить сильнее любого оружия. Иногда ей казалось, что в самом строении речи можно найти нечто древнее, спрятанное, почти магическое. Но такие мысли она оставляла при себе.
В тот день академия гудела слухами. Утром пришла новость, что новый преподаватель прибыл – Альбирео Крацвег, выпускник старого набора.
– Ты слышала? – соседка по комнате, Тесса, приземлилась на скамейку с чашкой кофе. – Он настоящий профессор! Говорят, преподавал за границей, где-то во Фрайбурге или, может, в Эдинбурге… не помню.
Эйлин подняла глаза от конспекта. С деланным удивлением она переспросила, тем не менее тут же опустив голову обратно:
– Крацвег? Альбирео?
– Ага. Его видели недавно мои знакомые с испанского. Это так интересно! Говорят, он очень красивый и-… Подожди, ты что… смеешься надо мной?
Эйлин помотала головой, сдерживая подергивание плеч и не поднимая головы. Говорить о том, что новый идол Тессы появлялся в их доме каждые выходные по праву любимого друга Бруно – её брата – было равносильно нажатию красной кнопки. «Нет-нет, продолжай…» – пробормотала девушка и перевела дух.
Тесса пожала плечами и протянула:
– И, представь, его взяли вместо Элдена. Того, что исчез весной.
На мгновение перо остановилось в руке Эйлин. Она задумчиво хмыкнула.
– Исчез… – повторила она тихо. – Ты уверена, что именно исчез, а не уехал?
– Ну, официально – “ушёл по собственному”. – Тесса поджала губы. – Только вот вещи его нашли не все, а в кабинете потом несколько дней не давали убирать. Говорят, стены будто копотью покрылись.
Эйлин не ответила. Она уже не слушала. Имя – Альбирео Крацвег – звучало совершенно привычно. И она видела, когда он приехал. Другим вопросом было, почему он согласился преподавать. Рео никогда не стремился к этому. Для чего ему это было нужно?
Слух прошёл по академии быстро. Кто-то уверял, что он был лучшим выпускником своего года, кто-то – что именно из-за него закрылось художественное направление, кто-то вспоминал, будто во времена его учёбы случилось “что-то странное”, но подробностей никто не знал.
После занятий Эйлин вышла на старый балкон второго этажа, который когда-то выходил на южную часть территории. Сад давно превратился в поросший лозой лес, который почему-то не трогали садовники. Под перилами лежали ещё не высохшие листья, воздух был густой и тёплый. Пахло полынью.
На площадке внизу стоял он. Вытянутый, прямой, как рельса, в тёмном пальто, Альбирео говорил с профессором Дамиан. В его чертах было что-то чужое академии – изящная сдержанность, уверенность человека, не ищущего одобрения.
Эйлин смотрела, не решаясь двинуться. Дождевые капли ещё висели на металлических узорах балкона, скатывались вниз, падали где-то рядом с ним. В один момент Крацвег поднял голову, будто почувствовал взгляд. Их глаза встретились на мгновение. И всё, что она увидела, – холодный, внимательный взгляд, в котором не было ни удивления, ни интереса. Будто он знал, что она будет здесь. Едва заметный кивок признания отозвался слабым шевелением в груди.
Время потянулось сладкой патокой, неспешно листая дни. У них всё ещё не было занятий с Рео, но из разговоров однокурсников было известно достаточно, чтобы утверждать: он знал о происходящем в академии больше, чем мог показать. Это читалось во взгляде на обеде, по твердой и натянутой, как струна, спине. Читалось в редких минутах, когда он останавливался в коридорах и предавался размышлениям, не отвлекаясь на мечущихся студентов.
– Тесса, – позвала Эйлин вечером, закрывая окно в комнате общежития. – а если его приезд связан не только с Элденом?
Соседка уже почти уснула, укрывшись с головой, но пробормотала сквозь подушку:
– В смысле?
– Просто… – она замолчала. – Кое-что случилось, когда он учился здесь. Вдруг оно связано с тем, что происходит сейчас?
Тесса не ответила.
Позже, когда свет в коридоре погас и луна скользнула по стеклу, Эйлин заметила конверт. Белый, аккуратно сложенный, подложенный под дверь. Ни адреса, ни имени отправителя. Только одно слово на лицевой стороне: «Эйлин».
Она раскрыла его, стараясь не порвать край. Внутри был короткий листок, исписанный ровным, мужским почерком.
Ты права. Его приезд – не случайность. Иногда прошлое возвращается не к тем, кто его создал, а к тем, кто способен понять.
– Л.
Эйлин перечитала записку несколько раз. На третьем чтении заметила: чернила пахли дождём.
Зал для лекций наполнялся шорохом – студенты шли друг за другом, выкладывали книги и тетради, перешептывались. Эйлин устроилась на краю ряда, разглядывая ожившее спустя долгое время место.
Аудитория была старинной, с высокими сводчатыми потолками и тяжелыми деревянными лавками, вмурованными прямо в пол. Стены украшали портреты выпускников прошлых лет, выцветшие карты и старые глобусы. Солнечный свет пробивался через витражи, рисуя на полу пестрые пятна. В воздухе висел запах старой бумаги и пыли – слегка сладковатый, словно память о минувших столетиях.
Альбирео Крацвег стоял у кафедры, слегка склонив голову, а руки держал за спиной.
– Язык… – начал он. – этот инструмент человеческого разума, возник не случайно. Учёные спорят о его происхождении, выдвигая разные теории. Одни считают, что он появился из подражания звукам природы – журчанию ручья, пению птиц, шороху ветра. Другие – что первобытные звуки эмоций, крики радости, боли или страха постепенно оформлялись в слова.
Он сделал паузу, медленно обводя взглядом аудиторию. Его голос был мягким, но отточенным: каждое слово звучало как музыкальная нота, ровно, убедительно, и в зале постепенно наступала тишина, словно сама аудитория прислушивалась. Даже самые шумные студенты невольно выпрямлялись, а кто-то подбирал падшую ручку, чтобы не нарушать гармонию момента.
– Ещё одна теория – трудовые выкрики. Считается, что язык появился там, где люди работали вместе: при сборе урожая, охоте, строительстве. Чтобы координировать действия, возникли первые слова. Возможно, все эти процессы действовали одновременно.
Эйлин почувствовала, как в его голосе скользит что-то магическое, словно каждое слово он вылеплял собственными руками. Студенты записывали, кто-то с любопытством наклонялся вперед, будто хотел услышать не только слова, но и дыхание древности, которое через них проходило.
– А мифы… – голос его понизился, словно тайна стала ближе. – рассказывают нам о том, как люди объясняли происхождение речи. Вавилонская башня, легенда индейцев тукуна, миф ва-санья – все они показывают: язык – не просто инструмент, а душа народа, которую можно потерять или обрести заново.
Он подошёл к одной из карт на стене, медленно провёл пальцем по линиям миграции племен, как будто показывая, что каждое слово имеет историю, и каждое произнесённое имя – часть глобальной памяти.
– Звуки меняются, складываются в слова, слова – в предложения, а предложения – в тексты. Через язык мы не только передаём информацию, но и сохраняем память поколений. – Он сделал паузу, взгляд его скользнул по залу. – Кто-то скажет: «Языки умирают». Но это не так. Языки не умирают – они спят. Иногда они пробуждаются через песни, через редкие тексты, через тех, кто не боится слушать прошлое.
Лекция продлилась необыкновенно долго и вместе с тем так скоротечно, что её конец оказался совершенно внезапным. Крацвег отошел к кафедре и застыл памятником, сложив руки за спиной:
– Я готов ответить на ваши вопросы – если их будет не слишком много.
Тишина на мгновение повисла в воздухе. А затем студенты рванули к нему одновременно, словно сорвав плотину: кто-то задавал вопросы о шумерских текстах, кто-то – о баскском языке, кто-то – о мифах. Вопросы ради вопросов, не более.
Эйлин стояла в стороне, чувствуя, как прилив адреналина сменяется тревожным холодом. Она увидела, как глаза Крацвега вспыхнули ледяным светом, взгляд стал настолько колким, что любое слово казалось лишним. Она поняла: сейчас не время. Отступив, Эйлин отстранилась, позволив другим окружить его: «В следующий раз».
Часть 2.
Крацвег рассказывает красиво и уверенно – не так ли? Ему бы не составило труда скрыть какую-нибудь тайну.
– Л.
Новое письмо от неизвестного Л. не заставило себя ждать. Аккурат после лекции, оставившей неизгладимое впечатление на студентов их группы, оно оказалось подброшенным в сумку и было обнаружено поздним вечером в комнате.
– Тесса, посмотри. – Эйлин протянула короткую записку соседке.
– Любовные послания? – Тесса улыбнулась, но, пробежавшись глазами по тексту, нахмурилась. – Нет, не любовные. Ты знаешь, кто такой этот Л.?
– Нет. Как раз хотела спросить, не знаешь ли ты кого-то с именем, начинающимся на эту букву. Кого-то умного.
Тесса присела на край кровати, коснулась кончиком пальца губы и протянула задумчивый звук, устремив взгляд к потолку.
– Леон? – предположила она, но тут же поспешно замахала руками. – Нет, это не Леон! У него ужасный почерк. Линкольн Дюрсо? М-м-м… Нет! Он слишком умный, чтобы искать подвох в преподавателе. Может, это фамилия? Лаур, например…
Тут уже опровергла Эйлин:
– Лаур на меня обижается с первого года. Более того, он не настолько умен. Я думаю, если бы это была фамилия, имя тоже было бы написано инициалом.
– Но ведь так теряется вся анонимность! – воскликнула соседка.
– Тесса, не кричи!
– Ладно-ладно… – Тесса закатила глаза и взяла книгу с прикроватной тумбочки, улегшись. – Я больше не могу придумать, кто это может быть. Если это кто-то с исторического, то я точно не знаю. Тебе стоит спросить у мальчиков.
– У мальчиков я спрошу в последнюю очередь. – сухо ответила Эйлин и спрятала записку между страницами блокнота.
Утром она проснулась раньше всех. На улице стоял туман, густой и молочный, что оседает на воротниках и пахнет влажной бумагой. В коридорах академии звенела тишина, нарушаемая лишь шагами старшего привратника и редким звоном ключей.
Эйлин накинула шарф, сунула в карман блокнот и спустилась в холл.
На доске объявлений висело приглашение на организационное собрание к празднику Осеннего равноденствия. К празднику готовились все факультеты – готовили плакаты, музыкальное сопровождение, речи и тематические мероприятия.
Она оторвала маленький уголок объявления и, словно между делом, подошла ближе, чтобы рассмотреть другие бумаги. Среди свежих листков, напечатанных ровными строками, висел один старый, пожелтевший, приколотый ещё булавкой прежнего образца.
Дискуссионный форум.
Тема: «Слова, которые нельзя перевести».
Дата проведения – перечёркнута.
Подпись: Т. Хитклифф
Эйлин задержала дыхание. Было удивительным увидеть подпись Тодда Хитклиффа – ныне одного из самых влиятельных дипломатов, серого кардинала в политике, но в прежнее время – одного из ближайших друзей её брата Бруно и Альбирео Крацвега. Казалось, несмотря на прошедшие годы, академия всё ещё дышала воздухом тех времён, когда раздавались их шаги по коридорам.
К полудню зал, где проходило собрание, наполнился голосами. На кафедре стоял старшекурсник, ответственный за литературный кружок, и пытался призвать всех к порядку.
– Мы не можем снова использовать старые тексты! Академия ждёт от нас чего-то нового. – говорил он, бегло оглядывая аудиторию. – Если у кого-то есть идеи – не держите их при себе.
– Может, стихи на староанглийском? – крикнул кто-то с задней парты.
– Или поэтический диалог на латыни. – предложила Эйлин почти шепотом, но ответственный старшекурсник услышал.
– Да! – он обернулся. – Эйлин, вы же с кафедры сравнительного языкознания, верно? Подключитесь к нам. Нам как раз не хватает людей, которые мыслят не только рифмой, но и логикой.
Некоторые зааплодировали. Эйлин невольно улыбнулась. Она не любила выступать, но сам факт, что её услышали, был приятен.
Только в этот момент она заметила на столе перед собой маленький конверт. Такой же, как прошлый. Белый, без подписи. Она развернула его осторожно, прикрывая ладонью.
Иногда слова скрывают то, что нельзя понять. Их нельзя перевести. Но тот, кто умеет их слышать, может понять больше остальных.
– Л.
Письмо снова пахло дождём и чем-то металлическим. Под чернилами просвечивала едва заметная линия – будто кто-то писал на бумаге, положенной поверх чего-то неровного. Эйлин прищурилась, провела пальцем. Там было ещё одно слово, выцветшее, едва различимое: «Прачечная».
Позже, когда остальные расходились по делам, она свернула к старому крылу – туда, где находилась забытая прачечная. Когда-то здесь стирали форму для студентов, но после перестройки помещение закрыли.
Внизу пахло известью, водой и чем-то железным. Сквозь зарешеченное окно пробивался свет, и в его лучах плясали пылинки. Эйлин провела рукой по стене – холодный камень, шершавый, чуть влажный. На стене, прямо над сливом, была выцарапана фраза:
«Tempus tacet».
Время молчит.
Снаружи зазвенел колокол – сигнал к вечернему занятию. Эйлин обернулась. На мгновение ей показалось, что в коридоре мелькнула тень, но, когда она подошла ближе, там никого не было.
На следующий день Эйлин удалось поговорить с Альбирео.
Вечером, когда большинство студентов уже расходилось по комнатам, она проходила мимо старой аудитории, где проводил лекции Крацвег. По случайному стечению обстоятельств дверь была приоткрыта, и сквозь маленькую щель Эйлин увидела его стоящим между парт.
Было что-то удивительное в том, как Рео держался. Тонкий стан, русые волосы, чуть приглаженные назад, и глаза – светло-зеленые, спокойные лишь на первый взгляд, но с глубоко залегшими тенями под ними, будто от постоянного недосыпа или тех мыслей, которые никогда не оставляют человека в покое. Он казался частью этого места – не просто преподавателем, но чем-то большим. Словно академия, со всем её временем, с каждым потрескавшимся пером, каждым потускневшим окном, принадлежала ему.
И одновременно – он принадлежал ей.
– Можно войти? – Эйлин едва слышно постучала по двери и шагнула за порог.
Что-то незримо изменилось вокруг, стоило ей оказаться в самой аудитории. Когда она была пуста, освещённая лишь вечерним светом и редкими бликами ламп, воздух здесь казался гуще, чем обычно. И Альбирео Крацвег в этой пыльной тишине выглядел иначе – он казался скульптурой, высеченной из того же мрамора, что составлял стены академии.
– Проходи, Эйлин. – он не обернулся, узнав её по голосу и звуку шагов, и опёрся бедром на парту, махнув рукой на скамью рядом. – Прикрой дверь, пожалуйста. Садись.
Эйлин подчинилась. Внутри всё будто стянулось в узел: и волнение, и любопытство, и тень старого, почти забывшегося детского чувства. Альбирео Крацвег казался одновременно бесконечно далеким от образа преподавателя, и бесконечно близким к тому человеку, которого Эйлин удавалось видеть в их доме когда-то давно.
– Я хотела спросить… – начала она и остановилась, выбирая слова. – Почему Вы решили вернуться? Преподавать именно здесь.
Альбирео посмотрел на неё. В этом взгляде не было раздражения, только усталость и осторожность.
– Вернуться… – повторил он, словно пробуя слово на вкус. – Знаешь, иногда место зовёт не потому, что ты ему нужен, а потому что оно всё ещё хранит то, что ты не успел забрать.
– Что-то… личное? – Эйлин почувствовала, как щеки вспыхнули, но отвести взгляда не смогла.
Крацвег медленно провёл ладонью по столешнице, будто стирал пыль с давно забытого воспоминания.
– Возможно. Но в академии нет ничего личного. – произнёс он после паузы. – Всё здесь принадлежит времени. Даже люди.
Он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась.
Эйлин смотрела на него, и вдруг осмелилась:
– Тогда, может быть, Вы знали профессора Элдена? Того, кто… исчез?
Крацвег слегка напрягся. Её вопрос задел что-то хрупкое.
– Мы были знакомы. – коротко сказал он. – Но не близко. Насколько мне известно, его исчезновение – это слухи, распространенные скучавшими студентами. Не думай об этом.
– Простите. – Эйлин чуть сжала пальцы, чувствуя, как внутри растёт решимость задать то, что действительно мучило. – А… Тодд Хитклифф? Вы ведь дружили с ним, когда учились здесь. Он… тоже пропал.
Всё изменилось мгновенно. Во взгляде Рео вспыхнуло что-то опасное – не гнев, скорее резкая, болезненная защита. Он резко поднялся, отступив от парты.
– Кто тебе сказал это?
– Н-никто. – она испугалась, но не отступила. – Я просто… слышала что-то похожее от Бруно. И подумала, что, может быть, он…
– Не произноси этого имени. – тихо, почти шепотом, но с такой силой сказал он, что Эйлин замолчала.
На секунду казалось, что воздух в аудитории стал плотнее. Крацвег стоял, глядя в сторону окна, будто пытался вспомнить что-то и одновременно – заставить себя забыть.
– Тодд… – он всё же произнёс это имя, уже глуше, почти не для неё. – Он был тем, кто понимал лучше всех. И затем исчез.
Эйлин молчала.
– Иногда привязанность к другу – самая жестокая форма зависимости. – продолжил Альбирео, тише, будто признаваясь не ей, а самому себе. – Ты думаешь, что вас связывает одно прошлое, а потом понимаешь – он забрал часть твоего без спроса. Впрочем, он никогда ни о чем не спрашивал.
Он резко оборвал себя, будто сказал лишнее. Тонкие пальцы сомкнулись в замок, плечи чуть дрогнули.
– Простите. – выдохнула Эйлин.
– Не нужно, – тихо ответил он. – это не твоя вина. Просто… не спрашивай больше о Тодде. Ни меня, ни кого-то ещё. Можешь наткнуться на неприятности.
Он снова стал тем же – собранным, хладнокровным, словно между мгновениями успел вернуть себе контроль.
– Иди, Эйлин. Уже поздно.
Она кивнула, чувствуя, что нарушила границу, о которой не знала. Но в дверях всё же остановилась.
– Рео… – позвала она, не думая.
Рео обернулся. В его глазах на миг мелькнуло узнавание – тёплое, живое, настоящее.
– Ты стала похожа на него. – сказал он негромко. – На Бруно. Не теряй этого.
Эйлин не знала, что ответить. Дверь за ней закрылась тихо, но этот звук отозвался эхом по всему коридору.
Позднее ночью, когда она вернулась в комнату, на подоконнике лежал новый конверт. Внутри – всего две строки, выведенные аккуратным почерком:
Ты открыла правильную дверь, Эйлин. Теперь будь осторожна – за ней не всегда тот, кого ты ищешь.
– Л.
Часть 3.
Бруно Шаттенвальд был её старшим братом. С юных лет Эйлин чувствовала, что, несмотря на близость, между ними всегда стояло нечто невидимое – тонкая стена из стекла: через неё можно было видеть, но нельзя было дотронуться.
Он умел быть в центре любого разговора, умел шутить, очаровывать, спорить до хрипоты и выигрывать споры не логикой, а тем особым блеском, что горел в его глазах. Все любили Бруно – преподаватели, соседи, друзья семьи.
Эйлин чувствовала себя рядом с ним тенью.
Живой, настоящий, способный заставить весь мир двигаться быстрее, только потому что он в нём присутствует. Он никогда не злился на неё, не унижал, не смеялся. Лишь делал вид, что не замечает её. Иногда, когда в доме гас свет и все засыпали, Эйлин слышала, как он сидит у окна и что-то бормочет себе под нос – то ли стихи, то ли чьи-то фразы. Тогда ей казалось, что Бруно разговаривает с кем-то, кого нет.
Она понимал, что с ним что-то не так. Не сумасшествие – скорее изломанная внутренняя искра, которую приходилось оживлять силой. Иногда в его взгляде отражалась не эта комната, не этот день, а что-то иное, далёкое, непонятное.
Но Эйлин всё равно любила его. Может быть, даже сильнее, чем должна была.
А потом появился Рео. Альбирео Крацвег. Там, где Бруно был светом, Альбирео был тенью. Где один говорил слишком громко, другой – слишком тихо. Брат действовал душевными порывами, Альбирео – продуманным расчетом. Они могли сидеть рядом молча часами, будто между ними существовал язык, который знали только они двое. Они словно нашли своё отражение в друг друге.
Теперь, глядя на Альбирео спустя годы, Эйлин не могла решить, кем он был для её брата – другом, врагом или тем зеркалом, в котором Бруно увидел искаженную версию себя.
«Ты стала похожа на Бруно» – сказал он.
Эйлин не знала, что он имел в виду. В ней не было той силы, того странного света, что всегда жил в брате. Её взгляд был осторожен, её слова – выверены. Она не умела рушить привычный порядок вещей.
На рассвете Эйлин встала, не включая свет. В голове всё ещё звучал его голос, непроницаемо мягкий и далёкий.
Она разберётся во всех загадках прошлого и найдёт ответы к будущему. Иначе она не сможет узнать, кто ей пишет письма, куда пропал Элден и какую роль во всём этом играет Альбирео Крацвег.
Академия просыпалась медленно. Сквозь высокие окна пробивался холодный утренний свет, рассеиваясь на пылинках и отражаясь в стеклянных шкафах с книгами. На стенах старого корпуса висели часы с потускневшими стрелками, и казалось, что здесь время течёт иначе – вязко, неохотно, как густой мед.
Эйлин стояла у двери преподавательской кафедры, нерешительно поправляя шарф. Ей казалось, что запах мела и чернил здесь был особенно сильным, будто в этих стенах веками скапливались слова, произнесённые и записанные студентами.
Профессор Аркадий Фолькман – старейший преподаватель кафедры латыни, когда-то учивший самого Крацвега, – сидел за столом, обложенный тетрадями и пожелтевшими карточками. Он поднял голову, когда Эйлин постучала.
– Мисс Шаттенвальд, верно? – голос его был мягкий, почти певучий. – Что-то случилось?
– Простите за беспокойство, профессор. – начала она, стараясь не выдать волнение. – Я… хотела узнать кое-что о мистере Крацвеге.
Фолькман слегка удивился, но пригласил её жестом пройти.
– О, Альбирео… Да, я помню его. – он произнёс имя с лёгкой улыбкой, как будто пробовал старую мелодию. – Талантливый мальчик. Сложный, но талантливый.
Эйлин села на край стула.
– Он ведь тоже изучал латынь?
– Конечно. – Фолькман достал из ящика очки и надел их на переносицу. – Тогда, шестнадцать лет назад, искусство и язык были ещё неразделимы. Он пришёл на факультет искусств, но слова увлекли его сильнее красок. Странное дело… – Профессор усмехнулся. – Он говорил, что язык – это архитектура мысли. Что в словах спрятаны механизмы, древние, как сама жизнь.
Эйлин невольно кивнула.
– А потом он перевёлся, да? На лингвистику?
Фолькман откинулся на спинку кресла. Взгляд его на мгновение ушёл в прошлое, как будто он видел перед собой не Эйлин, а кого-то другого – двух молодых студентов, сидящих в середине аудитории.
– Да. – тихо сказал он. – Перевёлся. Неожиданно. С тех пор всё пошло… иначе.
– Иначе?
– Изменился Тодд Хитклифф, староста на их факультете. – почти шёпотом произнёс профессор. – Тодд был… особенным. Железная воля, блестящий ум, редкая память. Он мог выучить любой язык за неделю, а на экзаменах говорил с акцентом, будто родился в Риме. Но был… – Фолькман замялся. – Был слишком серьёзен. Слишком целеустремлён. Такие люди редко бывают счастливы.
Эйлин почувствовала, как у неё пересохло во рту.
– Они дружили?
– Да. И даже больше. Понимали друг друга с полуслова. – Он помолчал. – До тех пор, пока всё не изменилось.
– Что изменилось?
Профессор взглянул на неё. В его глазах промелькнула тень – ностальгия, перемешанная с чем-то вроде тревоги. Он уже открыл рот, будто хотел сказать больше, но в этот момент из коридора послышался звон колокола – начало следующего занятия.
Фолькман вздрогнул. Его рука машинально потянулась к перьевой ручке, и чернила расплескались на бумагу.
– Простите, мисс Шаттенвальд. – быстро сказал он, вставая. – Мы поговорим позже. Сейчас… мне нужно готовиться к лекции.
– Конечно, профессор. – Эйлин поднялась, но в голосе прозвучало разочарование.
Он провожал её взглядом, и в этом взгляде было странное – будто человек, внезапно вспомнивший что-то, хотел немедленно это забыть.
Когда Эйлин уже почти вышла, профессор сказал неожиданно тихо, почти себе под нос:
– Иногда дружба – это просто другой вид поражения.
Она обернулась, но он уже стоял у стола, делая вид, что что-то пишет в тетради.
В коридоре Эйлин остановилась. В груди неприятно колотилось сердце. Она чувствовала – Фолькман не солгал, но и не сказал правды. Что-то в его реакции на звонок, в его внезапной спешке было слишком неестественным.
Сквозняк шевельнул её волосы, и из-под двери кабинета вылетел уголок старого листа. Эйлин нагнулась. Это был обрывок конспекта, исписанный чернилами. Между строк – едва различимая надпись, выведенная острым почерком:
“Silentium lingua mortuorum est”.
Молчание – язык мёртвых.
Эйлин медленно расправила лист, чувствуя, как холод пробегает по коже. Именно этот оборот когда-то любил повторять Бруно.
Толпа в коридоре гудела, как растревоженный улей.
После полудня аудитории выплёвывали потоки студентов – кто-то спорил о лекции по древнегреческому, кто-то смеялся, швыряя конспекты, кто-то стоял у стен, переговариваясь с полушёпотом. Воздух был горячим от дыхания и запаха мокрой шерсти: осень окончательно вступила в свои права, и пальто, шарфы, книги, зонты образовали живую стену.
Эйлин пробиралась сквозь этот поток, стараясь не уронить тетради. Каждый толчок отзывался напряжением в плечах – хотелось поскорее выбраться к лестнице, ведущей в библиотеку. С тех пор как профессор Фолькман произнёс ту фразу, в голове звенело лишь одно: Silentium lingua mortuorum est. Она должна была найти подтверждение. В книгах, в архивах – где угодно.
Но чем дальше она шла, тем сильнее росло ощущение, что за ней наблюдают.
– Простите… – выдохнула она, когда кто-то задел её локтем, – …извините.
Толпа не обращала внимания.
Она уже почти добралась до конца коридора, когда ощутила короткое, резкое движение – кто-то коснулся её пальто, будто случайно. Секунду спустя чужие пальцы скользнули по внутреннему карману. Лёд пробежал по спине.
Эйлин резко обернулась, но вокруг всё было по-прежнему: шум, шаги, запах бумаги и сырости. Кто-то смеялся, кто-то спорил. Никто не стоял достаточно близко, чтобы вызвать подозрение.
Она сунула руку в карман и нащупала сложенный вчетверо клочок бумаги. Тёплый, будто только что побывал в чьей-то ладони. Эйлин подняла голову.
Недалеко, в толпе, уходил кто-то – не очень высокий, но с широкой спиной, в тёмном пальто. Волосы – тёмные, чуть взъерошенные. Он двигался уверенно, почти лениво.
Эйлин попыталась разглядеть лицо, но он не оборачивался. Только, проходя мимо витрины с мраморными бюстами, он чуть повернул руку из-за плеча и, не глядя, показал короткий, насмешливый жест.
Палец вниз.
Как будто давал знак.
Эйлин застыла. Толпа заколыхалась вокруг, кто-то толкнул её, кто-то прошёл слишком близко, и на мгновение она потеряла его из виду. Когда взглянула снова – он уже спускался по лестнице, сливаясь с потоком студентов.
Л. Должен быть он. Кто ещё мог подобраться так близко? Кто знал, где она будет и что ищет?
Она посмотрела на листок. Неровный почерк косился так, словно писали на ходу:
Ты слишком полагаешься на чужие слова, Эйлин. Слишком часто ищешь ответы там, где тебе отвечают охотно. Попробуй спросить у тех, кто молчит – они куда откровеннее.
«Совсем не знак бездушия – молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри».
– Король Лир.
Слова обожгли пальцы, будто чернила ещё не успели высохнуть.
Гул толпы внезапно стал глуше, будто академия на миг затаила дыхание. Эйлин сделала шаг к лестнице, туда, где исчез таинственный студент, но внизу уже было пусто. Только свет ламп дрожал на каменных ступенях, и откуда-то снизу тянуло холодом – сырым, настороженным, как от места, куда давно не ступала нога человека.
Часть 4.
Библиотека Кардиффской академии дышала иначе, чем остальное здание. Здесь пахло пылью, старым деревом и временем – так пахнут вещи, которые слишком долго ждут, чтобы их открыли.
Эйлин вошла, приглушив шаги.
Величественные своды уходили в темноту, под ними ряды шкафов тянулись, как аллеи, и редкие лампы освещали отдельные участки пола золотистыми пятнами. Воздух был неподвижен, словно пространство не любило движения.
В голове ещё звенели слова из записки:
«Совсем не знак бездушия – молчаливость…»
Кто бы ни был этот человек, он знал, как зацепить её. Именно тихие, продуманные насмешки пугали Эйлин больше всего.
Она шла вдоль стеллажей, стараясь успокоить дыхание. Архив, где хранились документы старых факультетов, находился в дальнем крыле, за массивной дверью с железной решёткой. Но, дойдя до него, Эйлин застыла: на ручке висел новый замок, а рядом – аккуратная табличка:
Доступ ограничен.
По всем вопросам обращаться к куратору архива.
Она тихо вздохнула. Развернулась – и пошла обратно, не зная, куда деть ни руки, ни мысли.
Блуждая вдоль стеллажей, она не сразу заметила, как шаги привели её к разделу художественной классики. Названия шептали на всех языках – “Goethe”, “Dante”, “Eliot”, “Flaubert”. Кончики её пальцев скользили по корешкам, пока взгляд вдруг не зацепился за одно.
W. Shakespeare. King Lear.
Эйлин замерла. Сердце неприятно дрогнуло.
– Король Лир… – прошептала она едва слышно.
Мир будто покачнулся – простая деталь рушила всю стройную догадку. Не студент. Не загадочный псевдоним. Просто книга. Трагедия, стоящая здесь, среди сотен других.
И всё же… почему именно это имя? Почему эта пьеса?
Она сняла том с полки. Обложка была мягкая, тканевая, изданная десятки лет назад. На страницах – пожелтевший шрифт и запах времени.
Эйлин прижала книгу к груди. Может быть, Лир выбрал её не случайно. Может, ответ спрятан именно здесь.
Она направилась к читальному залу, намереваясь пролистать хотя бы несколько страниц, но вдруг ощутила – что-то изменилось. Появился тот, почти физически ощущаемый спиной взгляд, когда кто-то следит слишком пристально.
Эйлин обернулась – между рядами пусто. Ни одного движения. Только свет ламп, блики на лакированных полках и глубокие тени в дальних углах. Она сделала шаг – тишина. Ещё шаг – сердце билось всё громче.
Казалось, взгляд следит за каждым её движением, но неуловимо, будто из-за стекла или в отражении.
На ближайшем столе лежала раскрытая книга – кто-то недавно читал и не убрал. Листы чуть колыхались от сквозняка. На полях переливались размашистые пометки чернилами: «гремит лишь то, что пусто изнутри».
Эйлин почувствовала, как по коже пробежал холод. Она медленно, стараясь не шуметь, прижала «Короля Лира» к себе и направилась к выходу.
За спиной словно что-то шевельнулось, будто шелест штор у открытого окна. Но когда она оглянулась, между полками не было никого. Только книжные тени, похожие на фигуры, которые умеют ждать.
Эйлин ворвалась в комнату так, будто за ней кто-то гнался. Дверь захлопнулась с глухим стуком, и только после этого она позволила себе вдохнуть.
Тесса сидела у письменного стола, склонившись над стопкой конспектов. Волосы у неё были собраны в беспорядочный пучок, а на щеках отпечатались следы от очков, которые она сняла лишь на секунду.
– Боже, Эйлин, ты как будто бежала от стада лосей. – сказала она, не поднимая глаз. – Что случилось?
Эйлин стояла посреди комнаты, бледная, с книгой в руках, будто это был щит. Она открыла рот, но голос сорвался.
– За мной следят. – слова вырвались шепотом, но в нём было столько ужаса, что Тесса наконец оторвалась от бумаг.
– Что?
– Там, в библиотеке. Кто-то был там. Он следил. – Эйлин говорила быстро, сбивчиво, словно боялась, что не успеет всё сказать. – И эта записка – я нашла её в кармане, он подложил её прямо в толпе, я чувствовала руку…
Она развернула листок и положила на стол. Бумага в руках дрожала. Рядом – книга Шекспира. Тесса взяла записку, пробежалась глазами, потом ещё раз – медленнее. Выражение её лица почти не изменилось.
– «Совсем не знак бездушия – молчаливость…» – прочла она вслух и подняла взгляд.
– И что, по-твоему, это значит?
– Что он знает! – воскликнула Эйлин. – Знает, куда я иду, о чём думаю. Он как будто всё время рядом. И называет себя Королём Лиром! Ты понимаешь? Это не просто записка – со мной играют. И, возможно, я лишь пешка.
Тесса аккуратно положила листок на край стола.
– Или кто-то просто читает классику. – заметила она спокойно. – Это цитата из Шекспира. Возможно, кто-то из студентов решил пошутить.
– Нет. – Эйлин покачала головой. – Это не шутка. Он всё знает. Про профессора, Бруно, Крацвега, Элдена – всё.
Тесса вздохнула, сложила руки на столе.
– Ты уверена, что просто не… переутомилась? Ты ведь последние ночи почти не спишь, всё читаешь эти старые записки. Иногда мозг начинает видеть связь там, где её нет.
Эйлин резко подняла голову:
– Я не выдумываю!
– Я не говорю, что выдумываешь. – мягко поправила Тесса. – Но, может быть, стоит сначала подумать, кто этот «Король Лир» на самом деле.
Она взяла книгу, полистала, пока не нашла нужную страницу, и улыбнулась уголком губ.
– Вот. Смотри. Это же про него: старый король, который верил лести и ошибся в людях. Потерял власть, семью и рассудок.
Эйлин нахмурилась.
– К чему ты это?
– К тому, – сказала Тесса, откинувшись на спинку стула. – что, возможно, тебе намекают на ошибку восприятия. Что ты слушаешь не тех. Что, может быть, ты ищешь правду не там, где она есть, а там, где тебе удобнее.
Эйлин замерла. Эта мысль была ударом – неприятным, но точным.
– То есть ты думаешь, что это… предупреждение? – спросила она тихо.
– Возможно. Или просто чей-то изысканный способ привлечь твоё внимание. – ответила Тесса, убирая очки обратно на переносицу. – Но, если тебе действительно кажется, что это связано с Крацвегом… спроси у него.
Эйлин медленно опустилась на кровать, всё ещё держа книгу на коленях. Свет от лампы падал на обложку, и позолоченные буквы King Lear блестели, как свежие шрамы.
– У него есть ответы. – прошептала она. – Я чувствую. Только не знаю, какие.
Тесса закрыла тетрадь и посмотрела на подругу поверх очков.
– Тогда спроси. Только будь осторожна. Люди, которые слишком умело молчат, обычно знают слишком многое.
Эйлин вскинула на неё глаза. Эта фраза задела что-то внутри. В ней было слишком много смысла. Больше, чем Тесса, возможно, сама вкладывала.
– Спасибо, Тесса! Ты невероятная! – эмоционально поблагодарила Эйлин. Она сжала пальцы, чувствуя, как в груди нарастает решимость. На этот раз она не станет ждать.
Эйлин уже выскочила за дверь вместе с прихваченной запиской, когда раздался задумчивый голос Тессы:
– Я просто не ищу тайные смыслы… Лучше бы это были любовные записки.
Эйлин выбежала из комнаты почти на автомате – сердце билось быстро, мысли путались, шаги отдавались эхом в старых коридорах. Воздух казался плотным, как перед грозой.
На лестничной площадке она случайно взглянула в окно и застыла. На балконе четвёртого этажа, под серым небом, стоял Альбирео Крацвег. Ветер развевал полу его пальто, а волосы выбивались из-под воротника. Он был неподвижен, но не застывшим. Он словно замер вместе со временем.
Эйлин не раздумывала. Подол юбки задел перила, каблуки звонко отстукивали по ступеням.
На четвёртом этаже балкон был открытым: капли дождя падали с козырька, ветер приносил запах мокрой листвы.
– Осторожнее, тут плитка скользкая. – сказал Крацвег, не оборачиваясь. – Порог высокий, не споткнитесь. И, кажется, Вы не взяли зонт.
– Не взяла. – выдохнула Эйлин, делая шаг ближе. – Вы всё помните, да?
Он усмехнулся, чуть склонив голову.
– Почти всё. Когда-то этот балкон был полу рассыпавшимся, но мы всё равно собирались здесь. – он указал на каменную нишу у стены. – Там раньше стоял ящик с бумагами, кто-то хранил там чай, кто-то – сигареты. Помню, я здесь вспомнил живопись. Компания безумцев, влюблённых в жизнь, как нам тогда казалось.
В голосе его звучала лёгкая ирония, но глаза оставались серьёзными.
Эйлин слушала, чувствуя, как ветер стягивает пальто на плечах. Она открыла рот, чтобы спросить – про Бруно, про Тодда, про то, что случилось тогда, – но Крацвег опередил её.
– Не стоит, Эйлин. Некоторые разговоры лучше не начинать, если не готов услышать ответ.
Он облокотился на перила, и ветер качнул край его пальто. Эйлин почувствовала лёгкое раздражение – почти детское, от того, что его невозможно пробить.
– Хорошо. – сказала она, опуская взгляд. – Тогда я спрошу о другом.
Она достала сложенный листок, немного помятый по краям.
– Это. Вы ведь знаете, кто это мог быть?
Крацвег взял записку, мельком пробежался глазами и… улыбнулся. Искренне, живо, почти весело.
– «Король Лир». – произнёс он, будто пробуя слова на вкус. – Надо же. Эта академия обожает выращивать разных королей. Был уже один – считал себя властителем мыслей. Другой – гением эпохи. Теперь вот, видимо, у нас появился шекспировский монарх.
Он вернул ей бумагу, чуть пожав плечами.
– Впрочем, звучит неплохо. Лир хотя бы умел красиво страдать.
– То есть вы думаете, это просто шутка? – спросила Эйлин.
– Возможно. Или чей-то способ развлечь скучающую публику. – Он посмотрел на неё чуть мягче. – Не принимай всерьёз. Академия любит создавать мифы, а ты слишком умна, чтобы верить каждому.
Ветер усилился, и одна прядь волос Эйлин прилипла к щеке. Крацвег взглядом будто хотел убрать её, но не сделал ни движения.
– Вам… не кажется, что мифы в этой академии живут дольше людей? – тихо спросила она.
Рео коротко усмехнулся.
– Ещё как. Только мифы не стареют.
Он посмотрел в сторону двора – там, внизу, мокрые клёны роняли последние листья.
– Иди, Эйлин. – произнёс он почти шёпотом. – Простудишься.
Она не сразу двинулась. Казалось, если сейчас уйдёт, то утратит момент, который больше не повторится. Но ветер усилился, и слова Крацвега растворились в звуке дождя.
Эйлин тихо кивнула и шагнула к двери. А когда обернулась – он уже снова смотрел вдаль, будто её никогда здесь и не было.
Часть 5.
Ночь стояла тихая, почти прозрачная. За окном мелькал дождь – не настоящий ливень, но мелкая водяная пыль, оседающая на стекле. Академия спала, и лишь редкие шаги дежурного где-то внизу нарушали покой.
Эйлин сидела на кровати, не раздеваясь, при слабом свете настольной лампы. Перед ней лежал «Король Лир» – раскрытая, чуть покосившаяся книга с потрёпанной обложкой и пожелтевшими страницами. Том Шекспира казался тяжелее, чем утром. На корешке проступали следы чужих пальцев, бумага пахла старой бумагой и чернилами – как будто память имела свой собственный запах.
Она листала их медленно, пальцами, привыкшими к аккуратности, будто боялась повредить что-то живое. Чем дальше читала, тем тише становился её внутренний голос. Словно сама трагедия впитывала мысли, превращая их в эхо.
«Лишь та любовь – любовь, которая чуждается расчёта».
Страницы шелестели сами, и глаза выхватывали из текста отдельные строчки, будто сами выбирали, на чём остановиться.
«О мир, о мир превратный! Несчастья так нам ухудшают жизнь, что облегчают смерть».
Она прочла это шёпотом, бросив быстрый взгляд на спящую Тессу. В груди отозвались чувства чем-то тихим, хрупким, почти больным. Сколько раз она видела вокруг улыбки, за которыми скрывается усталость. Преподаватели, студенты, она сама. Все словно ждали не счастья, а передышки.
«Плохие, стало быть, не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, ещё хорош».
И это тоже было правдой. Иногда Эйлин казалось, что и здесь, в академии, всё устроено именно так – никто не стремится быть добрым, лишь не хочет оказаться хуже остальных.
Она продолжала читать – уже не для того, чтобы искать следы «Короля Лира», а потому что чувствовала, будто кто-то через эти слова говорит с ней. Слова стали зеркалами, отражающими её собственную тревогу.
На одной из страниц, там, где Лир теряет рассудок, чернилами было дописано вручную, другим почерком:
«И потерял он всех, включая самого себя.
И да помутнились чертоги сознания его, безграничного и совершенного».
Строки были старые, чуть поблекшие, но аккуратные – ровные, холодные, словно писаны тем, кто привык думать прежде, чем чувствовать. Эйлин невольно провела пальцем по чернилам. Они не размазывались – впитались в бумагу навсегда. Она перевернула страницу и заметила между листов что-то плотное.
Узкий обрывок бумаги – выцветший, с неровным краем, словно вырванный откуда-то. Почерк тот же, что и в анонимных записках. На листке, похожем на страницу из старого дневника, было написано:
«Когда я начал искать следы безумия, думал – найду трагедию.
Но нашёл закономерность.
Они все были умны. Все – гении, чья мысль превышала предел.
И каждый из них однажды переступал черту.
К.К. мог быть тем, кто давал всё. Но забирал он не меньше.
Возможно, слишком много.
Иногда мне кажется, что безумие – это просто форма дара.
Или расплата за него.
К.К. искал не знание – источник.
Его одержимость разожгла в другом то, что нельзя было будить.
Звёзды взрываются, когда их тревожишь слишком долго».
Под текстом было едва заметно выведено одно слово, как подпись или мольба:
«Прости, Оскар».
Она перечитала ещё раз. Потом ещё. Всё сжималось внутри – не от страха, а от чувства, что все её догадки только что сделали шаг дальше, чем ей хотелось.
Звёзды. Альбирео Крацвег. Самая яркая в Лире, двойная звезда. Эйлин подняла глаза на окно. Дождь смыл отражение, и за стеклом виднелось тёмное небо. Где-то там, в глубине, – сияла крошечная точка. Две звезды, вращающиеся друг вокруг друга, но разделённые вечностью.
Эйлин закрыла книгу. Если верить этому дневнику, кто-то уже пытался разгадать Крацвега. Аноним из писем. И ему это не удалось.
– Ты снова читала всю ночь?
– Я… – начала было Эйлин, но Тесса, стоявшая у кровати с выражением безусловной решимости, всплеснула руками и перебила:
– Нет, это не может так продолжаться! – она говорила с таким пылом, будто собиралась спасать подругу от гибели. – Хватит этих книжных кошмаров и таинственных посланий. Ты пойдёшь со мной помогать украшать актовый зал. Отвлечёшься, отдохнешь от своих загадок, придёшь в себя.
Эйлин не нашла, что ответить, и вынужденно согласилась.
К полудню актовый зал гудел от голосов. Воздух был пропитан запахом бумаги, краски и немного – пыли. Сквозь высокие окна лился мягкий свет, золотя подвешенные на нитях гирлянды из засушенных листьев.
Эйлин стояла у лестницы, держа связку тонких лент глубоких осенних оттенков: терракотовых, янтарных, бронзовых. В руках у Тессы был целый ворох разноцветных шаров, и она командовала процессом с воодушевлением, которое напоминало полководческое.
– Те, что потемнее, к сцене, а светлые – ближе к окнам! – раздавала она указания. – Мы же хотим, чтобы зал выглядел как закат, а не как детский праздник.
– Конечно. – кивнула Эйлин, прикрепляя очередную ленту.
Шуршание бумаги, шорох шагов, тихий смех. Всё вокруг было таким привычным, и всё же в глубине сознания у Эйлин оставалось ощущение, будто она только делает вид, что живёт обычной жизнью.
Тесса, увлечённо раскладывая украшения, вдруг повернулась к ней:
– Слушай, а ведь это будет первый осенний праздник, который мы встречаем как организаторы. Странное чувство, да?
Эйлин улыбнулась краешком губ.
– Наверное, да.
Она вспомнила, как в первый год они с Тессой едва знали друг друга. Соседки по комнате, вежливо сдержанные, аккуратно разделившие пространство. Тесса – рассудительная, громкая, общительная, а она – тихая, наблюдательная. Они ладили, но не сближались. И всё же в этом году что-то изменилось.
Теперь Тесса подходила к ней чаще, спрашивала о книгах, о преподавателях, даже предлагала вместе обедать. Эйлин не знала, с чем это связано – то ли с новой волной доверия, то ли с жалостью.
– Знаешь. – сказала Тесса, вешая ленту повыше. – мне кажется, в этом году что-то… изменилось. Атмосфера, люди. Даже воздух другой.
– Густой? Тяжелее дышать? – уточнила Эйлин.
– Ну да. Всё как-то тише. – она усмехнулась. – Может, я просто стала старше.
Эйлин молча кивнула. В её мыслях всплыли страницы книги, ночной свет лампы, и фраза – «О мир, о мир превратный…» Она подняла взгляд на потолок, где гирлянды покачивались от лёгкого сквозняка, и почувствовала – всего лишь на мгновение – будто этот уютный, пёстрый зал живёт отдельно от них, как сердце древнего существа, бьющееся в собственном ритме.
Тесса щёлкнула пальцами у неё перед лицом:
– Эй, ты опять где-то далеко! – укорила она, но мягко, почти с улыбкой. – Не думай сейчас ни о книгах, ни о Кра… – она осеклась. – ни о своих философиях. Мы просто украшаем зал, ладно?
Эйлин тихо рассмеялась.
– Ладно. Просто украшаем зал.
Но, закрепляя последнюю ленту, она поймала себя на мысли, что цвет её – тот же, что у обложки книги, лежащей на столе в их комнате.
После обеда всех студентов собрали в актовом зале. Гирлянды из листьев уже висели, занавеси переливались мягкими оттенками меди и золота, а запах бумаги и свежей краски ещё не успел выветриться.
На сцене стоял профессор Дэйлс – старший куратор, высокий, с серебряными волосами, в безупречно выглаженном костюме. Его голос был ровен, почти певуч, с лёгкой театральностью, свойственной людям, привыкшим к вниманию.
– Итак, дорогие студенты, – начал он. – приближается наш ежегодный праздник осеннего равноденствия. В этом году мы решили немного отойти от традиций и добавить… – он улыбнулся, выдержав паузу. – элемент тайны.
В зале зашептались.
– После основного концерта и выставки декоративных работ мы приглашаем всех желающих на вечерний маскарадный бал. – голос профессора наполнил зал мягким энтузиазмом. – Никаких обязательств, никакого особого дресс-кода. Просто возможность потанцевать, пообщаться, почувствовать себя персонажами старинной истории.
Он сделал жест рукой, словно подбрасывая мысль в воздух:
– После заката включат музыку в старом бальном салоне, всем желающим раздадут маски. Мы проводим солнце до сумерек – и встретим ночь вместе.
Студенты загудели – кто-то хлопнул в ладоши, кто-то сразу стал шептаться о нарядах.
Эйлин слушала молча. В шуме и лёгком волнении, в этом почти беззаботном настроении было что-то странно притягательное. Маскарад… Место, где все равны, и никто не обязан быть собой.
Она сидела, задумчиво проведя пальцем по узору на краю скамьи.
– Ты пойдёшь? – шепнула Тесса, склоняясь к ней с блестящими глазами.
– Не знаю. – тихо ответила Эйлин. – Возможно. Хочу посмотреть, какие маски выберут люди.
– Ну вот и отлично! – оживилась Тесса. – Пойдём вместе. Ты слишком часто прячешься в библиотеке и закапываешься в книги, пора хотя бы раз выбраться на свет. Обещаю, скучать не дам.
Эйлин улыбнулась – едва, почти неуловимо. Мысль о балах и масках обычно казалась ей пустяковой, но сейчас всё было иначе. Маска могла скрыть не только лицо, но и взгляд. А где-то среди танцующих, в этой смеси света и теней, может оказаться тот, кто писал ей письма.
Она подняла глаза на сцену – профессор как раз завершал речь, а свет из окон мягко ложился на пол, напоминая золото на старом полотне.
Эйлин подумала, что, возможно, этот бал и правда станет чем-то большим, чем просто развлечением. Она тихо сказала, больше себе, чем Тессе:
– Иногда за масками видно больше, чем без них.
Тесса усмехнулась:
– Это ты сейчас цитируешь кого-то или начинаешь философствовать сама?
– Сама. – смутившись, ответила Эйлин и опустила взгляд.
Где-то глубоко внутри она уже знала: пойдёт. Ради возможной разгадки, не может не пойти.
Часть 6.
Утро в академии было непривычно шумным. По коридорам перекатывались голоса – звонкие, оживлённые, словно сами стены вдруг вспомнили юность. Слышался стук каблуков, шелест ткани, приглушённый смех. На подоконниках стояли вазы с ветками клена и пучками сухих злаков – украшения к празднику осеннего равноденствия. Воздух пах свечным воском, бумагой, пылью и чем-то тёплым, почти домашним.
Эйлин шла по длинному коридору, стараясь не задевать суетящихся девушек. Все вокруг говорили о балах, платьях, цветах, масках. Она слушала обрывки фраз – «я возьму белое, кружевное», «он обещал прийти», «а если нас рассекретят?» – и всё это казалось ей чем-то из другого мира.
Маскарад был для всех поводом поиграть в тайну, для Эйлин – возможностью спрятаться по-настоящему. Впрочем, она и без того пряталась – просто в книгах, в мыслях, в тишине.
Зачем людям скрываться под масками, если каждый и так носит их каждый день? – подумала она, проходя мимо старинного зеркала в раме, где мелькнуло собственное отражение: тонкое лицо, чуть бледное, с прозрачными глазами, и пушистые медные волосы, собранные на затылке.
Она уже собиралась уйти в библиотеку, когда дверь в комнату распахнулась с грохотом, и влетела Тесса – вся в пёстрых лентах, с ворохом тканей и коробкой в руках.
– Нашла! – торжественно произнесла она. – Смотри, Эйлин, что мне принесли из театрального кружка!
Эйлин, не успев ничего ответить, оказалась втянута в водоворот кружев, перьев и шёлка. Тесса ловко перебирала маски – одну с позолоченными краями, другую, из чёрного бархата, третью – в форме полумесяца.
– Выбирай! – сказала она, подталкивая подругу к зеркалу. – Без маски я тебя туда не отпущу. И без платья тоже!
Эйлин растерянно провела пальцами по узорам. Слишком яркие, слишком вычурные, слишком заметные. И вдруг внизу коробки заметила нечто иное – простую, почти неброскую маску, тонкую, серебристую, с едва заметными узорами, похожими на ветви и звёзды.
– Вот эта. – сказала она тихо.
Тесса прищурилась.
– Конечно. Только ты могла выбрать самую скромную из всех.
– Но она… правильная.
Она поднесла маску к лицу. Лёгкий холод металлизированной краски коснулся кожи, и на секунду показалось, будто мир застывает.
В отражении в зеркале – не Эйлин. Или не совсем она. Глаза казались чуть темнее, взгляд – собраннее, спокойнее, как у человека, который знает что-то, чего не знают другие.
Маски делают людей смелее. Или просто честнее.
Она опустила руку, сняла маску, но странное ощущение осталось – будто за отражением кто-то всё ещё продолжал на неё смотреть.
Внизу, за окнами, колокольчик звякнул, возвещая полдень. Праздник приближался. И вместе с ним – неясное, тянущее чувство, будто всё вокруг готовится не только к балу, но и к чему-то большему.
Большой зал сиял золотом, будто в нём поселилось само солнце. Высокие окна, задрапированные полупрозрачными шторами, пропускали последние лучи дня, а вдоль стен горели сотни свечей, отражаясь в полированном паркете. Запахи воска, хвойных гирлянд и лёгкого шампанского смешивались в тёплом, густом воздухе. Слышались струнные – плавная, неторопливая мелодия, в которой хотелось остаться навсегда.
Эйлин и Тесса вошли почти одновременно с первыми тактами вальса. Тесса сверкала – не только из-за платья, но и из-за уверенности в каждом движении. Её бежево-золотое, не пышное, но лёгкое платье струилось, словно осенний дождь в золотой час. На лице сверкала маска с мягкими блёстками, обрамлённая кружевом.
Эйлин, напротив, будто растворялась в этом блеске. Её платье было глубокого, тёмно-синего цвета, похожего на вечернее небо перед закатом. На плечах – полупрозрачная шаль, подхваченная серебряной брошью. Маска – серебристая, с тонкими узорами ветвей, в которых угадывались очертания звёзд.
Если Тесса напоминала свет, то Эйлин – тень рядом с ним. Но тень внимательную, наблюдающую, ту, что хранит отражения чужих слов и взглядов.
– Вот и всё. – тихо сказала Тесса, касаясь локтя подруги. – Настоящий праздник. Люди танцуют, флиртуют, делают вид, что счастливы. Прекрасное зрелище, не находишь?
Эйлин чуть улыбнулась.
– Бал – отличный способ узнать, кто кем прикидывается. – заметила Тесса, поправляя маску.
– Гораздо легче узнать того, кто не притворяется вовсе. – ответила Эйлин, следя, как пары кружатся под музыку, как перья, кружева и бархат сливаются в одно движущееся целое.
Зал был похож на живую картину. Тени от свечей скользили по стенам, серебро и золото платьев перемешивались в мягких переливах, маски превращали лица в загадки. Кто-то неловко стоял у колонн, кто-то смеялся слишком громко, кто-то держал бокал шампанского и делал вид, что не ищет взгляда напротив. Из распахнутых окон тянуло прохладой. Ветер играл лентами и кружевом, заставляя пламя свечей дрожать, будто в зале присутствовал кто-то невидимый.
– Как думаешь, – сказала Тесса, склонившись ближе. – сколько человек здесь действительно пришли ради танцев?
– Ни одного. – спокойно ответила Эйлин.
Тесса фыркнула, но улыбнулась.
Музыка плавно сменилась другой – чуть быстрее, звонче. В толпе мелькнули преподаватели, младшие курсы, кто-то из выпускников. Голоса перекликались, смех гремел, как сотни разбросанных монет. Эйлин, стоя в стороне, ощущала всё это как будто через стекло. Красота, блеск, движения – всё было будто не для неё, а кого-то другого. И всё же внутри росло тихое волнение.
Маски делали людей одинаковыми, но в этом было странное очарование. Стирались границы. Мир будто позволял себе быть немного искреннее.
Она подняла глаза, и на миг ей показалось, что на другом конце зала кто-то смотрит прямо на неё. Внимательно и долго. Но стоило моргнуть – взгляд исчез, растворившись в золотом свете.
Праздник, казалось, только начинался. Музыка перешла в стройный, едва уловимый ритм – танец сменился другим, ещё более медленным. Вечер словно стал вздыхать в такт мелодии.
Тесса, сияющая и разговорчивая, уже привлекла внимание какого-то старшекурсника с исторического факультета – высокого, с небрежно завязанным галстуком и лёгкой улыбкой. Она обернулась к Эйлин, слегка подняла брови – мол, не возражаешь? – и, не дожидаясь ответа, позволила увлечь себя в круг.
Эйлин кивнула – автоматически, вежливо – и осталась одна.
Толпа двигалась, шумела, переливалась красками и голосами. Всё это напоминало живое, дышащее существо – огромное, радостное, но чуть безликое. Она стояла у стены, где свет от свечей тускнел, и чувствовала, как прохладная тень скользит по плечам.
Сняв одну перчатку, Эйлин взяла бокал с шампанским, почти не глядя на подавшего, и посмотрела в зал. Пары мелькали, как отражения в кривом зеркале. Маски улыбались, глаза прятались.
Она ловила отдельные слова, обрывки фраз, смех – и всё это сливалось в ровный гул. Один танцор споткнулся, и его партнёрша звонко рассмеялась; кто-то уронил веер; кто-то влюблённо склонился слишком близко.
Всё казалось одинаковым. «Все похожи на призраков чужих жизней. Никто не настоящий». Мысль проскользнула тихо, как дыхание на стекле.
Эйлин сделала глоток, чувствуя пузырьки на языке, и перевела взгляд – случайно – к дальнему краю зала. Там, у колонн, стояли преподаватели. Среди них он.
Альбирео Крацвег был без маски. Его лицо оставалось таким же спокойным и строгим, как всегда, но под мягким светом свечей в нём было что-то неуловимо хрупкое. Русые волосы, чуть тронутые золотом свечей, отливали бронзой. Светло-зелёные глаза, казалось, видели всё – и ничего не видели. Он что-то говорил коллеге, но на миг взгляд его скользнул по залу, и задержался на ней.
Эйлин почувствовала это так отчётливо, будто кто-то дотронулся до плеча. Но Крацвег тут же отвёл глаза. Она не знала, было ли это случайностью. Не знала, что именно так кольнуло её – холод его безмолвия или память о чём-то несказанном.
Музыка стала мягче, свечи дрожали, и зал будто погрузился в зыбкое, золотистое марево. Эйлин стояла, глядя в это колеблющееся пространство, где каждый танец казался повторением другого. Тени скользили по лицам, маски становились то чужими, то родными. Мир вокруг замедлился.
Музыка сменилась – теперь звучала скрипка, плавно, почти задумчиво, и зал будто замер в ожидании чего-то. Эйлин отступила от стены и направилась к длинному столу у колонн, где стояли хрустальные блюда с фруктами и бокалы. Она взяла маленькую грушу, скорее для того, чтобы занять руки, чем от голода.
Но не успела сделать и шага, как почувствовала – кто-то стоит ближе, чем должен был. Он подошел слишком тихо. Нарочно.
– Вы не танцуете. – сказал голос.
Низкий, спокойный, с легкой хрипотцой. Голос, который будто знал её.
Эйлин обернулась. Перед ней стоял мужчина – или юноша, старше её, может, на пару лет. Маска закрывала лицо практически полностью, едва приоткрывая подбородок и губы: глубокий тёмный бархат с серебряными завитками. Из-под неё виднелись чуть взлохмаченные тёмные волосы и слабая улыбка, упрямая и спокойная.
– А Вы следите. – ответила она тихо.
– Я наблюдаю. – сказал он, не отводя взгляда. – Это немного другое.
Она хотела что-то возразить, но он уже протянул руку.
– Позвольте пригласить вас.
Музыка как раз сделала мягкий поворот – и всё вокруг потекло, закружилось в новом движении танца. Эйлин на мгновение заколебалась, но потом всё же вложила пальцы в его ладонь. Движение было плавным, почти гипнотическим.
Они вошли в круг, и кто-то вокруг рассмеялся, кто-то запел, кто-то вскрикнул от восторга, но всё это стало приглушённым. Её ладонь лежала в его руке – сильной, но не властной. Он двигался уверенно, будто вёл не только её, но и пространство вокруг. Маска скользнула под светом свечей, отражая отблеск золота.
– Маски честнее, чем лица. Искреннее, живее. – сказал он вдруг.
– Почему?
– Потому что за ними не видно чувств. Они беспристрастны. Они не предают. И они молчат.
Эйлин чуть сжала пальцы, прищурившись. Фраза про молчание была брошена будто абсолютно случайно, но с тем акцентом, что её намеренность невозможно не заметить.
– Или потому, что за ними легче лгать?
Он усмехнулся.
– А Вы думаете, ложь – это то, что сложно показать лицом?
Она замолчала. Танец продолжался. Их шаги звучали почти синхронно, будто отмеренные заранее. Музыка текла вокруг, то приближаясь, то уходя, и Эйлин чувствовала, как всё внутри напряжено – и вместе с тем странно спокойно.
Чувство внутри кричало о том, что оно знает, кто этот человек. И жгучее желание правды возобладало после слов неизвестного.
– Зачем Вы мне пишете? – спросила она наконец.
Он чуть склонил голову.
– А Вам кто-то пишет?
– Не притворяйтесь.
– Притворяться – это как раз то, что Вы делаете лучше других. – ответил он. Голос оставался ровным, но в нём прозвучала тень насмешки.
Она хотела отстраниться, но он удержал её взглядом.
– Вы ведь знаете, что не всё началось с Вас, Эйлин.
– Что?
– Эта история стара, как звёзды. – его голос стал мягче. – И, если Вы ищете ответы – ищите там, где нет вопросов.
Он сделал плавный поворот, и её юбка задела край его плаща.
Эйлин почувствовала – он хочет сказать что-то ещё, личное, почти опасное. Он склонился ближе, и дыхание коснулось её щеки.
Но музыка внезапно оборвалась.
Он отступил, отпустил её руку. Маска блеснула серебром – и он растворился в толпе.
Эйлин осталась стоять посреди зала. Шум вернулся, словно ничего и не было. Танцы продолжились, кто-то засмеялся, кто-то крикнул – но для неё всё оказалось далеким, будто происходило где-то не здесь.
Она медленно опустила руки, чувствуя, как сердце бьётся слишком быстро. Там, где только что был он, – пустота. Лишь запах вина и дыма от свечей.
Она не знала, кто он.
Но была уверена – это был он. Л. Король Лир.
Часть 7.
Бал завершался медленно, как гаснет свеча – не сразу, а постепенно, оставляя после себя мягкое дыхание тепла и пепла. Музыка стихала, струны затихали одна за другой. Люди, сняв маски, улыбались уже настоящими лицами, хотя некоторые – всё равно чужими.
Тесса смеялась где-то у колонны, с кем-то оживлённо разговаривая, а потом, заметив Эйлин, замахала рукой:
– Эй! Пойдём, уже поздно!
Эйлин подняла взгляд. Мир казался чуть смазанным – огни, золотые ленты, зеркала. Всё кружилось не вокруг музыки, а вокруг её мыслей. Она оглянулась – там, где недавно стоял Л., никого не было. Ни намёка, ни тени. Только пустота, в которой всё ещё будто звенел его голос.
Они с Тессой вышли из зала одни из последних. Туфли тихо цокали по плитке в коридорах, где гасли последние лампы. Воздух пах свечным воском, холодным вином и чуть – пеплом, словно сам праздник сгорал, уходя в память.
– Он пригласил меня на выходных на ужин в ресторан, представляешь? – весело рассказывала Тесса, пока они поднимались по лестнице. – И знаешь, историки не такой уж надменные, как кажется. У него просто глаза слишком серьёзные.
Эйлин слушала, но словно издалека. Каждое слово доносилось будто сквозь вату. Она шла, прижимая к груди маску – холодную, с серебристыми узорами, похожими на ветви, сплетённые в сеть.
В комнате было темно. Тесса зажгла лампу, поставила её у зеркала и продолжила болтать, переодеваясь в ночную рубашку.
– У тебя такой вид, будто ты встретила призрака. – усмехнулась она. – Или влюбилась.
– Ни то, ни другое. – тихо ответила Эйлин.
Она расстегнула застёжку на платье, аккуратно сложила его, потом машинально открыла старую шкатулку из-под драгоценностей, стоявшую у кровати. Там обычно лежали серьги и перчатки.
Но сейчас – нет. На самом дне лежал, сложенный, листок бумаги. Бумага гладкая, плотная, будто новая.
Эйлин затаила дыхание и развернула её. На белом фоне выделялась короткая надпись, ровная, уверенная, узнаваемая:
Спасибо за вечер. За то, что вы умеете слушать тишину между словами.
– Л.
Чернила не размазались, не впитались, будто письмо только что появилось. Эйлин провела пальцем по строкам, но бумага была сухой и чистой.
