Древняя Русь. От скифов до Ярослава Мудрого
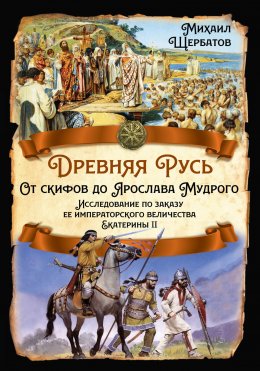
© ООО «Издательство Родина», 2025
Вступление
Всемилостивейшая государыня!
История разума человеческого нас уверяет, что везде науки последовали успехам благополучия и силе государства. Когда греческое оружие устрашало сильнейшую тогда монархию в мире, у них были славные вожди: Милькиады, Фемистоклы, Аристиды, Кононы и Алкивиады, в то же время у них процветали Анаксимандры, Анаксагоры, Архипы, Сократы и Платоны. И Август, Вселенную покорив, ворота Янусовы затворил, когда под благополучной его державою гордые римляне свою вольность забывали; тогда Тит Ливий, Фукидид, Вергилий и Гораций славу его умножали.
Мы ныне зрим в России, что когда победоносное оружие Вашего Императорского Величества Азию и Африку устрашают; когда слава с трудом успевает повествовать многочисленные Ваши победы; когда уже многие века утесняемые народы от руки Вашей счастья своего и свободы ожидают; когда Вашим Величеством собранные верные подданные для устроения своего благополучия, научаемые мудрыми данными от Вас наставлениями и искренним усердием направляемы, прилежно рассматривают взаимные права и должности каждого, изыскивают преступления и пороки в дальних убежищах их, чтобы оные скорыми наказаниями истребить и ободрением добродетели навсегда водвориться между ними.
Тогда же по повелению и под покровительством Вашим мудрые мужи протекают великое пространство Вашей империи: одни примечают движение и соединение небесных тел, дабы через то новый свет на чудное устроение Вселенной пролить; другие изыскивают, что природа в разных странах производит и незнаемую поныне в Российской империи естественную историю изучают; в то же время художники упражняются оживлять мрамор и металл, или краской и кистью прекрасной натуре подражая, в стране нашей Апеллев и Ксиозисов предвещают, и уже опытами своими доказывают, что если Россия сравнялась с Римом славою своих военных дел, то вскоре в науках и художествах самой Греции не уступит.
Между столь славных упражнений Ваше Императорское Величество не менее желает распространить и одну из знатнейших частей познаний человеческих, то есть историю, а наипаче в странах, поверженных под скипетр Ваш; не презрили воззрить на мое трудолюбие и паче на известную Вашему Величеству любовь мою к отечеству, соблаговолили мне повелеть сообщить собрание древних списков, обретающихся в государственных книгохранительницах и архивах, из коих по большей части сочиняя сей труд, дерзаю ко стопам Вашего Императорского Величества предложить.
Счастливым бы почитал себя, если бы знания мои и выражения о самых значительных деяниях, повествуемых в сем труде, могли бы удостоиться одобрения, которое я от Вашего Императорского Величества имел. Но недостаток сей да наградится искренним усердием, с которым есть и всегда пребуду.
Вашего Императорского Величества всенижайший раб князь Михайло Щербатов.
Предисловие
Все народы мира лишь начали иметь некое просвещение, и в том первое их попечение состояло, чтобы случившиеся у них деяния потомству прелагать. Разными способами таковое свое намерение разные народы исполнили: одни в память примечательных событий поставляли столпы, воздвигали жертвенники, устанавливали праздники и строили города, чему изустное преложение истолкователем было; другие же известные дела к законным песням приобщали, через сочиненные песни память своих героев и знатных дел сохраняли. Первое обретаем в иудейской истории, а второе в галлических обычаях.
Поскольку такие способы для сохранения памяти недостаточны были, старались найти другой удобнейший для сего. Вскоре полезнейшее изобретение для распространения разума человеческого, способ свои мысли начертывать и невещественное вещественным творить – изобретение письменности новый и достаточный способ к сохранению вещей подало.
Тогда многие начали случившееся во время их дела описывать и древнейшие предания прелагать, но как изобретению сего полезнейшего способа суеверие и самовластие предшествовали, то многие прежде сего живущие герои уже почесть божественную прияли. Так что оставалось только дела их увеличить и скрытой темнотою времен им знатный или божественный род дать, отчего и родились все дети богов. Лесть к владычествующим над народами не устыдилась самим живущим в немощи человеческого естества приписать божественное начало; сами же подобное видя, что от того преумножается к ним почтение народа и пуще утверждается их власть, таковые приписания охотно приняли. Также были темные начала мировой истории, и надлежало протечь многим векам, прежде чем природа произвела довольно просвещенных людей, чтобы достойное повествование потомству оставить. И действительно, много уже веков протекло, много знатных дел в Греции было, прежде чем Геродот писать начал.
Такие предположения можно сделать об истории каждого народа; и российская история из сего правила не вышла бы, если бы древние ее преложения у нас были сохранены, ибо несомненно, что скифы и славены, первые обладатели России, если не письменами, которых не имели, но песнями, изустными преложениями и другими подобными способами память знатных дел сохраняли как в знак преложения к прежним своим благодетелям, так и для побуждения к добродетели народа, из чего оставшееся весьма малое повествование о Волхве, князе Новогородском, нам истину сию доказует.
Если же и обретаем многие другие свидетельства, то более в чужестранных, а не в российских писателях. Задаемся вопросом, отчего же в российских летописцах басен не находится, какие могли бы многие древности объяснить? Это произошло от того, что Россия, не как другие страны, которые постепенно из грубейшего невежества выходили, но сделав один шаг из самой грубости, какую кочевой народ мог иметь к великому просвещению. (Хотя в России и прежде крещения были града, но оные были только пристанищами, а в прочем народе, особенно во знати, упражняясь в войне и набегах, по большей части в полях, переходя с места на место жили. Сие видно по описанию обычая Святослава).
Принявши вдруг христианский закон, с ним приобрел народ смягчение своих суровых нравов и письмена, которых прежде не имел. Писатели, из которых первый у нас был преподобный Нестор, не только не старались сохранить баснословные древние идолопоклоннические преложения, но паче у неутвержденного в христианстве народа старались их совсем из памяти изгнать. Вот причина, почему российская история, хотя поздно, но уже освобожденною от всяких басней начинается.
Но поскольку наше любопытство не может быть в столь узких пределах вмещено, я рассудил за полезное для читателей начать мой труд повествованием о старобытном состоянии обладателей России, когда они еще под именами скифов, сарматов и других под общими именами сих народов известны были. Но поскольку мы в древнейших наших летописцах ничего не находим, касающегося сих древнейших времен, по вышеупомянутым мною причинам, все можем почерпнуть из иностранных писателей, из чего я введение мое и сочинил.
После потщился, сколько силы моей доставало, изыскать о роде и языке первенствующих российских князей, Кие, Щеке, Хориве, и наконец, по причине соседства со Швецией и с Польшей, также по простирающейся власти датской на берега Финляндского залива, я не оставил и того, что мог из историй сих народов почерпнуть.
По сочинении сей истории я не старался имеющиеся промежутки догадками наполнять, и по знаменованию имен изыскивать, какие были языки тех народов, следовательно, и ныне пребывающим нациям начало от какого-либо старобытного народа приписать, зная, какого великого это труда стоит, а все же читателей не может удовлетворить.
По действительно малому оставшемуся нам числу имен, поврежденных временем и неправильным выговором чужестранным, если их написание и походит на какой язык, весьма трудно заключить единоплеменство одного народа с другим. Учтем и то, что древние писатели не только в таких вещах ошибались, но и недостоверно знали имена этих народов, часто одно с другим смешивая, что затруднение приумножает. Как пример можем предложить касающееся нас, что г-н профессор Байер (Сочинение о варягах) повествует, ссылаясь на Духения: «Феофил, император Константинопольский, отправил с оными (с посланными к Людвигу Прусу императору) некоторых, кои сказывались, что они есть народ, руссами называемый, которых государь их каган (именем) к нему для дружелюбия отправил. Каждый может видеть, что имя руссов сим народам не приличествовало, но хазарам или аварам, которых цари каганами назывались. Притом, иногда самих россиян франками или французами называли, и многие другие доказательства того, что я изложил».
От сего произошло и другое замешательство: не различая имена, не различали стран, селений и языков, оттого, думаю, и ошибка произошла у Константина Багрянородного, где он описывал пороги Днепра, что славенский язык столь различен с русским; однако те именования, которые он русскими называет, действительно хазарские, то есть народа, тогда живущего в круге сих порогов, что ко многим несправедливым мнениям о русском языке причину подало.
Мы же можем сказать, что около того времени в России, то есть у россиян, славянский язык был в совершенном употреблении, ибо Константин Багрянородный царствовал в начале 10 века, а уже в половину 11-го обретаем, что книги были писаны русским языком, как сие могу я доказать обретающимся в моей библиотеке Изборником, на котором и время его окончания написано, то есть 6554 году; а как не можно положить, что сей был самый первый, который был писан, то вероятно, что со времени крещения письмена были введены, и все писалось таковым русским языком, который не крещением был введен, но только письмена употребились ко изъяснению произношения преждебывшего уже языка. Следовательно, славянский язык всегда сходен был с русским, и странные именования сих порогов за русские почесть не можно.
Однако я весьма далек от того, чтобы охулять таковые изыскания, которые могут некоторое просвещение во мраке древнейших времен учинить, желаю я, не вступая ни в какие неподлинные системы, разные состояния, в которых было мое отечество, разные его перемены и знатнейшие дела в нем показать. Того ради сократил повествование о приключившемся у старобытных народов, предоставляя тем, кто хочет взять на себя сей труд, свои заключения выводить. Потому приступаю к описанию деяний князей российских со времен пришествия Рюрика, то есть с того времени, когда через преложенные нам летописи преподобного Нестора и других история российская началась.
В продолжение моего труда, я, сколько мог, держался российских летописателей, не оставляя, однако, и чужестранных, которые у меня есть или которых я по знаемым мной языкам мог разуметь.
Сводя воедино повествование о российской истории, в том, что касается внутренних дел России, я отдавал предпочтение российским писателям перед другими, ибо естественно, что оные почти всегда современники ими описанных дел, а не чужестранцы. Предупреждая же критику, на историю мою возлагаемую, в которой я не сомневаюсь, о том, что не учинил изыскания из истории византийской, польской и шведской других писателей, кроме Кромера Длугоша, Белеска, Сакса Грамматика и прочих. Что же касается прочих польских, датских и шведских писателей, из которых я имел случай на одного только Матвея Стридонского ссылаться, имея его перевод, прочие были заменены историями народов, написанных господином Салиньяком, аббатом Дефонтеном, господином Пуфендорфом, Ларошем и Маллетом, которые каждой истории прилежное описание учинили, не преминув и о российских деяниях помянуть, связанных с той нацией.
Но вместе с тем, если и какой недостаток по незнанию моему языков и найдется, я в том заранее признаюсь, однако, думаю, что она будет много полезности иметь, как беспристрастное повествование собранных вкупе наших летописцев, верные же ссылки на других, кто предпримет сей труд, могут послужить ко скорейшему изысканию деяний.
Собственное мое испытание в продолжение сего труда показало мне, сколь затруднительно в российской истории великое число княжений, и сидящих на тех престолах князей, часто едиными именами и отчествами названных, и частные перемены сих князей, так что нередко в немалой трудности находился, кому приписать дела, повествуемые в летописцах.
Таково расположение моего труда и тщание мое, дабы полезным отечеству моему учиниться. Теперь же остается мне нечто упомянуть о российских летописателях, из коих я почти все свое сочинение почерпнул, и сколь великого они вероятия достойны.
Первый наш российский летописатель был преподобный Нестор, живший в половине 11 века, и начавший свою летопись с 862 года, то есть около двух сотен лет, прежде чем он начал писать. Нельзя противоречить мнению исследователей, что преподобный Нестор имел, конечно же, некие списки, с которых написал предшествующую историю. Если же он и имел некое изустное предание, которое могло послужить истории на два предшествующих столетия, то достоверность того подтверждает и упомянутый мной писатель «что прочие славянские народы, поляки, богемцы, венеды и иллириане подобной истории не имеют, которая бы из их летописей, либо древностию, либо обстоятельством и внятным объяснением прошедшего нашей предпочитаема была». «Сам, повествует сей писатель, Стриковский славный польский историк, не нашел лучшего основания кроме нашего Нестора, к сочинению своей «Польской и Российской хроники».
Сверх того приложим, что Нестор и сам не только очевидный свидетель, но и описываемых дел был участник, как произошедших во дни ослепления Василькова (1097 год). После Нестора летопись его продолжал Селивестр, игумен святого Михаила, как сам он о сем в начале летописи своей повествует, потому оная начинается в 1117 году, а Селивестр, бывший на епископстве в Переяславле, скончался в 1123 году, но из сего довольно видно, что он только о бывших приключениях во время оно описывал. Итак, не можем о справедливости повествования его, как очевидного свидетеля, сомневаться.
Кто же последователи сего Селивестра, нам не известно. Однако можем утверждать, что они были современные писатели повествуемым ими дням, даже до Симона, епископа Суздальского, который преставился в 1226 году. В сие же время обретаем мы, что и другие были писатели в разных странах России, каждый из которых старался прилежно описать приключения, между которыми числят и некоего Иоанна священника Новогородского, который старался в своем Летописце дела новгородские более других объяснить, чего ради сей летописец Новгородским и именовал.
Однако нельзя сказать, чтоб только сии писатели российских летописей были, но и прочих можно с писателями назвать, ибо они довольствовались списывать прежде них сочиненные летописи, прибавляя, однако, что до их сведения дошло, и продолжая несколько оные, из коих некоторые и имена свои в летописи поместили, как еще представится случай мне показать.
Мне теперь остается упомянуть и о самих этих списках. Несомненно, что таковые летописи, будучи часто переписываемы, могли вред претерпеть от невежества списателей, и хотя наши летописцы сему повреждению подвергнуты не были, тщание, которое имели в монастырях о верном списывании, могло несколько таких ошибок предупредить, которых менее находится в тех, что писаны уставом, и древность списков, как доказательство того, что сии есть древнейшие списки с подлинника, больше убедительности придает.
Осмелюсь сказать, что верность списков, предлагаемых мною в сем труде, обязана Ее Императорскому Величеству, прославляющей Россию всегдашними своими великими делами, желая обновить память древних деяний, бывших в России и прежних ее государей, коих дела во мраке забвения пребывали, новую жизнь дать; соизволила мне повелеть из собранных книгохранительниц Патриаршей и Типографской, где такие книги обретаются, потребные книги брать.
Еще прежде император Петр Великий имел намерение о напечатании единого временного летописца, чего ради для исправления по разным спискам оного и были многие в Типографскую книгохранительницу в 1703 году собраны, яко сие засвидетельствовано самой надписью на тех летописцах. Таковым еще прежде учиненным собранием и данным мне повелением от Ее Императорского Величества, я воспользовался взятием сих летописцев и приобщив оные к спискам, которые раньше имел, употребил их к сочинению сей истории.
При сем случае не могу удержаться, чтобы должного благодарения не принести господину советнику Миллеру, уже столь знаемому многими его трудами о российской истории, что в успехе сего труда многую от него получил помощь, как через сообщение мне разных списков, так и от его советов. Я должен признаться, что он не только вложил мне охоту к познанию истории отечества моего, но и, увидя мое прилежание, побудил меня к сочинению оной, итак, если история сия будет стоить некоего уважения, то справедливо сию честь с сим ученым мужем разделить.
Приложив таким образом, о тех основаниях, на которых я утверждался, не за бесполезное почитаю помянуть, что елико мне возможно было, я удалялся охулять предшествующих мне российской истории писателей, покойного тайного советника Василия Никитича Татищева и господина Ломоносова. Если же мне и случилось где от их мнений отдалиться, в сем я последовал вольности республики науки, уверяя, однако, что мое почтение к сим мудрым мужьям и их сочинениям не меньше есть.
Глава 1. Славянороссия или Скифия
Во всякой истории, а паче о древних временах, обретаются многие трудности; можно сказать, что российская история столь ими преисполнена, что можно почесть за невозможное дело, или, по крайней мере, за весьма трудное, привести обстоятельные известия о древней истории российской.
Сии трудности происходят от нижеследующих причин: россияне начали знать письмена весьма поздно, то есть в 790 году по Рождеству Христову, или, [как вероятнее всего и есть], позже; нерачение людей тогдашнего времени оставлять известие потомству о достопамятных в их времена случившихся делах; малое число летописцев, да и то не весьма верных; противоречия писателей и лесть оных; суеверие писателей, которые все чудом почитали и чудесами летописи свои наполнили; невежество копировщиков, которые повредили летописи не только в именах собственных, но также в годах и самых делах; недостаток обретающихся в архивах дел, касающихся до древнейших времен, которые от нашествий неприятелей, их атак и поляков, и от часто бывших пожаров, и от времени много претерпели.
Однако я потщусь, сколько мне возможно, обретающиеся в летописцах [которые мог достать] действия и приключения в лучший порядок привести, и с помощью беспристрастной критики лживое с истинным различить, также употребляя свидетельства иностранных писателей в некоторых случаях.
Сия пространная страна имела разные наименования, звалась Скифия, Сарматия, Роксолания, Славянороссия, Россия и, наконец, чужестранными народами звалась Московия.
Что касается до происхождения древних имен, они по большей части весьма неподлинны; однако я предложу такие, которые мне вероятными быть являются. Скифия страна, а народ скифы, как некоторые писатели утверждают, так назывались ради их великого искусства стрелять из лука: ибо сие имя происходит от глагола «сетен» или «шутеен» – «стрелять», в чем, по свидетельству Геродота и многих других, они весьма искусны были. Один писатель сие имя производит от горы Скифы, где, повествует он, они прежде живали; но я не знаю, какую он гору сим названием именованную разумеет, разве горы над Черным морем.
Что же касается до меня, то я за весьма вероятное почитаю, что народ, обитающий в России, именуемый чудь, через повреждение подал причину к повреждению имени скифскому, или сцитскому. Имя народу сарматскому происходит от сочинений слов греческих ради зверства их нравов, но, может быть, они и сами потом его приняли ради показания страху, который храбростью своею и военным искусством соседям своим приключали. Хотя я не разделил скифов с сарматами, то не потому, что недостаточно извещен, что это весьма разные народы, как я это в географическом описании страны их покажу; но потому, что древние писатели, не зная обстоятельно их землю, часто одних вместо других обоими именованиями именовали.
Хотя по Российскому Синопсису именование России и древнее, чем Рокослания, но я прежде упоминаю его для того, что в древности греческие и римские писатели только оное употребляли: ибо и во времена Митридата, великого Понтийского царя, упоминается о сем народе; именование России уже после Рождества Христова знаемо стало. Сии три имени не до всей сей пространной страны, которую мы ныне Россией называем, касались, но только до разных ее частей; но понеже писатели разные сии народы не различали между собою, то и я их не различал, дабы в чтении тех писателей разуметь, что сии имена всей России дарованы.
Равным же образом весьма не подлинно знают о происхождении имени России; иные его производят от соединения имен россы и аланы, народов, населявших некогда Россию; другие же от слова «рассеяние», поскольку сия пространная страна была населена после потопа и сначала мало жителей имела.
А некоторые выводят это имя от Росса или Русса, восьмого сына Иафетова, или от народа роос, который вместе с мосхами обретался на перешейке между Черным и Каспийским морями.
Имя же славянороссиян им было дано ради великих их побед и приобретенной славы; однако мне представляется лучшим его произвести от народа слави, который в России поселения учинил и имя свое присоединил ко имени России.
Наконец, имя Московия происходит, как я думаю, не от града Москвы, который, быв четвертой столицею, не мог всей сей великой империи имя свое предложить; но от древних имен Россиян, а именно: мольи, мосхи, месехи, или от Мосоха, их Праотца, или наконец, что и вероятнее есть, по прежнему их имени, когда после расточения языков поселились сперва между морями Каспийским и Черным, то по имени своего отца Мосоха наименовали себя мосхи, и когда оттуда быв выгнаны, переселились в Россию, то прежнее свое имя сохранили, и с которого потом через повреждение учинилось имя Московии.
Прочие же имена России суть: Рутения, и соседние народы еще именовали ее многими другими, как шведы Остергард и Гольмгард, или Гардерих, обозначая восточную землю, богатую землю; Хунигард, земли хунов, или гуннов; Ваннема, земля веннов, или славенов; Улима, земля восточная по-эстонски; и, наконец, Крепень-земля, по-лифляндски земля Крепестоп, единого народа славянского.
Сия пространная страна, знаемая ныне под общим именем России, вмещала в себя нижеследующие страны: Великую и Малую Россию, Польшу, Литву, Курляндию, Лифляндию, Пруссию, часть Венгрии и некоторые другие.
Всякий, кто взглянет на карту, может увидеть, с какими морями сия страна была смежна; я их здесь буду именовать, это море Белое, Палус Меотис, или Азовское, Черное и море Балтийское с заливами Ботническим и Финляндским; реки же: Донец, Днестр, Буг, Обь, Днепр, Волга, Ока, малая и большая Двина, Нева, Висла и многие другие, которые в вышеозначенные моря впадали.
Озера знатнейшие два: Ладога и Онега, о которых, однако, говорят, что не знаемы были древними сарматами, чему я не могу поверить, чтобы, живя в такой близости от этих озер, они не знали их.
Россия, или древняя Скифия и Сарматия, простиралась от границ Молдавии на север к Белому морю, сиречь от 48 градусов до 65 северной широты; вмещала в себя одиннадцать климатов; долгота же ее от города Каменска до Архангельска 1664 версты, а ширина от Вислы до Дона 1352 версты.
По положению вышепредложенных климатов и по известию, какое мы ныне имеем о России и о других странах, вмененных в оную, можно видеть, что сия страна могла разные произращения иметь, и хотя не везде так плодоносна, как в южных ее частях, однако и в северных странах везде нужное для жизни рождала там, где тщание жителей соответствовало доброте земли. Но сомнительно, чтоб древние ее жители весьма к земледелию прилежали, они более вели жизнь пастырскую, довольствуясь всем нужным от своих стад; однако поскольку хладность зимы таковую им жизнь в северных странах иметь не дозволяла, то стали они к земледелию прилежать.
О редкостях природных мне нечего сказать, поскольку я пишу сию книгу для таких людей, которые довольно знают сами состояние их страны; а что касается до редкостей рукотворенных, то оных и искать не можно в такой земле, в которой люди, не имея и утвержденных жилищ, не тщились в зданиях или в других вещах, чтобы достойное примечание делать.
Глава II. Описание скифов и сарматов
Иустин повествует нам о древнем споре, бывшем между египтянами и скифами об их древности. Скифы утверждали, что их земля была прежде населена: ибо если в начале вещей огнь владычествовал во всех частях вселенной, то их страна, яко хладнейшая, долженствовала сперва потухнуть и, следовательно, удобна к населению учиниться; а если вода всю вселенную покрывала, то яко высочайшая страна долженствовала быть прежде осушена.
Но я, не вступая в рассмотрение сих баснословных и неосновательных требований, предложу только то, что священное писание и последующие писатели о сем нам извещают; что скифы и другие народы, под сим именем разумеемые, происходят от Мосоха, шестого сына Иафетова, сие не только засвидетельствовано светскими писателями, но также утверждено и священным писанием: ибо Иезекииль Магога, Росса и Мосоха в пророчествах своих вместе соединяет, да и яко сильные уже народы.
Иосиф Иудей Мосоха праотцом скифов почитает; и так по расточении языков, когда все главные родов пошли населять назначенные божественным провидением им земли, Мосох, оставя налево брата своего Гомера, сам пошел к перешейку между Каспийским и Черным морями, где имени своего и населил народ мосхи и другой росси, и оттуда его потомство из-за размножения, или быв выгнано от других, час от часу более к северу подвигаясь, на Дон, Волгу и Азовское море, даже и во все северные страны, ныне знаемые под именем России, распростерлось.
Ясно есть по свидетельствованию многих писателей (Геродот, Иустин) и по тому, что упоминают о многих их царях, что монаршье правление было у скифов; хотя не подлинно известно, вся ли Скифия под власть единого была подвержена, или каждое племя, или область имели собственное себе правление и особливого государя; и сие утверждено тем, что когда Дарий, царь Персидский, изготовлялся учинить нападение на их страну, тогда царь скифский, чаятельно владетель называемого царского колена, послал послов просить помощи от прочих князей скифских, в чем они ему отказали, так что из всего можно заключишь, что либо власть царская не весьма над прочими коленами распростиралась, либо их правление было, яко швейцарское, когда каждое колено имело свое особливое правление и было яко союзное главному, или царскому, так что во многих случаях могло ему и не повиноваться. Хотя можно мнить, что многие из сих колен и республиканское правление имели, яко то является по Новгороду, когда он призвал к себе Рюрика на царство; хотя не можно подлинно сказать, когда и в которых коленах сие правление началось и было.
Что касается до их государей, над коими коленами они царствовали, то по малому числу наследников, обретающихся в истории, является, что престол был наследствен; однако власть царская так была сокращена, что единый из их царей был казнен своим братом за то, что нарушил законы своей страны и стал вводить обычаи греческие, и занял его место.
Для народа, такого справедливого и бедного, каковы были скифы, конечно, не много законов надлежало для безопасного утверждения собственности имений, и следственно, мы обретаем весьма малое число оных в писателях, коих суть нижеследующая. Всякий, кто тщился переменить обычай своей страны, смертию наказывался, которое наказание и претерпел не только Анахарсис, брат царя Кадвидаса, но также и единый их царь за сие казнен был, как уже о сем выше сказано.
Всякая кража у них строго была запрещена и за величайшее преступление почиталась, и сие было причиною, что их многочисленные стада, не быв подвержены похищению, без стражи паслися. Побежденный на поединке отрублением правой руки наказуем был, также и малейшее учиненное кому озлобление законы их без возмездия не оставляли; а за малостию имений их вероятно, что обидевший телесное же наказание претерпевал: и словом сказать, и все их законы клонилися к вложению добродетели и неустрашимой храбрости, что еще более по их нравам и обычаям будет видно.
Все древние писатели, которым случилось говорить о скифах, единогласно похваляют их добродетель и справедливость между прочими, едиными словами об их нравах и обычаях изъясняется. «Они не имеют домов и никакого утвержденного жилища, а только упразднены пасти свои стада. Странствуют по не украшенным земледелием пустыням, и возят с собою жен и детей в колесницах, покрытых кожами, которые их от дождя и снега вместо домов защищают. Правосудие у них наблюдаемо по природной их склонности, а не по строгости законов.
Они не стараются так, как другие смертные, о приобретении злата и серебра, питаются млеком и медом. Употребление шерсти и одежды ими не знаемо, и хотя они беспрестанно подвергнуты жесточайшим стужам, однако не имеют иного одеяния, кроме кожи диких зверей или сшитого платья из кожи мышей».
Сия строгость их нравов тем их правосуднее делает, что они и не знают, что такое пожелать имения другого; и в самом деле, удивительно, что природа одарила скифов тем, что греки и через помощь, даваемую им через столь долгие леты наставлениями их мудрецов и философов, не могли приобрести, и что варварские народы имеют справедливейшие нравы, нежели самая изученная нация в свете.
Можно сказать, что незнание пороков полезнее скифам, нежели знание добродетели других. Посему довольно можно видеть, сколько скифы были добродетельны. Луциан же особливо похваляет их верность в дружбе.
Прочие же их достойнейшие примечания обычаи, которые мы в писателях обретаем, суть: когда они заключали какое обязательство, то, уколов пальцы, нацеживали кровь в сосуд, в которой, обмоча конец шпаги, друг друга отведывали кровь, что у них за твердейшее обязательство почиталось.
Когда кто от чужестранца обижен был и не мог иначе отмщение получить, то, убив быка, зажаривал и изрубал в мелкие куски мясо, сам же садился возле мяса на растянутую бычью кожу, имея руки, яко невольник, завязанные назад, и приходящие, кто хотел ему помогать, каждый, съевши кусок мяса, становился ногой на кожу, обещая, сам ли один с ним пойдет на войну или скольких с собою приведет; через что вскоре собирались великие воинства, тем страшнейшие, что лишь младые войну любящие и храбрые люди оные войска сочиняли.
Для побуждения людей к храбрости во всякий год наместник каждой области должен был делать пир для всех тех, которые умертвили одного или многих неприятелей. В сих пиршествах черепа умерщвленных были вместо чаши, и каждый имел право столько выпить, сколько убил неприятелей; те же, которые никого не убили, не могли быть участниками сих пиров; также и девы, которые никого из неприятелей не умертвили, не могли в супружество вступать.
Когда скифы выступали в поле и пересматривали свои войска, то имели обычай для исчисления воинов повелевать каждому кидать острие стрелы в единый сосуд, из которых, яко повествует Геродот, Аргантес, единый из их царей, сделал великий медный сосуд; однако можно думать, что сей сосуд служил и для собирания сих стрел.
Еще обретаем мы у них достойные примечания обычаи, касающиеся до болезни и погребения их царей, которые суть: когда их царь занеможет, то созывали трех славнейших их пророков и вопрошали: от чего сия болезнь происходит?
Которые обыкновенно сказывали, кто из подданных нарушил учиненную им клятву престолом царским, которая является их торжественнейшей, и тогда призывали обвиняемого человека, которого также вопрошали, и если он запирался, то призывали величайшее число пророков; ежели и те тоже сказывали, тогда немедленно отсекали голову обвиненному, а имение его между трех первых разделяли: но если сии вторые пророки обвиняемого оправдывали, то еще других призывали, и ежели наконец по множеству голосов он невинен находился, тогда, связав руки и ноги трем первым пророкам, клали на колесницу, везомую быками и наполненную хворостом, и ее зажигали, так что и сии лживые пророки вместе с колесницею бывали сожжены, что, с одной стороны, давало великую власть пророкам; а с другой – чинило их быть осторожными, не взяв своей меры, никого не обвинять.
Когда же их царь умирал, они, намастив его тело, возили по всем областям, которые должны были в обряде погребательном подражать царским скифам так: выбрить себе голову, отрезать часть уха, поранить себя на лбу, на носу и на руке и пронзить стрелою левую ладонь; и в таком состоянии быть при теле царском до ближней области.
Сие исполнялось даже, как оно бывало привезено в область Гарриенов, отдаленнейшую ото всех, лежащую тут, где Днепр зачинает глубок становиться. В сей области его погребали таким образом: вырыв во все стороны четвероугольную великую яму, поставляли одр с телом, окруженный копьями, закладывали его дровами и сверху поставляли балдахин, потом в пустые места клали одну из его наложниц, повара, комнатного слугу, чашничего, гонца, несколько задавленных лошадей и все нужные приборы, между которыми обреталось несколько чаш златых; и на всю сию великую кучу земли насыпали.
По прошествии же года избирали пятьдесят юношей между служащих в дому царском, которые долженствовали быть все скифы, ибо монарх сей страны мог всех, кого хотел, брать к себе в услужение и никогда невольников при себе не имел. Сих пятьдесят юношей задавливали с таким же числом лошадей, выпотроша их, набивали тела соломою и, посадя на сих лошадей, становили на нарочно сделанные доски, в пристойном расстоянии одного от другого, вокруг могилы, привязывая узду каждой лошади к нарочно вкопанному для сего столбу.
Что касается до их веры, то не только по греческим писателям, но и по нашим летописцам подлинно известно, что они до времени Владимирова были идолопоклонцы. Кумиры же, которым они поклонялись, были следующие: Юпитер, которого они называли Полеус, чаятельно единый с Перуном, также бог грома, молнии и дождевых облаков, которому поклонялись на высоком пригорке над Буричевым потоком. Болван его был сделан из дерева, имея голову серебряную, уши золотые, а ноги железные, держал камень, наподобие пылающего Перуна, и был многими драгоценными камнями украшен. Перед сим идолом горел неугасимый огонь, и если который жрец допускал сему огню угаснуть, того, яко законопреступника, смертью казнили.
Жена его греческая Юнона, которую называли Алга, или земля. Веста, называемая ими Табити, которую они вместе с Юпитером основательницей их нации почитали; также они поклонялись Аполлону, Венере Небесной и Нептуну, которых называли Остозирус, Артимпза и Фамисадес: но почтеннейшим из всех богов был у них Марс, бог войны, поскольку в честь лишь одного него ставили большее число кумиров и строили алтари. И хотя Геродот и упоминает об их храмах, но поскольку сей писатель только понаслышке знал об их вере, то весьма может статься, что он за храмы почел посвященные сему кумиру прекрасные рощи и старые дубья, которые они кровью поливали и столь великое почтение к ним имели, что яко безбожника и достойного злейшей смерти почитали того, кто хоть малый сучок отламливал.
Сверх же сего мы обретаем, что они поклонялись воздуху их страны и мечу яко главностям жизни и смерти. Но по многим векам после, то есть в царствование великого князя Владимира, является, что они число идолов своих приумножили; ибо окромя вышеупомянутого нами Юпитера, или Перуна, мы обретаем Велеса, бога скота, Подпиза, или Похниета, или Вихра, бога воздуха, чаятельно того же, о котором Луциан упоминает. Лада, богиня веселия, ей жертвовали, когда готовились к браку. Купала, бог плодов земных, которому и жертвы в начале жатвы приносили; также поклонялись источникам и озерам и в честь их сами кидалися в воду или топили в них людей, почитая, что сие приумножит плодоносие земли. Коляда, которому праздновали праздник 24 числа декабря месяца, и многие другие. Ибо, окромя сих, упоминается об идолах Усляде, Корше, Дашубе, Страбе, Симаргле и Макоше, которым, вероятно, всем разные свойства и силы приписывали.
По учиненному исчислению в нашем Синопсисе многих оставшихся доныне суеверий от древнего идолопоклонения, каково пение ладо, ладо, что иногда творилось в честь богини Лады; скакание вокруг огня, и увенчание себя венцами, творимое иногда в честь Купалы; игрища, и надевание рож о святках, подражание тому, что иногда чинилось в празднество Коляды, представляется, что в честь сих идолов бывали и игры, но за незнанием тех обрядов описать их не можем.
Касаемо их веры, еще мы обретаем, что в каждой области они должны были иметь один жертвенник в честь бога войны, что делался из мелких веток, связанных пучками, долготою и широтою по три поприща, но не высокие; три стороны были ведены стеною, а четвертая делалась скатом, дабы возможно было на нее взойти. На сем алтаре постановлялся старый меч, чаятельно как знак бога войны, под которым видом, может быть, они ему и поклонялись, и на каждый год приносили по сто пятьдесят связок хвороста для починки сего алтаря вместо сгнивших во время зимы.
