Чёрная топь
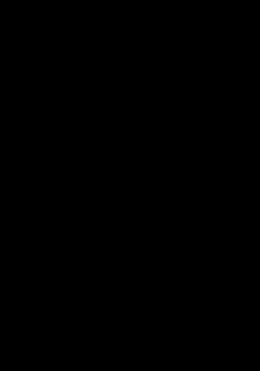
Глава 1
Рассвет не приходил, а сочился сквозь единственную щель в заколоченном окне – мутный, серый, как вода в канаве. Первым делом, раньше мысли, раньше света, пришла боль. Она сидела в его левой лодыжке ржавым гвоздём, который провернулся с первым же движением. Сегодня она грызла особенно зло, острыми зубьями впиваясь в раздробленную десять лет назад кость. Холод отсыревшей соломы пробирался до самого нутра, и боль от этого делалась липкой, тягучей.
Ратибор застонал, но звук утонул в вони. Хибара пахла его жизнью: кислой брагой, немытым телом, гнилой соломой и чем-то совсем мертвенным из угла, где стояло ведро. Он перевернулся на другой бок, и мир качнулся, заскрипел. Голова раскалывалась от похмелья, тупая, тяжёлая боль стучала в висках, словно дятел-гробовик. Он замер, прислушиваясь. И ощутил. Не звук, а призрачную тяжесть в раздробленной кости, будто молот всё ещё лежал на ней, вдавливая в сустав.
Снова она. Сука. Не отпускает. Холод… до кости. Мысли были короткими, колючими, как занозы. Он не думал о мире, о князе, о богах. Весь его мир сузился до этой избы, до этой боли. И тело требовало лекарства.
Он сел, свесив ноги с лежанки. Стены хибары качнулись, как борта лодки в шторм. Ратибор вцепился пальцами в край лежанки, уставившись в одну точку на полу, пока пол не перестал уходить из-под ног. Когда муть в глазах осела, он увидел своё жилище. На лавке – покрытая серой плесенью корка хлеба. В котелке остыла похлёбка, подёрнутая плёнкой жира. Он проигнорировал и то, и другое. Его взгляд, мутный и тяжёлый, искал только одно. Жбан в углу.
Он потянулся к нему. Рука дрожала мелкой, постыдной дрожью. Пальцы сомкнулись на грубой, холодной глине. Он поднёс жбан к губам. Глоток обжёг горло, мутная вонь ударила в нос. Это было и лекарство, и яд. Он не пил. Он глушил боль, глушил мысли, глушил тот самый хруст, что звучал в его голове. Нутро пронзил холод. Дурнота схлынула, принося короткое, обманчивое оцепенение. Он пил долго, жадно, давясь, пока дрожь в руках не унялась.
Так. Лучше. Ненадолго. Он отставил жбан. В голове прояснилось ровно настолько, чтобы родилось презрение к себе. Беспомощный, жалкий. На полке у стены, среди всякого хлама, лежал старый отцовский нож. Рукоять, обмотанная грязной тряпкой, казалась укором. Он собирался починить её вчера. Найти кусок кожи, выварить, обтянуть как следует. Но потом принёс брагу. И всё. Как всегда.
Даже это не можешь. Мысль была спокойной, мёртвой. Он уже давно перестал злиться на себя. Осталась только усталость. Он смотрел на нож, и в памяти всплыло другое. Не отец. А руки Мироша, его побратима, ловко чинящие сбрую перед тем самым боем. Мирош всегда мог починить что угодно. А он, Ратибор, мог только ломать. Людей. Судьбы. Себя. Он отвёл взгляд.
Стук копыт. Ратибор замер, превратившись в слух. Не ленивый цокот крестьянской клячи, тащившей воз с хворостом – ровный, уверенный, неторопливый шаг. Звук сытой, ухоженной строевой лошади. Звук подкованных копыт по утоптанной, грязной земле. Звук порядка. Звук власти. Всего, что он ненавидел каждой своей сломанной костью.
Бой? Защита? Мысли не было. Тело ответило прежде мысли. Недрогнувшая рука потянулась к стене, где в полумраке чернел силуэт боевого топора. Пальцы легли на знакомое, отполированное потом и кровью древко. Ощущение было таким же привычным, как дыхание. Холодное, твёрдое, настоящее. Единственное, что в его мире ещё имело смысл. Внутри ничего не шевельнулось – ни страха, ни ярости. Только глухое, тяжёлое раздражение, как от камня в сапоге. Кто-то пришёл испачкать его болото. Кто-то пришёл нарушить его медленное, тихое гниение.
Княжьи. Сука. Чего им надо в этой дыре?
Он медленно поднялся. Тяжёлое навершие топора давило в ладонь, древко норовило выскользнуть – оружие не желало служить костылём, но другой опоры у него не было. Каждый дюйм движения отзывался болью в ноге, но сейчас он её почти не замечал. Старый волк внутри, тот, которого он годами топил в браге, приоткрыл один глаз.
Дверь он не открыл – ударил плечом рядом с косяком. Прогнившее дерево засова хрустнуло, и дверь со скрипом подалась внутрь. Свет ударил по глазам, заставив сощуриться. На пороге стояли двое. «Молнии». Личная гвардия нового князя. Их вычищенные, воронёные доспехи, кованые по новому, чужому образцу, без единой вмятины и спокойные, сытые лица были как пощёчина всей его убогой жизни. Они не входили, брезгливо замерли на пороге, словно боялись запачкать сапоги о его нищету. Воздух вокруг них пах иначе – кожей, оружейным маслом и морозом.
У старшего губы были – тонкая бледная щель, а шрам над бровью дёргался при каждом слове. Его взгляд был тяжёлым и деловитым – так плотник осматривает гнилое бревно, решая, куда вогнать топор. Он не повышал голоса.
– Ратибор Микулич. – Голос, как лязг засова. – Князь Светозар желает тебя видеть.
Ратибор молчал, глядя сквозь них. Всё его существо кричало одно слово. Нет.
– Я своё отслужил, – хрипло выдавил он. Голос от долгого молчания и браги был похож на скрип несмазанной телеги.
– Князь так не считает. – Второй, молодой парень с пустыми глазами, стоял чуть позади, положив руку на рукоять меча. Не угроза. Привычка.
Ратибор сильнее сжал древко топора.
– Мне насрать, что он считает. Пошёл нахер. И князя своего забери.
Он вложил в эти слова всё своё презрение, всю свою усталость. Он хотел, чтобы они ушли. Чтобы оставили его в покое, дали ему догнить в тишине. Он видел, как дёрнулся желвак на щеке старшего. Рука его на мгновение сжалась на рукояти меча. Но он сдержался, криво усмехнулся.
Дружинник не стал спорить. Угрожать тоже. Он просто шагнул в сторону, открывая вид на дорогу. И произнёс слова, что вложил ему в пасть Светозар, этот молодой волчонок. Слова, которые были точнее любого меча.
– Князь печётся о сиротах павших воинов. Семья Мироша, говорят, в Городище живёт. Новый сборщик податей приехал… злой, говорят. Князь велел передать, что беспокоится.
Это не был удар. Это было лезвие, которое медленно, почти нежно, вошло ему под рёбра и провернулось.
Мирош. Имя ударило сильнее любого молота, пробив толстую корку очерствения, прошив насквозь годы пьяного забытья. Вдова Мироша. Его дети, которых Ратибор видел лишь раз, на похоронах. Мальчик с такими же светлыми, упрямыми волосами. Девочка, державшаяся за материн подол. Он подвёл их отца. Он привёл его на смерть своей гордыней, своим азартом. И теперь его снова звали платить по тому же долгу.
Внутри что-то оборвалось. Он сглотнул, но в горле стало только суше. Он смотрел на дружинника, на его спокойное лицо, и единственным желанием было размозжить этот сытый череп о дверной косяк. Он убийца. Он калека. Он пьянь. Но он дал клятву Мирошу у погребального костра. Клятву, которую похоронил на дне жбана с брагой. И вот теперь мертвец протянул костлявую руку из могилы и схватил его за горло.
Они знают. Блядь, они всё знают. Этот щенок всё просчитал. Он смотрел на спокойное лицо дружинника и понимал: выбора нет. Капкан захлопнулся.
Он не сказал ни слова. Просто кивнул. Один короткий, резкий кивок.
Старший дружинник удовлетворённо хмыкнул. Он развернулся и, не глядя на Ратибора, бросил через плечо:
– Собирайся. И возьми топор. Он тебе понадобится.
Они ушли. Их ровный, уверенный шаг удалялся, вбивая гвозди в тишину. Ратибор остался стоять на пороге, один. Он опустил голову и посмотрел на свои руки, сжимавшие древко топора. Грязные, с обломанными ногтями, покрытые старыми шрамами.
Руки мясника.
Путь до городища стал пыткой. Каждый шаг отдавался в ноге острой, стреляющей болью. Ратибор хромал, тяжело опираясь на топор. Грязь чавкала под единственным целым сапогом, нога в обмотке из тряпья давно промокла и замёрзла. Люди на улице шарахались от него. Не из страха, как раньше, когда он был княжьим воеводой. Теперь в их взглядах была брезгливость, смешанная с толикой злорадства. Он был не героем, не чудовищем. Он был живым укором, ходячим напоминанием о проигранной битве и десятках погибших мужиков.
Проходя мимо кузницы, он услышал звон молота о наковальню. Ритмичный, сильный. На одно страшное мгновение ему показалось, что это тот самый звук, звук удара, раздробившего ему кость. Он споткнулся, больная нога подкосилась, и он едва не упал, удержавшись на топоре. Кузнец в дверях посмотрел на него, сплюнул и отвернулся. Ратибор выпрямился, сглотнув. Во рту был привкус ржавчины и желчи. Он ненавидел этот город. Ненавидел этих людей. Но больше всего он ненавидел себя за то, что они были правы.
Его провели не в гридницу, заваленную шкурами и позолотой, как у старого князя. Стражники втолкнули его в оружейную, обставленную по-походному, без единой лишней вещи. Огромное, гулкое помещение с высокими потолками. Здесь пахло иначе, чем в его хибаре. Пахло сталью, оружейным маслом и точильным камнем. Пахло работой. Пахло войной. Вдоль стен стояли стойки с идеально вычищенным оружием – мечами, копьями, секирами. Всё новое, одинаковое, безликое. Оружие не для дружинника, а для войска.
Князь Светозар стоял у длинного стола, заваленного картами, и лично проверял партию новых мечей. Он был одет просто – в кожаные штаны и льняную рубаху без всяких украшений. Молодой, лет двадцати восьми, но взгляд у него был как у старого ростовщика, который видит перед собой не человека, а просроченный долг. Он взял клинок, повертел его, проверяя, как лежит в руке, провёл пальцем по лезвию. Он не любовался оружием. Он принимал товар.
– Оставь нас, – бросил он стражникам, не поворачивая головы. Дверь за спиной Ратибора глухо захлопнулась.
Светозар положил меч и поднял глаза. Его взгляд был таким же острым и холодным, как сталь, которую он держал в руках.
– Я смотрю, мои люди тебя убедили, воевода.
– У вас хорошие псы, княже, – прохрипел Ратибор. – Знают, за какое место кусать.
Светозар криво усмехнулся.
– У хорошего хозяина и псы хорошие. Садись.
Напротив стола стояла простая дубовая скамья. Ратибор проигнорировал предложение. Он не собирался сидеть перед этим щенком.
– Я постою. Так что вам надо? Ещё одна бойня? Или просто старого калеку захотелось на потеху толпе вывести?
– Мне нужна работа, Ратибор. А ты, как я слышал, когда-то умел её делать. – Светозар обошёл стол и остановился напротив. Он был выше Ратибора, но тоньше в кости. В нём не было грубой силы воина, но была другая сила – гибкая, хищная. – Битва у Соснового Брода. Десять лет прошло. Ты потерял там всё. Дружину, ногу, честь. Но до этого ты был лучшим. Княжьим Мясником. Человеком, который решал дела. Грязные дела. Мне нужна та твоя часть. А не пьяница из хибары.
Он знает. Он всё знает. Он копался в моём прошлом, как свинья в грязи. Ратибор почувствовал, как челюсти сжимаются до скрипа. Этот мальчишка потрошил его прошлое, перебирал его жизнь, как кости, выбирая ту, что ему нужна. Это было унизительно.
– Та часть сдохла. У брода. Вместе с остальными.
– Нет, – спокойно возразил Светозар. – Она не сдохла. Она спит. Пьяным сном. Но её можно разбудить. Если найти правильный повод. Например, сирот твоего побратима.
Он говорил об этом так просто, так обыденно, словно обсуждал цену на зерно. Ратибор понял, что перед ним не самодур старой закалки. Перед ним был хищник, для которого люди – лишь орудия в руках.
– Чего ты хочешь? – выдавил Ратибор, понимая, что любой другой ответ бессмысленен.
Светозар улыбнулся. Безрадостно, одними губами. Он вернулся к столу и ткнул пальцем в карту. На ней была грубо начертана местность к югу от городища – леса, предгорья и огромное бурое пятно с пометкой «Чёрные топи».
– Я хочу, чтобы ты принёс мне кое-что. Там, в сердце топей, стоит древний идол. Каменная баба, которой молились ещё до всех богов. Найти и доставить его сюда.
Ратибор посмотрел на карту, потом на князя.
– Зачем тебе старый идол? Решил в веру предков удариться?
– Вера – орудие для управления быдлом, – отрезал Светозар. – А этот идол – нарыв. Очаг Гнили, что отравляет мои земли. Я строю здесь своё княжество, Ратибор. Порядок. А эта дрянь сеет смуту. От испарений с топей крестьяне болеют, скот дохнет, дети рождаются уродами. Это зараза. А ты – мясник. Я посылаю тебя вырезать этот нарыв. Доставь его сюда, и мы сожжём его на главной площади, на глазах у всех. Пусть видят, что мой стальной порядок сильнее древней грязи.
Он говорил убедительно. Просто, жестоко. Эта задача была понятна Ратибору. Вырезать. Уничтожить. Он почти поверил. Но что-то в холодных, расчётливых глазах князя говорило ему, что всё не так просто. Что это лишь наживка. Красивая, кровавая наживка, идеально подходящая для старого мясника. Но выбора у него не было. Он снова был на княжеской службе.
В оружейную ввели её. Старуха выглядела так, будто её только что выкопали из земли. Высохшая, сгорбленная, вся в морщинах, как печёное яблоко. Волосы – спутанная седая пакля. Одета в какие-то тёмные лохмотья, увешанные мешочками, кореньями и почерневшими костяными амулетами. От неё несло дымом, болотом и чем-то сладковато-трупным.
– Вот твой поводырь, – с плохо скрываемым отвращением произнёс Светозар. – Зоряна. Местные зовут её ведьмой. Она знает тропы, которые не нанесены ни на одну карту.
Ратибор молча смотрел на старуху. Он не любил ведунов и всю их братию. Шарлатаны, торгующие страхом и гнилыми травами. Но эта… эта была другой. В её почти чёрных, немигающих глазах не было ни страха, ни заискивания. Только древняя, как мир, усталость.
Зоряна, не обращая внимания на князя, медленно обошла Ратибора по кругу. Она не просто смотрела. Она его… читала. Её взгляд скользнул по его плечам, по руке, лежащей на топоре, и надолго задержался на его искалеченной ноге. Она не смотрела ему в глаза. Она изучала его тело, его шрамы, его слабости, как мясник изучает тушу перед разделкой.
Воздух в комнате не стал холоднее, но Ратибор невольно поёжился. Кожа на затылке натянулась.
– Куда идти, старая? – рыкнул он, чтобы сбить это неприятное ощущение.
Зоряна остановилась прямо перед ним. Она была на голову ниже, но ему пришлось поднять подбородок, чтобы выдержать её взгляд. Теперь она смотрела прямо в него. И ему показалось, что она видит не его лицо, а всё то дерьмо, что скопилось у него на душе.
Она не ответила на вопрос. Вместо этого она чуть наклонила голову, и её взгляд снова впился в его больную ногу. Она не касалась, но Ратибор почувствовал призрачный холод, пробравшийся под тряпичную обмотку до самой кости.
– Десять лет болит, воевода, – прошептала она. Голос её был похож на шелест сухих осенних листьев. – Особенно ноет, когда пахнет горелой сосной. Земля помнит. И кость помнит.
Ратибор отшатнулся, словно его ударили. Горящая сосна. Запах ударил в ноздри так явно, что он пошатнулся, схватившись за край стола. Он впился взглядом в старуху, пытаясь понять, как она это делает. Это было прямое, беззастенчивое вторжение в его память, в самую глубь его муки.
Она увидела его смятение, и в уголках её морщинистых губ промелькнуло что-то похожее на усмешку. Она коснулась пальцами амулета из почерневшего дерева на своей шее.
– Князь думает, что покупает мои ноги, чтобы я показала дорогу, – так же тихо продолжала она, но теперь её слова предназначались только ему. – Но он покупает мои долги. А долги, воевода, придётся возвращать всем нам.
Тяжёлый дубовый засов скрежетнул, отрезая их от мира. Четыре каменные стены, две нары, ни одного окна. Воздух стал плотным, тяжёлым. Дышать стало труднее. Внутри холодной, пустой казармы не было ничего, кроме двух голых нар и каменного пола, покрытого слоем старой соломы. Пахло сыростью, камнем и мышами.
Зоряна, не говоря ни слова, прошла в самый тёмный угол и села там, подобрав под себя ноги. Через мгновение она словно слилась с тенью, стала её частью. Ратибор остался стоять посреди комнаты, опираясь на топор. Тишина давила на уши.
Он уже решил, что их оставят вдвоём, когда дверь снова со скрежетом отворилась. Стражник грубо впихнул внутрь третьего. Тощий, грязный парень лет девятнадцати, с испуганными, бегающими глазами и крысиной мордочкой. Он споткнулся о порог и чуть не упал, чудом удержав равновесие.
– Князь велел отдать вам и этого, – бросил стражник Ратибору, словно швырял мешок с отрубями. – Лют. Старуха в болотах сильна, а до предгорий довести – этот сгодится. Если сдохнет – не велика потеря.
Дверь снова захлопнулась. Засов снова заскрипел.
Парень, Лют, вжался в стену у двери, переводя испуганный взгляд с неподвижной фигуры Ратибора на тёмный угол, где затаилась Зоряна. Он был похож на пойманного зверька, который ищет щель, чтобы сбежать. Не найдя её, он решил заговорить.
– Господин воевода… – начал он, и его голос был тонким, заискивающим. – Меня Лютом кличут. Я… я ведь не со злого умысла сюда угодил. По ошибке всё. Я пригожусь, правда. Я тут все тропки-стежки знаю, все ручейки… Ноги у меня быстрые, ем я мало…
Ратибор медленно повернул голову и посмотрел на него. Один раз. Долго. Не мигая. Взглядом, которым смотрят на клопа, выползшего на середину комнаты. Во взгляде не было ни злости, ни угрозы. Только бесконечное, всепоглощающее презрение. Он не сказал ни слова. Просто отвернулся и тяжело опустился на пол у противоположной стены, спиной к Люту. Закрыл глаза.
Лют замолчал на полуслове. Он медленно сполз по стене на пол, обхватив колени руками. Казарму затопила тишина. Её нарушали только два звука: прерывистое, испуганное дыхание Люта и тихий скрип зубов Ратибора, который даже во сне не мог найти покоя.
Глава 2
Камень дышал стылой сыростью. Она пробралась под тонкое одеяло, заставила застыть кровь в жилах. Ратибор рывком сел, вырываясь из оцепенения. Голова раскололась. Он замер на миг, пережидая приступ дурноты, и лишь потом глаза понемногу привыкли к полумраку поруба, где единственным светлым пятном был серый прямоугольник зарёшеченного окна, медленно ползущий по грязному полу. Воздух пах камнем, застарелой мочой и чем-то ещё – едким привкусом собственного страха на корне языка. Похмелье никуда не делось, лишь затаилось, превратившись из оглушающего молота в тупой гвоздь, вбитый в основание черепа.
Он сел, свесив ноги с грубо сколоченных нар. Левая лодыжка отозвалась тотчас. Не острой вспышкой – тугой, шершавой удавкой, которая с каждым движением затягивалась на суставе. Эта боль была его тенью. Всегда рядом, никогда не предавала.
В углу, сжавшись в комок так, что казался кучей тряпья, дрожал Лют. Даже во сне он выглядел затравленным. У противоположной стены сидела Зоряна. Спина прямая, как палка, подбородок задран. Она не спала. Казалось, она даже не дышала, а превратилась в узел из жил и терпения, натянутый до предела, и лишь пропускала сквозь себя затхлый воздух поруба, будто просеивая его, находя в нём что-то, недоступное остальным.
Трое. Сломленный воин, хитрая ведьма и трус. Княжий отряд. Насмешка. Светозар смеётся. Гляди, народ, вот ваш Мясник! Ползёт в болота со старухой. Унизить. Растоптать остатки того, что когда-то звалось Ратибором-воеводой. И я иду. Потому что Мирошевы дети спят в своих кроватях. Потому что у меня отняли даже право сдохнуть по собственной воле.
Мысли ворочались в голове медленно, как камни на дне реки. Путь в один конец, где наградой за успех будет быстрая смерть от княжьего клинка, а за провал – медленная и мучительная для тех, кто остался в закладе. Он был в ловушке, и стены этой ловушки простирались далеко за пределы городища, до самых Чёрных топей и обратно.
Скрипнул, отходя, тяжёлый засов. Дверь распахнулась, и утренний свет резанул по глазам, заставив Ратибора зажмуриться. На пороге стояли двое из княжьих Псов. Те же лица, пустые и равнодушные, что и вчера. Один из них, не говоря ни слова, шагнул внутрь и ткнул Ратибора древком копья в плечо. Несильно, но унизительно. Как скотину в стойле.
– Подъём, отродье. Князь ждать не любит.
Ратибор заставил себя выпрямиться. Тело подчинилось с тупым скрипом, будто давно не смазанное железо. Каждое движение отдавалось болью в лодыжке. Он ничего не ответил. Слова здесь были бесполезны. Он молча накинул на плечи свой потрёпанный плащ и потрогал рукоять топора на поясе.
Их вывели во двор. Городище пробуждалось. Из кузни доносился стук молота, высекавший снопы искр. Запах дыма, раскалённого железа и – издевательски – свежего хлеба. Женщины с коромыслами шли к колодцу, переговариваясь о чём-то своём. Дружинники, зевая, чистили оружие, смеялись над какой-то грубой шуткой. Жизнь, обычная, грубая, настоящая, текла мимо них, огибая их троих, как река огибает прокажённый остров.
На них смотрели. Взгляды – любопытные, презрительные, жалестливые – липли к коже, как слепни. В их глазах он был никем: хромой калека в обносках, рядом с ним – ведьма, от которой шарахаются даже собаки, и забитый воришка. Отбросы, которых ведут на убой. Его взгляд зацепился за молодого дружинника, почти мальчишку, с горящими от восторга глазами. Тот с гордостью показывал товарищу новый меч, хвастаясь тем, как ладно тот лежит в руке. Внутри у Ратибора что-то дёрнулось и омертвело. Этот мальчишка, полный задора и глупых мечтаний о славе, был им самим. Десятки лет назад. До Соснового Брода. До того, как он узнал, что слава пахнет не хмельной брагой на пиру, а горелой плотью и дерьмом из вспоротых животов.
Горячая желчь подкатила к горлу. Захотелось подойти к мальчишке. Сказать что-то такое, от чего этот щенячий восторг в его глазах сдохнет навсегда. Спасти его, изувечив его душу. Ратибор замер. Взгляд впился в мальчишку, рука сама легла на рукоять топора, пальцы побелели. Он не двигался, но сама его застылость была угрозой.
– А ну шевелись, калека!
Жёсткий тычок древком копья в поясницу заставил его пошатнуться и согнуться. Боль прострелила от лодыжки до самого затылка. Мир на мгновение качнулся. Когда он выпрямился, униженный и бессильный, мальчишка уже смотрел на него с испугом и отвращением. Ратибор отвернулся, сжав челюсти так, что заходили желваки. Один из стражников хмыкнул ему в спину.
У главных ворот их уже ждал Ворон, воевода Светозара. Высокий, худой, с лицом, будто вырезанным из старого дерева. Он стоял, заложив руки за спину, и его спокойствие было страшнее любой угрозы. Рядом с ним на земле лежал тощий мешок. Ворон кивнул страже, и те отошли на несколько шагов, оставив их одних.
– Князь желает вам скорого пути, – голос Ворона был ровен, словно шелест сухих листьев. Он пнул мешок носком сапога. – Здесь припасы.
Ратибор развязал мешок. Внутри были мешок толокна, шмат старого, жёлтого сала и один бурдюк. Он поднял глаза на воеводу.
– На толокне и воде? – в его голосе прорвалось рычание. – Нам идти седмицу, а то и больше.
– Тебе хватит, – ответил Ворон, не меняя тона. – Князю нужно, чтобы ты дошёл. Ему не нужно, чтобы ты вернулся сытым.
– А если мы сдохнем с голоду на полпути? Это тоже в замыслах твоего щенка?
– Ты не сдохнешь, Ратибор. Ты слишком упрям, – Ворон шагнул ближе, понизив голос. – А ведьма найдёт коренья. Вор поймает крысу. Вы справитесь. Князь в это верит.
Он не верит. Он всё умыслил. Умыслил так, чтобы мы были голодными, злыми и слабыми. Чтобы грызлись друг с другом за каждую крошку. Чтобы к топям мы подошли на последнем издыхании, готовые на всё, лишь бы это кончилось. Он не просто дал нам поручение, он подстроил всё так, чтобы мы сами себя уничтожили. Верный расчёт. Никаких свидетелей. Никаких лишних ртов. Только идол в его руках.
– Передай своему князю…
– Я передам ему, что ты принял его щедрость с благодарностью, – оборвал его Ворон. Он сделал ещё полшага вперёд, их лица почти соприкоснулись. Взгляд Ворона был холодным и пустым, как у рыбы. – Князь не любит, когда его орудия ломаются по дороге. Но ещё больше он не любит, когда они не выполняют работу. Помни о детях Мироша. Они хорошо спят в своих кроватках. Пока.
В животе разрасталась ледяная пустота, высасывая остатки ярости. Боль в лодыжке вспыхнула с новой силой, словно тело отзывалось на муку души. Пальцы свело на рукояти топора. Перед глазами на долю секунды возникло лицо Мирошевой дочки, Ульяны. Как она сидела у него на здоровом колене и смеялась, дёргая за бороду. Воспоминание, которое он годами пытался утопить в браге, всплыло и ударило под дых.
– Я понял, – выдавил Ратибор. Голос был чужим, хриплым.
Ворон молча кивнул и отступил. Он сделал знак страже. Скрипнув, начали расходиться тяжёлые створки ворот. За ними лежала грязная, разбитая колеями дорога, упиравшаяся в тёмную, неприветливую стену Дремучего леса.
Тяжёлые створки ворот за их спинами сошлись с глухим стуком, отрезая мир городища.
Они стояли на дороге. Тишина давила на уши. Впервые за эти сутки они были одни. Свободны. Ратибор криво усмехнулся. Свобода.
Прежде чем шагнуть в чащу, он приметил у обочины молодой, прямой ясень, одним метким ударом топора срубил его и быстро обтесал в подобие грубого посоха.
Зоряна, не проронив ни слова, сошла с дороги и, пригнувшись, шагнула в густые заросли по едва заметной звериной тропе. Её молчаливый шаг был понятней любого приказа. Она была проводником. Она вела их в пасть.
Ратибор скрипнул зубами, перекинул мешок через плечо и, тяжело опираясь на свежесрубленный посох, пошёл следом. Лют, всхлипнув, поковылял за ними, боясь отстать даже на шаг. Лес принял их, сомкнувшись за спиной.
Часы слились в один сплошной, серый гул. Тяжёлое дыхание. Хруст веток под чужими сапогами. Карканье. Впереди, не оглядываясь, текла сквозь бурелом ведьма – не человек, а часть этого гнилого леса. За спиной скулил и спотыкался вор. Ратибор ковылял между ними, и ненавидел обоих. Солнечный свет почти не пробивался сквозь густые кроны вековых сосен и елей, и здесь, внизу, царил вечный зелёный сумрак. Воздух был густым, влажным, пах прелой листвой, грибницей и сырой землёй. Каждый шаг превратился в пытку. Корни, похожие на скрюченные пальцы великанов, цеплялись за больную ногу Ратибора. Низкие ветви хлестали по лицу. Чавкающая под сапогами грязь норовила засосать, и каждое усилие, чтобы выдернуть ногу, отзывалось острой болью в лодыжке.
К полудню, когда Ратибор уже почти перестал чувствовать боль, потому что вся нога превратилась в один сплошной, пульсирующий сгусток страдания, Зоряна остановилась у небольшого, заросшего мхом ручья.
– Привал, – бросила она через плечо, и это были первые слова, которые она произнесла с самого утра.
Не успела она договорить, как Лют рухнул на колени у воды.
– Всё… не могу… – заскулил он, жадно зачерпывая воду грязными ладонями. – Мы сдохнем… Точно сдохнем… Голодный, измотанный… За что?!
Он всхлипнул, размазывая грязь по лицу.
Ратибор медленно подошёл к нему. Он навис над воришкой тёмной, злой тенью. Лют вжал голову в плечи, ожидая удара. Но Ратибор не ударил. Он присел на корточки, превозмогая боль, и его голос прозвучал тихо, почти шёпотом, но от этого шёпота у Люта по спине поползли мурашки.
– Заткнись.
Лют икнул.
– Я… я просто…
– Я сказал, заткнись, – повторил Ратибор, глядя вору прямо в глаза. Взгляд у него был тяжёлый, мутный. – Нытьё кличет хищников. И тех, что на четырёх лапах, и тех, что на двух. Будешь шуметь – станешь приманкой. Мёртвые не ноют. Хочешь проверить – продолжай.
Он не грозил. Он лишь сказывал, каков лесной закон. В этом лесу нытьё было роскошью, которую они не могли себе позволить. Лют судорожно сглотнул и замолчал, лишь плечи его мелко подрагивали.
Зоряна вовсе не смотрела в их сторону. Пока они шли, её цепкие пальцы то и дело что-то срывали, подбирали, прятали в многочисленные мешочки на поясе. Сейчас она выложила свои находки на плоский камень: несколько узловатых кореньев, пучок каких-то тёмных листьев и смолистую сосновую щепку, которую она подобрала ещё на опушке. Он тогда ещё поморщился от запаха, напомнившего о чём-то старом и плохом. Её движения были выверенными, скупыми, как у опытного ремесленника. Она не шептала заклинаний и не закатывала глаза. Она работала.
В небольшой низинке, скрытой от посторонних глаз, она развела крохотный костерок. Она не собирала валежник с земли, а отламывала сухие, мёртвые ветки с нижних ярусов елей, те, что укрыты от дождя густой хвоей. Сложив их шалашиком над горстью сухого мха, она высекла искру, и вскоре заплясал почти бездымный огонёк. Достала из своего мешка маленький, закопчённый котелок, набрала воды из ручья и поставила на огонь. Покрошив туда коренья и листья, она принялась помешивать варево тонкой палочкой. Вскоре по воздуху поплыл резкий, горький запах, похожий на смесь полыни, влажной земли и чего-то металлического, как ржавчина.
Ратибор сел, прислонившись спиной к стволу дерева, и вытянул больную ногу. Он стянул сапог. Лодыжка распухла, превратившись в уродливый сизо-багровый шар. Он смотрел на неё отстранённо, будто на чужую. Когда-то эта нога несла его в атаку, а теперь едва могла нести его самого.
Когда отвар закипел, Зоряна сняла котелок с огня. Она зачерпнула дымящуюся, тёмно-бурую жижу старым деревянным черпаком и подошла к Ратибору.
– Твоя нога кричит, воевода, – сказала она. Голос у неё был скрипучий, как несмазанная телега. – Это заставит её замолчать на время.
Она протянула ему черпак.
– Что это? – спросил он, не двигаясь.
– Лекарство. Ржавчине нужна смазка.
– Яд, – сказал Ратибор.
Зоряна усмехнулась одними губами.
– Любое лекарство – яд. Дело лишь в мере. Боль тебя сожрёт раньше, чем мы пройдём половину пути. А ты нужен князю живым. Пока что.
– Мне плевать, что нужно князю.
– Но не плевать, что будет с детьми твоего побратима, – тихо сказала она.
Ратибор замер. Она знала. Эта старая карга знала всё. Она смотрела на него своими выцветшими, бесцветными глазами, и ему казалось, что она видит не его лицо, а все его страхи, всю его боль, всю его гниль. Она предлагала ему не просто лекарство. Она предлагала сделку. Признать её силу. Признать свою слабость. Стать зависимым.
Проклятая ведьма. Она проверяет меня. Хочет посмотреть, насколько я сломлен. Сломлен ли настолько, чтобы хлебать её колдовское варево. Если я соглашусь, она будет держать меня на поводке. Каждый глоток её отравы – это звено в цепи. Нет. Уж лучше пусть нога отвалится. Уж лучше ползти на брюхе. Но я не дам ей эту власть. Я не стану её ручной собакой.
Он смотрел на протянутый черпак, на пар, поднимающийся от горького варева. Потом перевёл взгляд на её лицо. Он заставил её стоять так, с протянутой рукой, несколько долгих, тягучих секунд. В лесной тишине было слышно, как стучит по камням вода в ручье и как испуганно дышит Лют.
Наконец, Ратибор медленно покачал головой.
– Яд от тебя принимать не буду, – сказал он тихо, но так, чтобы слышали все. – Пей сама. Или отдай ему.
Он кивнул в сторону Люта.
– Он всё равно бесполезен.
Зоряна не изменилась в лице. Она так же медленно опустила руку.
– Упрямство – тоже яд, воевода. И он убивает вернее любого другого.
Она развернулась и подошла к Люту.
– Пей, воришка. Тебе силы пригодятся. Хотя бы для того, чтобы не отставать.
Лют испуганно посмотрел на черпак, потом на Ратибора, но жажда и голод пересилили страх. Он схватил черпак обеими руками и жадно, обжигаясь, выпил всё до дна.
Зоряна вернулась к костру. Снова превратилась в камень. Ратибор откинулся на ствол дерева, чувствуя, как злость и боль борются за право сожрать его первым.
Вечерняя сырость пробралась под плащ, заставила кожу покрыться мурашками. Лес перестал притворяться. Тени вытекли из-под корней, сожрали серый сумрак и поползли вверх по стволам. Теперь это был не просто лес. Это была ловушка. Каждый треск сучка звучал как шаг хищника, каждый ухающий крик совы заставлял Люта вздрагивать. Они спускались в глубокий, заросший овраг, дно которого утопало в липкой, вонючей грязи. Боль в ноге Ратибора снова стала невыносимой, каждый шаг вниз отдавался в голове ударом колокола.
И тут он замер.
Он замер так резко, что Лют, идущий за ним, ткнулся ему в спину. Ратибор не обратил на это внимания. Он стоял, прислушиваясь, всем телом подавшись вперёд. Его одурь, его усталость, его боль – всё это слетело с него, как старая шелуха.
– Что там? – голос Люта сорвался на сиплый шёпот.
Ратибор не ответил. Он услышал. Далёкий, едва уловимый, но совершенно чуждый этому лесу звук. Короткий, резкий скрежет металла о камень. Словно кто-то оступился на валуне, чиркнув по нему подкованным сапогом или остриём оружия.
Тело ответило прежде, чем голова успела подумать. Одним резким, отточенным движением он схватил Люта за шиворот и буквально впечатал его лицом в грязь. Одновременно он махнул рукой Зоряне, отдавая короткий, безмолвный приказ – «Лежать!». Мышцы налились жёсткой, забытой силой. Боль в ноге не исчезла – её вытеснило что-то другое, холодное и острое, что заставило мир сузиться до одной точки – угрозы на гребне оврага. Княжий Мясник просыпался.
Зоряна беззвучно опустилась на землю за поваленным, мшистым стволом. Ратибор, волоча ногу, рухнул рядом, прижимая голову Люта к земле, чтобы тот не дёрнулся. Он осторожно выглянул через щель между толстыми, переплетёнными корнями.
На гребне оврага, в сотне шагов от них, на фоне темнеющего неба он увидел их. Пятеро. Дружинники Светозара в кожаных доспехах. Они не крались. Они шли вразвалку, лениво прочёсывая лес. Их небрежность была почти оскорбительной. Они искали беглецов, а не воинов. Искали жертв, а не тех, кто может дать отпор.
До их укрытия донеслись обрывки фраз, приглушённые расстоянием и шелестом листвы.
– …третий день по этому бурелому… чтоб его…
– …Да ладно тебе. Дело непыльное. Ворон сказал – долго не возиться.
– Главное, докажи, что нашёл. С калеки и воришки хватит и… сам знаешь чего. А от ведьмы чтоб и духу не осталось. Спали её к чертям, от греха.
Так вот оно что. Светозар играет в две руки. Отправил нас за идолом, а следом – карателей. Если мы провалимся – сдохнем в топях. Если справимся – нас убьют на обратном пути. Ему не нужны свидетели, которые знают, где искать его новую игрушку. Ему нужен лишь идол и предание о том, как его верный воевода Ратибор геройски погиб, уничтожая источник Гнили. Сукин сын. Просчитал всё до последнего шага.
Он прижался к мокрому дереву, чувствуя, как липкая грязь пропитывает одежду. Он смотрел, как силуэты дружинников скрываются за деревьями. Они прошли мимо. На этот раз.
Ещё несколько долгих минут никто не шевелился. В овраге стояла такая тишина, что было слышно, как отчаянно стучат зубы Люта. Когда Ратибор наконец отпустил его, вор не поднялся. Он лежал в грязи и тихо, беззвучно плакал. Он всё слышал. Он всё понял. Он был между молотом и наковальней. С одной стороны – безжалостные убийцы князя. С другой – хромой калека и ведьма. И когда Лют поднял голову, в его глазах больше не было страха. Только мутная, пустая решимость выжить любой ценой.
Ратибор медленно поднялся. Грязь стекала с его плаща. Он посмотрел в ту сторону, куда ушёл отряд. В его глазах не было ни страха, ни паники. Только холодная, зрячая злость. Он снова был на войне. Он снова был на вражеской земле. И он был зол. По-настояшему зол, впервые за много лет.
Ночью они не разводили огня. Холод пробирал до костей. Они устроились на ночлег под густыми, разлапистыми елями, чьи ветви свисали до самой земли, создавая подобие шалаша. Это не спасало от сырости, но хотя бы скрывало их от посторонних глаз. Лют забился под корень, свернувшись калачиком и не переставая дрожать. Зоряна сидела, прислонившись к стволу, такая же неподвижная и тёмная, как сама ночь.
Ратибор лёг, подложив под голову мешок с припасами. Он положил топор рядом, так, чтобы рукоять была под рукой. Измученное тело требовало отдыха, но разум, взбудораженный дневными событиями, не давал покоя. Он лежал с открытыми глазами, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к каждому шороху. Но в конце концов усталость взяла своё. Он провалился в тяжёлый, беспокойный сон.
И сразу оказался там. У Соснового Брода.
Но ему снилось не само побоище. Ему снилось то, что было после. Он лежал на земле, среди тел своих дружинников. Воздух был густым, сладковатым от запаха крови и терпким от запаха горящей сосновой смолы. Этот запах был повсюду. Он въелся в землю, в одежду, в его собственную плоть.
В тишине он слышал тихий, непрекращающийся стон. Он знал, кому он принадлежит. Олег. Молодой, весёлый парень, которого он сам привёл в дружину. Он попытался поползти к нему, но левая нога не слушалась, волочилась по земле бесполезной колодой. Каждый рывок отдавался мукой. Он дополз. Увидел лицо Олега, бледное в лунном свете, с застывшим в широко открытых глазах немым укором. «Зачем, воевода? Зачем ты нас сюда повёл?» – читалось в этом взгляде. Олег не умер, он просто лежал и смотрел, и стонал. И Ратибор ничего не мог сделать. Ни помочь, ни убить, чтобы прекратить его страдания. Только лежать рядом в своём бессилии и вдыхать этот проклятый запах сосновой смолы.
Он проснулся от собственного сдавленного хрипа.
Резко сел, хватая ртом холодный ночной воздух. Сердце колотилось о рёбра, как пойманная птица. Холодный пот стекал по вискам. Он ошалело озирался, пытаясь стряхнуть с себя липкий сон. Вокруг была ночь, еловые лапы, дрожащий силуэт Люта. Всё на месте.
Но запах…
Запах остался.
Густой, отчётливый, удушающий запах сосновой смолы. Он был здесь, в яви. Ратибор вскочил на здоровую ногу, дико озираясь. Вокруг только ели. Ни одной сосны на сотни шагов. Откуда этот запах?
Его взгляд метнулся к Зоряне.
И застыл.
Она не спала. Она сидела всё в той же позе, в нескольких шагах от него, прислонившись к стволу, и смотрела прямо на него. В её морщинистой, похожей на птичью лапу руке, была та самая сосновая щепка, которую она подобрала днём. Она медленно, почти незаметно, растирала её в пальцах. И с каждым её движением смолистый, призрачный запах из его сна становился сильнее, явственнее.
Она не говорила ни слова. Она не улыбалась и не хмурилась. Она просто смотрела. Так смотрят на вскрытую рану, изучая гниль на самом её дне.
И Ратибор не знал, что было страшнее: мысль о том, что она наслала этот сон, загнав его в самое пекло его памяти, или мысль о том, что она просто знала. Знала, что ему снилось. Знала про Олега, про его вину, про запах смолы.
Рука сама нашла рукоять топора. Пальцы сжались добела. Он стоял посреди ночного леса, и его единственный кошмар, от которого он бежал десять лет, сидел в нескольких шагах от него в образе старой ведьмы и молча смотрел, как он задыхается от собственного прошлого.
Союзник? Враг? Или что-то гораздо хуже?
Глава 3
Они ползли уже несколько часов. Боль в ноге Ратибора перестала жечь, обратилась в неотвязный, тупой гул. Но теперь появилось кое-что похуже. Голод. Хищный, сосущий зверь, который грыз его изнутри, затуманивал мысли. Всё вокруг – деревья, дождь, страх – отступило перед одной-единственной мыслью: еда.
Именно в этот миг он его уловил. Сквозь сырой, землистый дух леса пробился тонкий, почти призрачный дымок. А в нём – невозможный, благостный дух жареного мяса.
Это был не запах. Это был удар плетью, который вырвал всех троих из отупения. Они замерли разом. Лют вскинул голову, его ноздри затрепетали. Зоряна застыла, не поворачивая головы, а словно прислушиваясь всем телом, втягивая носом сырой воздух. Ратибор замер. Показалось. Но нет. Запах становился отчётливее. Кто-то, совсем рядом, развёл огонь.
«Еда», – пронеслось в голове. И сразу за этим: «Огонь. Сухая одежда». А третья мысль, холодная и острая, как лезвие топора: «Люди. А люди в этом лесу – недруги». Но у них была еда, а у них – не было. Этот простой довод перевешивал любую опаску.
Он бросил короткий взгляд на Зоряну. Она смотрела на него, и в её тёмных глазах он прочёл ту же холодную сметку. Она кивнула, едва заметно. Он повернулся к Люту.
– Сиди здесь. Пикнешь – сам придушу, – прошипел он.
Лют испуганно закивал, вжимаясь в ствол дерева.
Ратибор, превозмогая боль, распластался на земле. Ползти было мучительно, но тихо. Он двигался медленно, от дерева к дереву, как раненый зверь. Наконец, дополз до края небольшой поляны и замер за толстым стволом поваленного дуба.
На поляне, у чахлого костерка, сидели трое. Оборванные, тощие, с ввалившимися щеками. На щеках у каждого чернело клеймо – выжженная буква «В». Беглые. На пруте, воткнутом над углями, шкворчал тощий заяц. Рядом валялось их оружие: ржавый меч, нож и суковатая дубина. Они были слабы, измотаны голодом не меньше их самих.
Ратибор медленно отполз назад. В голове остался лишь холодный, звериный рассудок.
«Трое. Слабые. Один меч, остальное – дрянь. Расслабились. Забрать еду – легко. Опасность? Могут пырнуть в свалке. Пустое. Голод жмёт сильнее. Надо брать».
Он вернулся к Зоряне.
– Трое. Беглые. Слабые, – коротко бросил он. – У них заяц.
Она снова кивнула. Её лицо было непроницаемо.
– Лют! – позвал Ратибор шёпотом. – С нами. Треснешь палкой по дереву, когда я… начну. Понял?
Лют посмотрел на него с ужасом, но торопливо закивал.
Они разошлись. Ратибор пополз в обход поляны справа, Зоряна застыла слева, как тень. Лют, не отрывая испуганного взгляда от спин беглых, засеменил в обход, стараясь не шуметь. Ратибор ждал. Он смотрел на троих у костра. Один из них снял зайца с вертела, и по поляне поплыл такой густой, сводящий с ума дух, что Ратибор сглотнул вязкую слюну, а желудок свело голодной судорогой.
И тут с другой стороны поляны раздался сухой, громкий треск. Лют. Беглые вскочили, хватаясь за оружие, и уставились в ту сторону.
Это был тот самый миг.
Ратибор не кричал. Он вывалился из-за деревьев, как волк из чащи. Он не бежал – не мог. Он ринулся на них, отталкиваясь здоровой ногой и волоча левую, сжимая в правой руке топор. Его появление было настолько внезапным и неотвратимым, что беглые на миг замерли.
Первый, что был ближе всех, обернулся и неловко замахнулся ржавым мечом. Ратибор не стал принимать удар. Он рухнул на землю, проскальзывая под лезвием, и снизу, из грязи, со всей силы рубанул обухом топора по колену врага.
Раздался отвратительный, мокрый хруст. Беглый взвыл, высоким, бабьим голосом, и рухнул на землю, хватаясь за вывернутую под нескладным углом ногу. Ратибор, не давая ему опомниться, навалился сверху и молча, почти буднично, опустил острие топора ему в горло. Кровь брызнула на прелые листья. Хрип, бульканье – и всё стихло.
Второй, с ножом, уже бежал на него, но смотрел на своего упавшего товарища. Он поскользнулся на мокрой глине, его ноги разъехались. Ратибор не стал тратить силы, чтобы подняться. Он рванулся вперёд из положения лёжа, ткнулся плечом в колени врага, валя его наземь. Удар, ещё один и ещё один рукоятью топора в висок. Глухие, мокрые звуки. Тело под ним обмякло.
Третий. Самый молодой, лет семнадцати. С тощей шеей и испуганными, как у щенка, глазами. Он уронил дубину и бросился бежать. В его лице Ратибору на миг померещился Олег, тот самый юный дружинник из его кошмара. Ратибор замер. Он медлил всего лишь миг.
И в этот миг Зоряна, всё это время стоявшая в стороне, тихо прошептала одно гортанное, чужое слово. Убегающий парень вдруг дико вскрикнул. Он смотрел не назад, а вперёд, в пустоту между деревьями. Его глаза расширились, рот открылся в беззвучном крике, а лицо вдруг стало чужим, неузнаваемым, как у зверя, увидевшего охотника. Он резко шарахнулся в сторону, споткнулся о корень и рухнул в грязь. Этого было довольно. Опомнившись, Ратибор двумя тяжёлыми, хромыми шагами нагнал его и вогнал топор в основание черепа.
И когда всё стихло, единственным звуком в мире остался монотонный стук капель по листьям и тихое, судорожное всхлипывание Люта.
Бой занял не больше удара сердца. Теперь на поляне царила тишина, нарушаемая лишь шипением заливаемого водой костра. Дождь методично смывал тёмные разводы крови.
Из-за деревьев, шатаясь, вышел Лют. Он смотрел на три неподвижных тела, потом согнулся пополам, и его вывернуло. Изливалась лишь скудная, жёлтая желчь. Этот звук вызвал у Ратибора волну глухого презрения.
Руки его била мелкая дрожь. Чтобы унять её, он опустился на колено и принялся вытирать топор о мох. Движение было бездумным, как у мясника. Он не смотрел на тела. Заставлял себя не смотреть. Но взгляд против воли цеплялся за мёртвого мальчишку. «Ещё один. На мой счёт». Не было ни победы, ни облегчения. Только тупая, свинцовая тяжесть. Это было просто и грязно. Как зарезать свинью ради ужина. Он поднял взгляд на Зоряну.
Она уже была у тел, двигаясь без брезгливости и спешки. Чужие страхи её не занимали. Она уже обыскивала карманы. Находки были скудными: полбуханки чёрствого хлеба, огниво с кремнем и один медный грош. Она без колебаний забрала всё.
Затем подошла к костру. Недожаренный заяц лежал в грязи. Она подняла его, отряхнула, и её лицо не выразило ничего. Достала нож и спокойно разделала тушку на три неравные части. Самый большой кусок протянула Ратибору. Тот, что поменьше – бросила под ноги всё ещё всхлипывающему Люту. Самый маленький оставила себе. Ратибор молча взял свой кусок мяса. Оно было ещё тёплым.
Они ели в гнетущей тишине под скальным навесом. Костёр, разведённый с помощью трофейного огнива, горел тускло. Заячье мясо было жёстким, недожаренным. Чёрствый хлеб царапал нёбо. Но это была еда. Она возвращала телу крупицы силы. Ратибор думал о том, что вкус у этой еды – вкус крови и сломанных костей.
Когда сгустились сумерки, Зоряна поднялась. Она взяла свой котелок и молча вышла из-под навеса. Направилась к неглубокой яме, куда они стащили тела убитых.
Лют, при виде этого, тихо заскулил и отполз в самый тёмный угол. Ратибор остался на месте, наблюдая.
Зоряна опустилась на колени у ямы, что стала им могилой. Она отбросила ветки. Достала нож. Сделала три небольших надреза – по одному на руке каждого мертвеца. Из порезов выступили густые, тёмные капли. Она подставила котелок и сцедила в него по нескольку капель с каждого. Затем зачерпнула горсть земли из-под тел и тоже бросила в котелок. Добавила дождевой воды из своего пузырька.
Вернувшись к огню, она поставила котелок на угли. Жидкость в нём не кипела. Зоряна села, скрестив ноги, и уставилась в тёмную жижу. Её губы зашевелились, она начала что-то тихо шептать.
Ратибор впился в неё взглядом. Он наклонился над котелком, и жар от тёмной воды обдал ему лицо. На поверхности качнулось его отражение, искажённое пузырьками пара. И на мгновение ему показалось, что он видит не себя. Образ дрогнул, и из глубины на него взглянуло что-то иное. Тяжёлые, ржавые цепи, толщиной в руку, обвивали что-то тёмное, резное. Видение было мимолётным, но до ужаса отчётливым. Он моргнул, и всё пропало. Он резко отшатнулся.
Он не выдержал.
– Что ты, сука, творишь? – голос его был хриплым, но твёрдым. – Над мёртвыми глумишься?
Зоряна медленно подняла на него глаза. Шепот прекратился. В свете костра её лицо казалось вырезанным из старого пергамента. Она выглядела бесконечно усталой.
– Глупости, – ответила она ровным, скрипучим голосом. – Я плачу долг.
– Какой ещё долг?
– Лесу, – просто сказала она. – Ты думаешь, он не заметил? Он помнит каждую каплю пролитой здесь крови. Он зол. Пролили кровь, не спросив дозволения.
Она обмакнула палец в котелок. Жидкость вокруг него не зашипела, а будто свернулась, потемнела, втягиваясь в её кожу, как чернила в пергамент. Она даже не поморщилась.
– Чтобы он не вёл нас кругами, нужно дать ему то, чего он хочет. Успокоить его. Кровь за кровь. Жизнь за проход. – Она посмотрела на чистый палец. – Теперь долги уплачены. На время.
Её слова звучали не как заклинание, а как отчёт сборщика податей. В её мире не было чудес, была лишь бесконечная, жестокая сделка. И это понимание пугало Ратибора больше, чем любой враг с мечом в руках.
Спать он не мог. Боль в ноге грызла и не давала покоя. Образы убитых всплывали перед глазами. А ещё – холодное присутствие Зоряны. Он лежал, притворившись спящим, и смотрел на неё. Она не спала. Сидела у догорающего костра и просто смотрела в угли.
Хватит. Он был воеводой. То, что он увидел в котелке, было её ошибкой. Она показала ему то, чего он видеть не должен был.
Он медленно, сдавленно кряхтя, поднялся. Превозмогая боль, подсел к костру напротив неё.
– Хватит загадок, ведьма, – сказал Ратибор. Голос его был тихим, но в нём не было ни страха, ни злости. Только холодная сталь. – Когда ты шептала над кровью… я видел в котелке цепи. Ты ведь не собираешься его уничтожать, верно?
Зоряна не вздрогнула. Она медленно подняла голову. В её глазах не было удивления. Долгая пауза. В тишине было слышно, как трещат угли в костре. Она изучала его, он – её. И в глубине её взгляда, впервые, он уловил нечто похожее на уважение. К его зоркости.
– А ты глазастее, чем кажешься, воевода, – наконец проскрипела она.
– Я спросил, – надавил он, морщась от новой вспышки боли в ноге.
Она снова замолчала, переводя взгляд на угли.
– Ты многое видишь, Ратибор, – заговорила она снова. – Но видишь лишь обрывки.
– Так сложи. Поведай, зачем мы на самом деле тащимся в эту гниль? Про «отраву» можешь не повторять. В сказки не верю.
Она тяжело вздохнула.
– Твой князь лжёт. Идол – не скверна. Он – запор. Древняя темница для древней твари.
Ратибор молчал.
– И что же? Светозар хочет выпустить эту тварь? Зачем?
– Нет, – она покачала головой. – Твой князь умнее, чем ты думаешь. Ему нужна не секира, чтобы рубить, а святыня, чтобы пред ней падать ниц. Люди забудут его сталь. Будут землю целовать, где он ступал. Такая власть крепче всякого железа.
Всё сходилось. Жестокий, простой и до омерзения ясный расчёт. В духе князя.
– А ты? – Ратибор наклонился вперёд, опираясь на руки, чтобы не упасть. – А тебе что с этой затеи? Зачем тебе этот запор? Хочешь получить ключ?
Она снова подняла на него глаза. И на этот раз он увидел в них не силу, а бесконечную, выжженную дотла усталость. И отчаяние.
– Добрый замок лучше не ломать, воевода, – тихо сказала она. – Особенно если не знаешь, кто сидит внутри. А я… я иду забрать то, что у меня украли.
Ратибор откинулся назад. Он не поверил ей. Ни единому слову. Но он понял главное. Она не на стороне Светозара. У неё своя цель. Доверия между ними не возникло.
Он молча кивнул и отполз на своё место. Улёгся на мокрую подстилку, повернувшись к ней спиной. Боль в ноге никуда не делась. Холод пробирал до костей. Но впервые за эти проклятые дни это казалось не самой главной бедой. Главной бедой было понять, как выжить, когда твой единственный попутчик страшен не меньше твоего лютого врага, а правила ведомы лишь ему одному.
Глава 4
Ратибора выдернула из сна не изморось, а боль. Лодыжка дёргалась, пульсировала тугими, горячими толчками, будто в кости застрял и остывал кусок железа. В кишках ворочалась тяжесть от съеденного наспех мяса, но голод уже вернулся, злой и требовательный. Ратибор лежал с закрытыми глазами, пытаясь передышать эту волну. Кожа на лодыжке натянулась до звона, лоснилась от выступившей сукровицы даже в сером предрассветном свете. Он почувствовал, как холодная испарина стекает по затылку, и сжал зубы, пытаясь унять дрожь в руках.
Лагерь утопал в сером предрассветном свете. Кострище – кучка мокрого пепла, прибитая ночной изморосью. Пустые мешки из-под припасов валялись скомканными тряпками. Напротив, на корточках, спиной к скале сидела Зоряна. Её тело было напряжено, она не опиралась на камень, а лишь касалась его лопатками, готовая в любой миг вскочить. Глаза были открыты, но смотрели не на лагерь, а в точку, где предрассветная мгла была гуще всего. Морщинистые пальцы мерно перетирали в пыль какой-то сухой корень. Она была похожа на древнего идола, вырезанного из дерева и времени, непроницаемая, вечная в своём молчании. Она не замечала ни голода, ни холода, или, по крайней мере, не подавала вида. Она была сродни этому лесу, его гнили, его упорству.
В нескольких шагах от неё, сжавшись в комок, сидел Лют. Он обхватил колени руками и мелко дрожал, хотя ветра почти не было. Его взгляд был пуст. После той ночи он почти перестал говорить, превратившись в тень, которая дёргалась от каждого шороха. Он больше не ныл, не жаловался, и это пугало Ратибора куда сильнее. Нытьё было признаком жизни, борьбы. Молчание было знаком того, что внутри что-то окончательно сломалось. Надломленный клинок бесполезен. Хуже – он опасен.
«Каменная баба и сопливый щенок. А я, сука, между ними. Калека», – проскрежетала мысль в голове Ратибора. Силы покидали его с каждым ударом пульса в больной ноге. Ещё день такого сидения, и он не сможет не то что драться – он не сможет встать. Топор покажется неподъёмным куском железа. Бездействие убьёт их вернее любого княжеского дозора.
Он сел, опираясь на локти. Движение отозвалось новой вспышкой боли, от которой перед глазами поплыли тёмные пятна. Стиснув зубы, он дождался, пока мир снова обретёт чёткость.
Нужно было что-то делать. Идти дальше в таком состоянии – самоубийство. Нога не выдержит и полуверсты. Оставаться здесь – медленная смерть от голода. Значит, остаётся только одно. Охота. Здесь, на месте. Шум привлечёт дозорных. Любая вылазка может стать последней. Но если сидеть и ждать, смерть будет не только верной, но и унизительной. А этого он допустить не мог. «Замысел простой, как мычание коровы, – думал он, глядя на свои одеревеневшие пальцы. – Силки. Тихо, без шума. Если повезёт, попадётся какая-нибудь мелочь. Птица, заяц. Хоть что-то, чтобы залить в кишки горячую похлёбку. Чтобы кости перестали ныть. А если не повезёт…» Он не закончил мысль. Если не повезёт, то всё это просто закончится быстрее. Выбор был не между жизнью и смертью, а между быстрой смертью в деле и медленным гниением в этом овраге. И такой конец казался ему почти милостью.
Он с натугой поднялся, опираясь на топорище, как на посох. Каждый вершок движения отдавался в ноге раскалённым железом. Он подошёл к Зоряне. Она подняла на него глаза, и в их глубине не было ни сочувствия, ни удивления. Только ожидание.
– Ты, – хрипло сказал Ратибор, кивнув на её мешочки, – ищи свои поганки. Травы, коренья. Чтоб было чем брюхо набить, если я вернусь с пустыми руками.
Потом он повернулся к Люту. Тот дёрнулся от его взгляда, съёжился, будто от удара. Презрение боролось в Ратиборе с брезгливостью.
– Ты, – он ткнул в сторону вора подбородком, – пойдёшь со мной.
Лют замотал головой так резко, что чуть не свернул шею. Глаза его расширились, он заморгал, как будто пытаясь проснуться.
– Я… я не…
– Я не спрашивал, – отрезал Ратибор. Голос его был тих, но твёрд, как замёрзшая грязь. – Будешь сидеть тихо и делать, что скажу. Будешь шуметь – придушу. Понял?
Он не ждал ответа. Это было не приказание вожака. Просто ошейник на шее бесполезной дворняги. Узда страха – единственный язык, который понимал этот мир. И единственный, на котором Ратибор ещё не разучился говорить.
Они отошли от стоянки на полверсты, вглубь леса, где подлесок становился гуще, а следы звериных троп – отчётливее. Ратибор двигался медленно, волоча больную ногу, каждый шаг – выверенное, мучительное усилие. Топор стал продолжением его руки, третьей точкой опоры. Он не смотрел по сторонам, он вслушивался, внюхивался, читал лес, как грамоту, писанную знаками, понятными лишь зверю да ловчему.
Он выбрал место у поваленного бурей дуба, где узкая тропка вилась между зарослями орешника. Здесь. Он опустился на одно колено, поморщившись от боли, и положил топор на землю. Его руки, хоть и подрагивали от слабости, двигались уверенно и точно. Годы пьянства и отчаяния не смогли стереть из его пальцев старую память ремесла.
Он достал из-за пояса отцовский нож – единственную вещь, связывавшую его с прошлым, которое ещё не было измазано кровью и позором. Лезвие было сточенным, рукоять треснувшей, но сталь оставалась острой. Он срезал несколько гибких веток орешника, очистил их от листьев. Пальцы работали привычно, разум отдыхал. Здесь не было места сомнениям, страхам или воспоминаниям. Было только простое, понятное дело: согнуть ветку, натянуть петлю из узкой полоски кожи, срезанной с голенища сапога, вырезать сторожок. Чистое и простое ремесло смерти.
«Отец всегда говорил: зверя не силой берут, а хитростью», – всплыло в памяти непрошено. Он помнил большие, мозолистые отцовские руки, которые так же легко и уверенно мастерили силки в лесу за их деревней. Тогда это казалось игрой. Воздух пах прелой листвой и грибами, а не страхом. Отец учил его читать следы, понимать ветер, думать, как думает лиса или кабан. Он не учил его убивать людей. Этому Ратибор научился сам, и преуспел куда больше. Он отогнал воспоминание, как назойливую муху. Прошлое было мертвее, чем тот зверь, на которого он ставил ловушку.
Он выкопал неглубокую ямку, установил изогнутую дугой ветку, закрепил петлю. Потом тщательно укрыл всё листьями и мхом. Даже зная, где она, её было почти не видно. Это принесло ему тень довольства, жалкий отголосок той гордости, которую он когда-то испытывал, выстраивая дружину перед боем. Теперь его дружиной были ветки и верёвки.
Выбирая место для второй ловушки, он прислонился к стволу старой сосны, чтобы перевести дух. В ноге будто копошились и жалили сотни ос. Он скользнул взглядом по коре и замер. Старые, почти заплывшие смолой зарубки. А у корней, вросшая в мох, темнела полоска полусгнившей верёвки. Кто-то уже ставил здесь силки. Давно. Он шатнулся в сторону, и носок сапога наткнулся под хвоей на что-то твёрдое. Ратибор отгрёб листья. Из земли торчали два ржавых полукруга с тупыми зубьями – старый волчий капкан. В нос ударил кислый дух ржави. По искалеченной ноге пробежал ледяной укол, эхо того удара молотом десять лет назад. Он невольно перенёс вес на здоровую ногу. Перед глазами на миг встал волк, перегрызающий себе лапу в такой же ловушке, и в его жёлтых глазах – только ненависть.
Он выпрямился, сплюнул. Этот лес был старым охотничьим угодьем. И не только для людей. Он вспомнил тела каторжников, их пустые глаза. Здесь каждый охотился на каждого. И каждый мог стать добычей.
Неподалёку он нашёл место, где вчера вечером, на пределе сил, поставил ещё одну петлю в надежде на утреннюю добычу. Пусто. Силок был сорван, приманка – кусок чёрствого хлеба – исчезла. На влажной земле отпечатались мелкие следы лисы. Тварь оказалась хитрее. Ратибор выругался сквозь зубы. Мир не давал ничего даром.
Лют всё это время стоял поодаль, прижавшись к дереву, как испуганный зверёк. В его глазах Ратибор видел уже не только страх, но и что-то ещё – кривое, удивлённое любопытство. Он впервые видел воеводу не пьяным калекой и не безжалостным убийцей, а мастером, занятым своим делом. От этого молчаливого взгляда в груди у Ратибора поднялась мутная злость. Лучше бы он ныл.
– Хвороста принеси, – рыкнул он, не глядя на вора. – Сухого. И чтоб я тебя видел.
Он сказал это не потому, что ему нужна была помощь. Он просто хотел, чтобы Лют сгинул с глаз, перестал быть молчаливым свидетелем его дела. Чтобы тот занялся хоть чем-то, кроме дрожи.
Когда он заканчивал, из-за деревьев бесшумно вышла Зоряна. Она несла в подоле пучок каких-то бурых кореньев и связку бледных грибов. Она остановилась в нескольких шагах и молча наблюдала за ним. Её взгляд скользнул по его рукам, по натянутой петле, по укрытой ямке. В нём не было ни одобрения, ни осуждения – только холодное внимание ловчего, изучающего чужую западню. Она видела не сломленного человека, а лишь зверя, готовящего свою западню. И в этом молчаливом взгляде было больше признания, чем в любом слове похвалы. Он проигнорировал её, заканчивая дело. Теперь оставалось только ждать.
Вечер опустился на лес быстро, словно кто-то накрыл его мокрой серой тряпкой. Тишина сгустилась, стала почти осязаемой, давящей. Птицы замолчали, и единственным звуком был тихий треск углей в костре, который они разожгли под навесом. Одна из ловушек сработала. В петле бился небольшой рябчик – жалкая добыча, но всё же добыча. Его уже ощипали, и теперь он жарился на вертеле, источая дразнящий запах.
Но Люта не было.
Сначала Ратибор не обращал на это внимания. Прошёл час, потом второй. Солнце коснулось верхушек деревьев, окрасив небо в болезненные, фиолетово-ржавые тона. А вор так и не появился. Ратибор сидел, уставившись в огонь, и убеждал себя, что ему всё равно. «Сбежал, мелкий ублюдок. Скатертью дорога. Меньше ртов, меньше забот. Наверняка прихватил что-нибудь. Хотя что у нас брать? Дырку от бублика». Эта мысль должна была принести облегчение, но вместо него на дне души шевельнулось что-то неприятное, похожее на занозу.
– Он ушёл, – голос Зоряны прозвучал в тишине сухо, как хруст мёртвой ветки. Она не смотрела на него, её взгляд был прикован к обугленным кореньям, которые она ворошила в золе. – Или его унесли.
Ратибор промолчал.
– Теперь он – поводырь для них, – продолжила она тем же ровным, безжалостным тоном. – Поводырь, что приведёт прямо к нам. Он расскажет им всё. Где мы, сколько нас, что ты хром и почти безоружен. Он будет кричать это, лишь бы ему сохранили жизнь.
Её слова были как капли яда, падающие на открытую рану. Ратибор чувствовал, как внутри закипает глухая, холодная ярость.
– Твоя ошибка, воевода, – она наконец подняла на него глаза. В них плясали отблески костра, и казалось, что зрачки её раскалены докрасна. – Ты оставил слабого без присмотра.
Удар пришёлся точно в цель. Не в воеводу Ратибора, а в того сломленного, виноватого человека, который десять лет носил в себе крики умирающих дружинников у Соснового Брода. Тогда он тоже допустил ошибку. Тоже не учёл слабость – свою собственную гордыню. И цена была написана кровью десятков его людей.
Он резко встал, с силой оперевшись на топор. Камни под топорищем заскрипели. Боль в ноге взорвалась, вышибая воздух из лёгких. Мир на миг сузился до белого пятна перед глазами, а все звуки слились в один низкий, тягучий стон. «Сука. Старая, вонючая сука. Она знает. Она не может знать, но она бьёт именно туда. Как будто видит эту дыру у меня внутри». Желваки на его челюстях заходили камнями. Дыхание стало прерывистым. Старая боль в раздробленной кости отозвалась рядом с настоящей болью в лодыжке, и на мгновение он снова оказался там. В нос ударил густой запах горячей крови и сосновой смолы, а в ушах зазвенел крик молодого Олега – тонкий, рвущийся, оборванный на полуслове. Вкус желчи поднялся к самому горлу.
Он не ответил ведьме. Вместо этого, хромая и опираясь на топор, он пошёл к тому месту, куда днём отправил Люта за хворостом. Он должен был убедиться. Не потому, что беспокоился о воре. А потому, что не мог вынести мысль о ещё одной ошибке, которая приведёт к смерти. К его смерти.
Следы на влажной земле были отчётливыми. Вот отпечатки худых, стоптанных сапог Люта. Они метались по небольшому пятачку, будто он не мог решить, какие ветки лучше. А потом… потом след изменился. Глубокая борозда, будто что-то волокли. И рядом – смазанные отпечатки тех же сапог, но один из них едва касался земли. Ратибор присел на корточки, игнорируя протестующий вопль в ноге. Он внимательно осмотрел землю. Не было следов четырёх или пяти пар тяжёлых дружинных сапог. Не было признаков борьбы, вытоптанной травы.
«Здесь не было дозора, – понял он. – След один. И он не шёл, а тащился. Его не вели в полон. Случилось что-то другое». И эта неизвестность была страшнее открытого боя. Враг, которого ты знаешь, предсказуем. Тварь, которая таится в сумерках, может быть чем угодно.
Он выпрямился и выругался. Громко, грязно, отчаянно. Ярость поднялась не на Люта, не на ведьму. На себя. На то, что задело. На то, что внутри него ещё осталось что-то, кроме желания сдохнуть. Какая-то ржавая пружина, что заставляла его выпрямляться и исправлять свои ошибки.
– Старая, пошли, – бросил он через плечо, не глядя на Зоряну. – Посмотрим, какая тварь здесь охотится.
Он шёл не спасать вора. Он шёл убивать угрозу.
Сумерки в лесу были обманчивы. Они не наступали, а просачивались снизу, от влажной земли, заполняя овраги и низины вязкой, серой мглой, в которой тонули звуки и очертания. Ратибор шёл по следу, и каждый шаг был пыткой. Воспалённая лодыжка горела огнём, но он упрямо двигался вперёд, отмечая каждую сломанную ветку, каждый клочок ткани, зацепившийся за куст шиповника. Он снова был воеводой, ведущим свой самый жалкий отряд – из одного калеки и одной ведьмы – по следу пропавшего бойца, который и бойцом-то никогда не был.
Зоряна шла рядом, почти бесшумно. Она не смотрела под ноги. Её голова была слегка наклонена, будто она прислушивалась к чему-то, недоступному его слуху, – к шёпоту самой земли. Её глаза в полумраке казались двумя тёмными провалами.
След вёл их в неглубокий, заросший бурьяном и колючим кустарником овраг. И там они услышали звук. Тихий, прерывистый, жалобный скулёж, похожий на плач раненого щенка. Ратибор замер, подняв руку, и вслушался. Звук повторился, где-то впереди, за густыми зарослями.
Он раздвинул ветки. В самом центре оврага, на земле, лежал Лют. Он был скорчен в неестественной позе, и его била дрожь. Его правая нога была зажата в старом, покрытом бурой коркой ржавчины волчьем капкане. Точной копии того, что Ратибор нашёл утром. Зубья глубоко вошли в плоть чуть выше щиколотки, штанина пропиталась тёмной кровью. Резкий, кислый запах ржави и свежей крови ударил в нос, перебивая даже сырой дух оврага. А рядом с Лютом, аккуратно сложенная, лежала вязанка сухого хвороста. Даже попав в ловушку, даже умирая от боли, он выполнил приказ.
Ратибор спустился в овраг. Лют поднял на него голову. Его лицо было белым как полотно, а в огромных, полных слёз глазах не было ничего, кроме боли. Зрачки расширились, превратившись в чёрные колодцы, губы были искусаны в кровь. Он не кричал, только мелко, как собака, скулил, и от этого звука у Ратибора захолодело в нутре.
– Помо… ги… – прошептал он.
Ратибор опустился на колено рядом с ним. Капкан был старый, пружины его заржавели и забились землёй. Упершись здоровой ногой в землю, он схватился за две половины ловушки. Металл был холодным и скользким от крови. Ратибор потянул, но пружина держала мёртвой хваткой. Выругавшись, он отпустил.
– Топор, – прохрипел он, не глядя на Зоряну.
Она молча подала ему его оружие. Ратибор просунул топорище между ржавых челюстей, упёр обух в пружинный узел. Он упёрся здоровой ногой в землю, навалился всем весом на древко топора, используя его как рычаг. Дерево затрещало, сухожилия на руках натянулись до предела. Боль в его собственной ноге взорвалась, но он давил, рыча сквозь стиснутые зубы. Раздался громкий, визгливый скрежет ржавого металла, и одна из пружин, не выдержав, поддалась. Челюсти капкана разошлись на пару вершков. Этого хватило. Ратибор выдернул ногу Люта из ловушки. Тот коротко вскрикнул и обмяк, потеряв сознание.
Ратибор рухнул на землю рядом, тяжело дыша. Он опёрся спиной о сырой склон оврага, закрыл глаза. Всё тело было мокрым от пота. Он смотрел на разорванную штанину вора, на изуродованную, рваную рану, из которой сочилась тёмная кровь. И в его взгляде не было ни злости, ни презрения. Только тяжесть в плечах и гул в голове. Такая усталость, что хотелось просто лечь лицом в грязь и не вставать. Он видел не трусливого воришку, а просто ещё одного калеку. Ещё один кусок мяса, который этот мир пожевал и выплюнул. Такой же, как и он сам.
Они сидели у костра. Ночь окончательно вступила в свои права, окружив их маленькое убежище плотной стеной тьмы, в которой шевелились и перешёптывались невидимые твари. Подстреленный рябчик, разделённый на троих, исчез за несколько мгновений, оставив после себя лишь горькое чувство неутолённого голода.
Ратибор, отбросив брезгливость, заканчивал перевязывать ногу Люта. Он промыл рану последней водой из бурдюка, а потом оторвал от подола своей и без того рваной рубахи длинную, относительно чистую полосу ткани. Лют пришёл в себя и молча следил за его руками. Он не стонал, не плакал, только изредка его тело сотрясала крупная дрожь. Когда Ратибор затянул последний узел, Лют посмотрел на него огромными, влажными глазами. В этом взгляде не было страха. Было что-то другое, что-то, чего Ратибор не мог и не хотел понимать – кривое, удивлённое подобие благодарности. И это было хуже страха.
Когда он выпрямился, рядом бесшумно возникла Зоряна. Она протянула ему небольшой, грубо вылепленный из глины горшочек, от которого исходил сильный, терпкий запах мха, смолы и чего-то ещё, острого, почти лекарственного. Внутри была тёмно-зелёная, густая мазь.
Ратибор посмотрел на горшочек, потом на неё. Его недоверие было таким же плотным и реальным, как камень, на котором он сидел.
– Какая цена на этот раз? – спросил он сквозь зубы. Голос его был хриплым. Он не верил в её доброту. В этом мире у всего была цена, особенно у милосердия. Он спрашивал не о мази. Он спрашивал, какой новый долг теперь висит на нём и на этом бесполезном мешке с костями, который он только что вытащил из капкана.
Зоряна не ответила сразу. Она смотрела не на него, а в самое сердце огня, и пламя отражалось в её тёмных глазах, делая их похожими на два колодца, ведущих в преисподнюю.
– Этот, – кивнула она на Люта, – теперь твой. Хромой пёс за хромым хозяином. Смотри, чтоб дошёл.
Она говорила на его языке. На языке жестокой пользы. Это была не помощь, а вложение. Не милосердие, а расчёт. Она не спасала Люта. Она лишь чинила то, что было надобно для пути. И Ратибор понял, что этот ответ – единственная форма честности, на которую они оба были способны.
Он молча взял горшочек. Глина была тёплой, шершавой. Это было признание того, что все они увязли в этой топи вместе. Он зачерпнул пальцем пахучую мазь и, не обращая внимания на испуганный вздох Люта, грубо втёр её в края раны.
Они сидели втроём у догорающего костра. Никто не говорил ни слова. Но в тишине больше не звенело недоверие. Остался лишь треск углей да ровное, тяжёлое дыхание трёх измученных существ, объединённых не целью, а лишь необходимостью сделать следующий шаг в темноту.
Глава 5
День прошёл в тягучей, молчаливой работе. День, наполненный не только скрипом топора, но и тревогой ночных дежурств и пустым урчанием в животе, ушёл на создание волокуши. Ратибор, матерясь сквозь зубы на собственное упрямство, мастерил её. Его топор, привыкший к костям и плоти, теперь неохотно вгрызался в сырую древесину молодых осин. Руки, забывшие ремесло, покрылись занозами. Он обдирал липовую кору, разбивал её обухом топора, сплетая из лыка грубые верёвки, которыми скрепил неказистое, кособокое сооружение. Оно скрипело и шаталось под весом Люта. Ратибор мрачно посмотрел на свою работу: долго эта хлипкая вещь не выдержит. Но сейчас она держала.
Эта нудная, кропотливая возня выскребла из него остатки терпения. Телесная усталость, ломающая кости, была привычна. Но это… это было хуже. Каждый удар топора, каждый скрип лыка был напоминанием: он снова впрягся. Снова взвалил на себя обузу за чужую никчёмную жизнь. Чутьё, которое он годами топил в дешёвой браге, вылезло наружу, как червь из гнилого мяса, и Ратибор ненавидел его больше, чем боль в ноге, больше, чем князя и его приказ.
Утро второго дня встретило их тем же серым, безразличным светом, что сочился сквозь плотные кроны. Ратибор, не завтракая, накинул на плечи грубые лямки из лыка. Они тут же впились в тело, натирая старые рубцы. Он нагнулся, всем весом наваливаясь вперёд. Волокуша с неохотным скрипом стронулась с места, прочертив по влажной земле две глубокие борозды. Лют на ней, укрытый рваным плащом, был похож на мешок с тряпьём. Он лежал неподвижно, боясь издать лишний звук, лишь изредка по его телу проходила дрожь, когда ногу сводило судорогой от боли. Сбоку, не нарушая тишины, ступала Зоряна; её шаги тонули во мху, словно она была его частью. Он не слышал её, только ощущал, как колыхнулся воздух, когда она проходила рядом.
Он шёл, и в голове не осталось ничего, кроме отбоя: шаг – боль, шаг – боль. В искалеченной лодыжке, отдохнувшей за день, теперь с каждым шагом будто поворачивался заржавевший гвоздь; он почти чуял, как худо сросшиеся кости трутся друг о друга, грозя сломаться снова. Каждый корень, каждый камень под ногой отзывался тупым ударом, от которого по жилам вверх, до самого бедра, бежала горячая волна. Ратибор сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладонь. Мир сузился до пятачка влажной земли в двух шагах перед ним. Он перестал быть воеводой, перестал быть человеком – осталась только тягловая скотина, упрямо волокущая груз к бойне.
Лямки врезались в плечи, натирая старые рубцы до мяса. Снова. Снова тянешь эту лямку, воевода. Только раньше за тобой шла дружина, а теперь – ведьма и вор. Раньше ты вёл их к славе или смерти, а теперь просто тащишь бесполезный мешок с костями в проклятое болото.
Ты же сдохнуть хотел в придорожной канаве, тихо, без свидетелей. Утонуть в собственном похмелье. А вместо этого снова впрягся в чужую войну, в чужую нужду. И ведь никто не просил. Сам. Сам, дурень, полез вытаскивать этого червя из капкана.
Потому что не мог оставить. Потому что «своих не бросают». Каких, к херу, «своих»? Эта старая карга продаст тебя за пучок сушёной травы, а воришка перережет глотку за медную монету. Нет у тебя «своих». Они все остались там, у Соснового Брода, гниют в земле десять лет. А ты всё никак не сгниёшь.
Часы сливались в один бесконечный, однообразный труд. Скрип волокуши, собственное хриплое дыхание, чавканье грязи под сапогами. Лес не менялся. Всё те же скрюченные стволы, всё тот же запах прелой листвы и гнили. Каждый шаг был похож на предыдущий, и казалось, они часами идут на одном месте. Наконец, бурелом поредел, и они вышли на некое подобие дороги. Старый, заброшенный тракт, давно заваленный упавшими стволами и размытый дождями. Полозья волокуши заскользили по грязи чуть легче, но отрады это не принесло.
Ратибор остановился, тяжело переводя дух. И в этот миг его ударила тишина. Не просто отсутствие звука. Это была плотная, давящая пустота. Птицы смолкли. Замерли в траве кузнечики. Даже ветер затих в высоких кронах. Ничего. Только его собственное дыхание, похожее на работу кузнечных мехов, тихий стон Люта и скрип сырого дерева. Чутьё, отточенное сотнями таких же лесных переходов, взвыло внутри него, как натянутая тетива. Это была тишина засады. Тишина места, где охотник уже затаился и ждёт.
Не говоря ни слова, он опустил лямки. Кожа с противным влажным звуком отлипла от плеч. Одним движением он снял с пояса топор, перехватил поудобнее. Оружие в руке легло привычно, успокаивающе. Он кивнул Зоряне – короткий, резкий жест, означавший «стоять и не дышать». Ведьма замерла, её тёмные глаза внимательно следили за ним. Лют на волокуше съёжился, пытаясь врасти в рваный плащ.
Ратибор пошёл вперёд один. Его походка была ломаной, рваной – он втыкал топор в землю перед собой, используя древко как стальной костыль. Но в каждом его движении, в том, как он ставил ногу, как держал голову, была видна выучка десятков лет войны. Он двигался медленно, почти бесшумно, и просеивал взглядом чащу, отсеивая каждую сломанную ветку, каждый неестественный след, как ростовщик отбраковывает фальшивые монеты.
Тихо. Слишком, сука, тихо. Перед той засадой у брода тоже было тихо, но не так. Та тишина звенела. Она была наполнена ожиданием. Птицы молчали, потому что чуяли сотню мужиков, затаившихся в кустах. Зверь прятался. А эта тишина… она мёртвая. Пустая. Будто здесь ничего живого не осталось. Будто всё сдохло или убралось к херу подальше. Что может заставить замолчать целый лес? Медведь? Волки? Нет. Они бы шумели. Они сами – часть этого леса. Это что-то другое. Что-то чужое.
Запах ударил шагов за сто. Густой, медно-сладкий, тошнотворный. Запах крови, уже начавшей сворачиваться, и омерзительная вонь вспоротых потрохов, лежащих на сырой земле. Ратибор знал этот смрад. Он жил с ним большую часть своей жизни. Но здесь было что-то ещё. Какая-то приторная, гнилостная нота, от которой сводило желудок. Запах был гуще, плотнее, чем от любой бойни, которую он видел.
За очередным поворотом заросшего тракта показалась перевёрнутая телега, на боку которой виднелся полустёртый герб Светозара – сокол, держащий в когтях молнию. Две лошади лежали в оглоблях с переломанными шеями. А вокруг – тела. Пять человек в кожаных доспехах княжеской дружины. Лагерь сборщиков дани или небольшой разъезд.
Он подошёл ближе, и топор в его руке опустился. Не от ужаса – он видел вещи и похуже. От чистого, холодного недоумения. Складу в увиденном не было. Он читал эту поляну, как донесение, написанное безумцем, отмечая не то, что было, а то, чего отчаянно не хватало.
Не было следов боя. Совсем. Мечи лежали в ножнах у мертвецов на поясах. Один топор валялся рядом с рукой, но рукоять была чистой, без крови. Никто не пытался защищаться. На телах не было ни одной засечки на руках, какие бывают, когда заслоняешься от удара. Никто не пытался отбить удар или закрыться. Никто не пытался бежать. Все пятеро лежали кучно, недалеко от телеги, там, где их застала смерть. Они умерли, не успев понять, что на них напали.
Ратибор опустился на колено рядом с одним из дружинников, молодым парнем с редкой рыжей бороденкой. И тут он увидел раны. Это было не то, что он ожидал.
Он осторожно, двумя пальцами, приподнял край кольчужного доспеха на груди мертвеца. Кольчуга под пальцами была шершавой от запекшейся крови, словно покрыта ржавчиной. Воздух был густым от сладковатого запаха бойни, но под ним пробивался другой, едкий дух горелого железа, обжигающий ноздри. Стальные кольца не были разрублены или пробиты. Они были вдавлены внутрь, смяты вместе с рёбрами и тем, что было под ними, в кровавую кашу. Словно на грудь парню наступил великан. Молот? Бык? Что, сука, может сделать такое? Даже боевой молот оставляет другой след. Он ломает, дробит, но не вдавливает так… чисто. Словно тесто. По затылку и спине, вниз к пояснице, прошло странное онемение. Словно на миг там отмерли все жилы. Это был не страх перед мертвецами, а ступор от столкновения с тем, чего не может быть. Дыхание не перехватило, оно просто остановилось на пару ударов сердца. Боль в его собственной сломанной ноге вдруг отозвалась тупым, ноющим эхом, напоминая о хрупкости костей. Он вспомнил хруст собственной голени под ударом кочевнического молота. Глухой, влажный звук, который он до сих пор слышал в кошмарах. Но даже тот удар был понятен. Была за ним сила человека, была ярость боя. А здесь… здесь не было ничего. Только чудовищная, слепая, нечеловеческая сила.
Он выпрямился, оглядел остальные тела. У другого дружинника тулово было почти оторвано от бёдер, будто его схватили и рванули в разные стороны. Третий лежал лицом вниз, и его череп был смят, превратившись в бесформенную массу. На застывших, открытых лицах мертвецов не было ужаса или ярости. Только пустое, животное удивление. Последнее, что они испытали перед тем, как их мир закончился.
Ни тошноты, ни страха. Лишь пустота в голове, где раньше был опыт. Все знания о войне, воинских хитростях, оружии и человеческой жестокости ссыпались в бесполезную труху. Он не знал, что это было. А значит, не знал, как с этим бороться. Это было хуже любого противника. Это была пустота.
