Падение в колодец
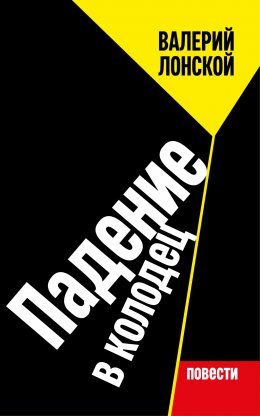
© Лонской В. Я., 2014
© ООО «БОСЛЕН», издание на русском языке, оформление, 2014
Страсти вокруг Гоголя
«…Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы…
…А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но быват».
Н. Гоголь. «Нос»
1
Летом 1931 года сотрудник ОГПУ Павел Буланов, мужчина двадцати семи лет, по-татарски скуластый, с прядью светлых волос, торчащей из-под форменной фуражки, с задумчивым взглядом серо-голубых глаз, в сопровождении фотографа из отдела криминалистики приехал на кладбище Данилова монастыря.
Причина, по какой начальник Буланова отправил его на кладбище, была необычной.
– Кладбище в Даниловом упраздняется, – объяснил он. – На территории монастыря организуется приемник для несовершеннолетних преступников… Прах особо известных деятелей решено перенести на кладбище Новодевичьего монастыря. Тебе задание, Павел: поезжай в Данилов и проследи за вскрытием могил. Кроме прочего будут вскрывать и могилу Гоголя. А Гоголь, сам понимаешь, – фигура! Возьми фотографа… Надо всё зафиксировать… Ну и чтоб было, как полагается, никакого баловства со стороны посторонних! Ясно?
Переговорив со сторожем у ворот, Буланов с фотографом, немолодым человеком в очках, щурясь от солнца, шли к могилам, где уже махали лопатами, выбрасывая землю на сторону, четверо крепких мужиков в мокрых от пота выцветших рубахах. Вокруг стояла многочисленная группа сотрудников различных ведомств из числа тех, кому было поручено вскрытие могил и перевоз праха в Новодевичий. Были среди них несколько писателей, представлявших общественность. Здесь же маялись и два милиционера, призванные наблюдать за порядком. Руководил работами одутловатый человек лет сорока, с гладко выбритой головой, в светлой толстовке. Еще один товарищ, с усами и бородкой, профессорского вида, что-то записывал в толстую тетрадь, которую держал в руке.
На вопрос одутловатого в толстовке, сразу приметившего посторонних: «А вы откуда, товарищи?», Буланов показал служебное удостоверение, и тот понятливо кивнул: слишком серьезное ведомство представлял Буланов, чтобы выказывать недовольство.
Следует признать, Буланову было не по душе данное задание. И ехал он на кладбище без особой охоты. И хотя за годы учебы в школе и на рабфаке он в полной мере впитал в себя атеистические идеи, исповедуемые нынешней властью, что-то помимо его сознания подсказывало ему, что вскрытие могил – дело не очень хорошее, варварское, даже если оно вызвано уважительными причинами. Но подобная практика в последнее время была не редкость (уничтожались кладбища, оказавшиеся на пути новостроек, на их месте возводились заводские корпуса, сносились храмы, и там, где они стояли, появлялись покрытые асфальтом дороги). А тут еще вскрытие могилы Гоголя, талант которого Буланов, как человек, испытывающий интерес к литературе, серьезно уважал.
Положив руки на ремень, опоясывающий гимнастерку, Буланов наблюдал за происходящим. Когда хотелось курить, менял позу, лез в карман галифе за коробкой папирос, а затем, думая о чем-то своем, подолгу держал папиросу во рту, прежде чем прикурить от спички.
Солнце то сильно припекало головы собравшихся, заставляя их потеть, то уходило под белый пух облачков, плывших над кладбищем, давая страдальцам передышку и способствуя появлению легкого ветерка, чуть освежавшего лица.
Когда вскрыли могилу поэта Языкова и специалисты принялись осматривать останки, Буланов дал знак фотографу приступить к работе. А сам отошел в сторону, присел на корточки у ствола старой липы: в задании, которое он получил, предлагалось проследить за извлечением останков Гоголя – проявлять инициативу и глазеть на останки других несчастных (а в том, что это несчастные, сомнения не было, раз тревожили их прах) Буланов не собирался. Выкурив на корточках очередную папиросу, он поднялся, прошелся неспешно туда и обратно по дорожке вдоль могил, подивился многозвучному пению местных птиц, позавидовал их беззаботной доле, в которой не было нетерпимости и безумия, свойственных человеку. Посмотрел на облака, что клубились над погостом. Задумался о вечности. И почувствовал себя неуютно, что обычно с ним бывало в подобные минуты. Перед лицом вечности остро ощущалась собственная ничтожность и ничтожность всего того, что Буланова окружало в этой жизни. Перед вечностью ничто не имело цены.
Могилу Гоголя вскрывали долго. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычно. Начав ее раскапывать, обнаружили кирпичный склеп необычайной прочности. Ткнули его киркой на пробу – как скала! Ближе к вечеру, после раскопок в поперечном направлении, обнаружили боковой придел склепа, через который, вероятно, и был вдвинут при захоронении гроб. Наконец, склеп вскрыли. Вынули гроб. Верхние доски гроба прогнили, но боковые, с сохранившейся фольгой и частично уцелевшим голубовато-лиловым позументом, были целы.
Буланов все это время маялся в стороне. То стоял под липою, упираясь спиною в ее ствол, то, сняв фуражку, садился на землю, не заботясь о чистоте недавно выстиранного галифе, которое от частого сидения на земле утратило свежесть. То вновь бродил по дорожке между могил, поглядывая на купола монастырского храма. И курил, курил, пока не кончились папиросы.
У него неоднократно возникала мысль о неразумности этой затеи: стоило ли отдавать территорию монастыря под приемник для несовершеннолетних правонарушителей и сносить кладбище? Разве нет других подходящих мест? Какой-либо пустующей казармы, или складских бараков, или брошенного особняка… Впрочем, религия, по мнению авторитетных людей, – опиум для народа, значит, надо искоренять. Но вот кладбище… Во многом согласный с деяниями власти, с этим Буланов согласиться не мог.
Тем временем у вскрытой могилы Гоголя случилось какое-то волнение. Устало стоявшие вокруг люди пришли в движение, послышались возбужденные голоса.
– Павел Федорович! – позвал Буланова фотограф, призывая его подойти к могиле и взглянуть на то, что таким неожиданным образом всех возбудило, – даже изнуренные мужики с лопатами и те пришли в волнение, двое из них к тому же перекрестились.
Буланов, сидевший в это время на земле, подхватил фуражку, лежавшую рядом, и поспешил к могиле.
Гроб писателя, поднятый с помощью веревок вверх, покоился на щите, сбитом из досок. Верхнюю крышку уже сняли, и подошедший Буланов увидел, что находилось внутри.
Останки Гоголя были заключены в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже белье, на ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся; только дратва, соединявшая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа завернулась кверху, обнажив кости стопы. Но самое удивительное – и это, как понял Буланов, явилось причиной общего возбуждения – в гробу не оказалось черепа! Было от чего прийти в волнение.
– А где же голова? То есть, череп? – Буланов растерянно взглянул на бритоголового человека, руководившего работами.
– Как видите, нету… – отозвался тот. – Склеп вскрыли на ваших глазах…
– Ерунда какая-то! – нахмурился Буланов. И почувствовал, как сильный порыв ветра неожиданно накатил на людей, стоявших вокруг могилы, взлохматил им волосы и одежду и унесся вдаль за монастырские постройки. – Что же получается, Гоголя похоронили без головы?
– С головой… – рассердился руководитель работ. – Похороны описаны целым рядом известных людей, и голова, как вы понимаете, была на месте. Иного и быть не могло в православной стране…
– Да, да, – подтвердили стоявшие рядом писатели.
– Где же тогда голова? – тоже начал сердиться Буланов. Его послали проследить за вскрытием могил, чтобы не было никаких ЧП, и вот теперь придется докладывать начальству, что в гробу великого писателя не оказалось черепа, словно он, Буланов, был повинен в этом. – Куда мог деться череп?
– Мне бы это тоже хотелось знать, товарищ… Чертовщина какая-то!
– Вы осмотрели склеп? – спросил Буланов, обращаясь к рабочим, стоявшим по краю ямы.
– Там пусто, – ответил один из них.
Буланов полез за папиросами, забыв, что коробка пуста. И обнаружив, что папирос нет, с раздражением запихнул коробку обратно в карман.
Человек профессорского вида, делавший записи в тетради, угостил его своими папиросами.
– Благодарствую! – Буланов с наслаждением закурил. При курении и думалось лучше, и мысль работала острее.
«Как такое могло произойти? – принялся размышлять он. – Склеп был замурован… Одежда – на месте, следовательно: разграбление могилы в ближайшее время после похорон отпадает. К тому же, народ повсеместно был богобоязненным, и осквернять могилу считалось последним делом! Что же тогда? Не черти же, в конце концов, увели этот череп!»
Взгляд его устремился на семейство птиц, чем-то потревоженное и взмывшее в небо с крыши монастырского храма. Птицы кружили некоторое время над куполами, словно решая для себя задачу: вернуться ли обратно на крышу либо лететь подальше от этого таящего опасность места.
– Мне теперь нагоняй будет от начальства… – вздохнул Буланов, обращаясь к фотографу, стоявшему рядом.
– А вам-то за что? – удивился тот. – Не вы же этот череп реквизировали…
– Не я. Но всё равно. Вроде, не уследил. Ты это… сфотографируй как есть…
– Уже света маловато… У фотопластинок низкая чувствительность. Но я попробую… – Фотограф, с осунувшимся от усталости лицом, достал из кармана кусок сухаря и, сдув с него предварительно крошки, принялся жевать, дабы перебить голод. – А если подложить туда, – он кивнул в сторону открытого гроба, – другой череп? Теперь-то какая разница? – философски рассудил он. – Ему наново сочинять «Тараса Бульбу» не придется… В общем, бедный Йорик! – И, перехватив неодобрительный взгляд Буланова, замолчал, хрумкая сухарем. – Может, я поеду? – спросил он, немного погодя. – Все равно света мало… Темно!
– А ты попробуй!
2
Начальник Буланова, Ефим Степанович Бодало, выходец из семьи разночинцев, краснолицый, с густыми бровями, с крупными моржовыми усами, весь пышущий здоровьем и энтузиазмом, мрачно сопя, выслушал рассказ Буланова.
– Как это нет черепа?! – оторопел он. – Что ты городишь?! Выпил, что ли?
– Вам, товарищ Бодало, хорошо известно, что я на службе не пью, – поморщился Буланов; обижаться на Бодало не имело смысла: подобное сообщение способно было озадачить любого.
– Куда же он делся – череп?
Буланов пожал плечами.
– Может, кто из белых офицеров увез его за границу нам, большевикам, назло? – нахмурился Ефим Степанович. И его крупные пальцы сжались в кулак, готовый разить всякую нечисть, мешающую славной поступи социализма.
– Вряд ли… Склеп был хорошо замурован, еле его вскрыли.
– Но это же – конфуз! – воскликнул Бодало, озадаченно поглаживая усы. – Великий пролетарский писатель и – без черепа! Вот уж радость буржуазным гнидам! Растрезвонят по всему свету! – И бросил сердитый взгляд на Буланова: – А ты куда смотрел?!
– Туда, куда и все – могилу вскрыли на моих глазах! – нахмурился Буланов. – А уж что там раньше было, и на каком этапе Гоголь лишился черепа – одному Богу известно, если он существует.
– Бога нет! – кратко резюмировал атеист во втором поколении Бодало. – А насчет черепа придется тебе узнать! Подумай, что мне докладывать наверху? У классика украли череп? Срам!
Буланов иронически взглянул на начальника.
– Вы что же, командировку мне оформите в прошлый век? И обеспечите царскими червонцами на проезд?
– Не умничай, умник! – Бодало плеснул в стакан воды из графина, выпил. – Если потребуется, мы тебя и в прошлый век отправим, к чертовой матери!.. Как ты не понимаешь, дело – серьезное… Несомненно, это происки наших врагов!
Буланов молчал, понимая абсурдность данного задания. Но спорить с начальником было бессмысленно.
– Освобождаю тебя от всех дел, – подвел черту Бодало, – займешься только этим… Ищи! Кровь из носу, но чтобы через две недели я знал, какая сволочь увела череп нашего классика!
Вечером Буланов отправился в сад «Эрмитаж».
Около семи он появился у главного входа, где должен был встретиться с девушкой Леной, с которой свел знакомство пару месяцев назад. Сегодня они собирались сходить в кинематограф на новый фильм «Одна», который, по мнению тех, кто его уже посмотрел, сопровождался «живым звуком»: там была музыка, звенел будильник, и храпел, как в жизни, спящий артист, игравший роль председателя сельсовета – всё это было в новинку!
Стрелки на уличных часах отмерили семь часов, потом десять минут восьмого, потом двадцать минут… А Лена не появлялась.
Напротив входа в сад останавливались пролетки, запряженные лошадьми, и легковые автомобили – лошадиный транспорт преобладал, машин было меньше. Слышалось ржание лошадей, автомобильные гудки, пугавшие зазевавшихся пешеходов. Из пролеток и авто вылезали нарядные женщины и хорошо одетые мужчины. Прибывающие устремлялись к зданию театра, где сегодня давали новую программу варьете. Милиционер в летней форме дежурил поблизости, отпугивая своим внушительным видом двух нищих, норовивших выпрашивать деньги у прохожих.
А Лены всё не было. При иных обстоятельствах Буланов, несомненно, огорчился бы, он успел за время знакомства полюбить девушку, и нафантазировал бы по поводу ее отсутствия невесть что. Но сегодня, занятый мыслями о пропавшем черепе и поручении, данном ему Бодало, к которому Буланов не знал, с какой стороны подступиться, он не испытал горьких чувств. В конце концов, могло случиться что-либо непредвиденное! Люди, вскрывавшие могилу Николая Васильевича, тоже не предполагали, что не обнаружат внутри его черепа!.. И всё же Буланов решил сходить к Лене и узнать, в чем дело…
А случилось вот что. Мать Лены, Елизавета Ильинична Нарбут, сухощавая дама, с благородными чертами лица, вдова профессора-историка Евгения Ивановича Нарбута, погибшего от случайной большевистской пули во время эсеровского мятежа в 1918 году, очень не любила граждан, находящихся на службе в различных «карательных» органах. Следовательно, не любить Буланова, работавшего на Лубянке, ей сам Бог велел. И она всячески препятствовала встречам своей еще не зрелой, по ее мнению, дочери с молодым сотрудником ОГПУ. И сегодня, отправляясь к родственнице в гости, Елизавета Ильинична закрыла свои две комнаты в коммуналке, где они проживали с Леной (и где та готовилась к экзаменам, собираясь поступать в университет), на ключ. Мало того, для надежности вдова Нарбут повесила снаружи амбарный замок, что делала крайне редко.
Обнаружив себя запертой и посчитав поступок матери гадким, девушка попыталась выбить плечом дверь. Но куда там! Высокая, почти трехметровая двустворчатая дверь, сработанная умельцами еще в конце девятнадцатого века, оказалась необыкновенно прочной, и девушке не по силам было ее сокрушить. А если бы это и случилось, висевший снаружи замок, о котором Лена не знала, не дал бы осуществить бегство.
Некоторое время девушка металась по комнате, соображая, как ей всё же оказаться у сада «Эрмитаж», в объятиях любимого, от поцелуев которого учащенно билось ее неискушенное девичье сердце. Лена бросилась к открытому настежь окну. Квартира, где жили Нарбуты, находилась на третьем этаже старого каменного дома, и выпрыгнуть вниз было чистым безумием. Рассерженная девушка после минутного раздумья, не зная, как отомстить матери, достала из шкафа патефон и, водрузив его на широкий подоконник, стала заводить одну и ту же пластинку, желая тем самым позлить соседей, выходцев из пролетарской среды. Сама же устроилась рядом на подоконнике и, в ожидании скандала, поглядывала вниз – на прохожих.
– Ты, артистка! Делать, что ли, нечего? – спросил желчного вида мужик, проходивший мимо с бидоном керосина. – Помой полы в доме, больше пользы будет!
– Гуляйте, юноша! – бросила сверху Лена и строго добавила: – Берегите, товарищ, свой революционный энтузиазм!
Хотя «юноше» на вид было никак не меньше пятидесяти. Но Лена, следует сказать, была девушкой воспитанной и сказать что-либо более грубое не могла.
Мужик сплюнул на сторону и удалился, ругая нынешнюю молодежь, готовую заполонить своими патефонами все вокруг, даже общественные сортиры, которые в изрядном количестве открыли в центре Москвы к очередному съезду Советов.
Лена перевернула пластинку. Теперь на смену «знойному» креольскому танго, где надрывно солировала гавайская гитара, маня в теплые края, пришла зажигательная румба. Навалившись грудью на прохладный подоконник и разглядывая голубей, колготящихся на асфальте, Лена загрустила от невозможности вырваться, наподобие птицы, на свободу.
И тут она увидела Буланова. Тот с озабоченным видом подходил к ее дому.
– Паша! – вскрикнула Лена, радуясь тому, что Буланов сообразил придти. «Значит, любит!» – мелькнула в голове мысль.
Буланов увидел Лену в окне на пару с патефоном. Эта картина – девушка, живая, здоровая, как ни в чем не бывало, слушает музыку – привела его в ярость. Вместо того, чтобы придти к саду «Эрмитаж», как было договорено, она крутит пластинки. Рассерженный Буланов хотел было повернуться и уйти.
– Паша! – вновь выкрикнула Лена, но теперь уже отчаянно, поняв его намерение. И принялась объяснять причину своего отсутствия: – Это мама! Ушла и закрыла меня на ключ… На ключ, понимаешь!
– Зачем? – удивился Буланов.
– Не хочет, чтобы мы встречались…
– Почему?
Лена высунулась по пояс, бросила взгляд на соседские открытые окна и, не решившись объяснять подробности, коротко сказала:
– Не хочет…
– А ты? – спросил Буланов.
– Я хочу, очень!
– Тогда прыгай ко мне, я тебя поймаю.
– Здесь высоко, я боюсь!
– У вас есть бельевая веревка? – поинтересовался Буланов.
– Где-то была…
– Поищи.
– И что?
– Привяжешь ее к ножке кровати, а второй конец бросишь в окно… По ней и спустишься, а я тебя подстрахую.
Лена была девушкой деятельной, к тому же ей очень хотелось попасть в объятия любимого, от щек которого так приятно пахло одеколоном, и она, соскользнув с подоконника, исчезла в недрах комнаты.
Буланов в ожидании закурил. Вскоре из окна вниз вылетела веревка, конец которой повис на уровне окон первого этажа – больше длины не хватило.
Оплывшая баба лет сорока с примусом в руках выглянула в окно, заметив болтающийся конец веревки. Увидела Буланова, стоящего под окном, устремившего вверх голову. Тот был в штатском и имел самый обычный вид.
– Ты чего тут караулишь? – спросила баба, отложив примус и скрестив на груди руки: весь ее вид говорил о готовности к бою. – Квартиру верхнюю хочешь обчистить? Вещички смылить?
– На черта мне эти вещички! – сказал Буланов. И пояснил: – Девку с третьего этажа хочу выкрасть.
– Это кого? Профессорскую дочку, что ли…
– Ну.
– Тоже нашел подарок! Буржуи недобитые! Моя Танька лучше по всем статьям… Если украдешь, возражать не буду!..
– Не могу, уважаемая, – любовь! – Буланов отбросил папиросу, взглянул на Лену, появившуюся в окне.
Та попробовала веревку на прочность, которую по совету Буланова привязала к кровати: веревка, вроде, держала. Лена легла на подоконник, проверяя, насколько хватает ее длины.
– Спускайся, не трусь! – махнул рукой Буланов, подходя вплотную к стене дома.
Лена медлила, боялась все-таки высоты. Наконец, решившись, ухватилась за веревку, завела ноги на подоконник, намереваясь следующим движением опустить их вниз. Но сделать этого ей не удалось. В это мгновение жаркие ладони ухватили ее за лодыжки, и голос матери, нежданно явившейся, рассерженно зашептал:
– Ты что делаешь, бесстыжая?! Профессорская дочь, а ведешь себя, как безродная куртизанка!
– Отпусти!
Лена, не выпуская веревки, стала дрыгать ногами, пытаясь освободиться от рук матери.
– Глупая, ты не понимаешь, куда катишься!..
– Да плюнь ты на эту желторотую! – весело крикнула Буланову баба с примусом. – Таньку мою возьми! Не пожалеешь!
Наконец Елизавете Ильиничне удалось одержать победу и оттащить дочь от окна…
3
Семьдесят лет спустя, в доме, расположенном в старом московском переулке, где еще сохранились черты былой довоенной жизни, в теплый летний вечер, под разноголосицу местных телевизоров, доносившуюся из распахнутых настежь окон, происходила похожая картина. Мать, но уже другая, Ольга Сергеевна Питрушина, крупная мясистая женщина лет сорока, акушерка районной больницы, так же, как когда-то вдова профессора Нарбута, держала за ноги свою «непутевую» шестнадцатилетнюю дочь, Наташку, норовившую сбежать из дома через окно. (Этаж, правда, был второй.) Девочка визжала, отбивалась, но мамаша, спортсменка в прошлом, толкательница ядра, держала ее мертвой хваткой.
– Не дрыгайся, лягушка, не ускачешь! Этот свистун тебе не пара! Ты погляди на него, это же кандидат в наркоманы!
На улице жертву домашнего насилия ожидал юноша лет восемнадцати, худой, белобрысый, с лицом неудачника, который продолжает тупо верить в свою счастливую звезду. Одет он был в темную майку с надписью «KLEVO» и поношенные с дырами джинсы. Звали его Федор.
– Фе-едя! Мне не вырваться! – кричала ему Наташка.
И уже обмякнув было в цепких руках матери, вдруг, собрав все силы, вновь рванулась вперед, не думая о том, что может вывалиться из окна. Но и на этот раз была остановлена – причем одной рукой Ольга Сергеевна держала ее за лодыжку, а второй вцепилась в трусики Наташки под задравшейся мини-юбкой, и когда резинка лопнула, сорвала их с девичьих бедер.
– Вот! – крикнула она, потрясая трусиками дочери, как индеец своим трофеем. – Не станешь же ты с голой задницей по городу бегать!
И тут девочка сдалась.
– Наташка! – позвал с улицы Федор, обращаясь к пленнице. – Я ушел… Но я вернусь! А вы, Ольга Сергеевна… вы… История вам этого не простит! Вы – насильник в юбке, Салтычиха! – с пафосом закончил он свою речь.
– Иди, иди, сорняк! – донеслось сверху. – Не для твоих губ ягодка! Портки сперва нормальные купи – без дырок!
– Редкая птица долетит до середины Днепра! – с чувством бросил в ответ Федор (была у него такая присказка), оскорбленный отношением Ольги Сергеевны.
И гордо удалился…
Бывший баскетбольный игрок, а ныне театральный администратор Василий Полутанцев, старший брат Федора, был человеком, склонным к авантюрам. После развода с Инной Бабенко, балериной из кордебалета, служившей в Большом, которая уличила его в супружеской измене и выставила за дверь, он нуждался в жилье. Вернуться туда, где он вырос, и жить вместе с матерью и братом, у него – давно уже зрелого мужчины, которому перевалило за тридцать – не было ни малейшего желания. Для того чтобы разменять двухкомнатную квартиру, где они когда-то чудесно жили с Инной, на две однокомнатные или купить «однушку», нужны были деньги, и немалые. А их у Полутанцева, человека легкомысленного и малопрактичного, не было. Мотаться в поисках ночлега по друзьям, пить там всякий раз водку, а затем ворочаться без сна на продавленных раскладушках ему надоело. И не просто надоело, а, как говорится, припёрло!
И тут Полутанцев неожиданно вспомнил о своем бывшем товарище по спорту, Петрухе Рыкалове, с которым они в давние годы играли за команду «Динамо». Рыкалов, покинув спорт, пошел в коммерсанты, преуспел в нефтяном бизнесе и мог бы, при желании, ссудить Полутанцеву необходимую денежную сумму на приобретение жилья. После некоторых раздумий Полутанцев нашел адрес компании, где трудился Рыкалов, и отправился к приятелю в офис, решив не предупреждать о своем визите заранее.
Охранник, стоявший за входной дверью, узнав, к кому идет посетитель, позвонил по телефону и после минутных переговоров с кем-то пропустил Полутанцева внутрь, объяснив предварительно, как ему найти нужный кабинет. «Не забыл, значит, Петруха старого товарища, если, услышав его фамилию, велел пропустить», – подумал с радостным чувством Полутанцев.
Петруха, а теперь это был Петр Андреевич Рыкалов, уважаемый человек, занимающий большой пост в нефтяной компании, ухоженный мужчина, хорошо, но не слишком вызывающе одетый, без всякого «золотого мусора» на пальцах (даже часы у него были без золотой браслетки, правда, весьма приличные, тысяч за десять зеленых, как прикинул гость), встретил Полутанцева приветливо, словно в последние дни только и мечтал о встрече с бывшим товарищем по борьбе за общие баскетбольные интересы.
– Васька! – воскликнул он, выходя из-за стола и протягивая руки. И даже обнял Полутанцева, словно они расстались только вчера.
Радость, с какой хозяин кабинета встретил его, настроила гостя на оптимистический лад.
– Как ты? Как наши? – И Рыкалов назвал две-три фамилии, знакомые обоим, но Полутанцев в ответ только пожал плечами: о судьбе названных он ничего не знал.
Рыкалов усадил гостя в мягкое кресло. Вызвал секретаршу, велел принести ей два кофе, предварительно спросив у Полутанцева, что тот пьет. Сел напротив.
– Рассказывай, с чем пришел… Я, между прочим, совсем недавно, поверь, вспоминал о тебе.
– Спасибо, что помнишь… – кивнул Полутанцев, удобно устраиваясь в кресле и злясь на себя за чувство униженности, возникшее в нем по отношению к хозяину кабинета; тот, хотя и улыбался, но, судя по его холодным глазам, был бесконечно далек от того прошлого, которое когда-то объединяло их, молодых и беззаботных тогда парней.
– Ну-с? – повторил в короткой форме свой вопрос Рыкалов, деликатно давая понять, что он человек занятой и его ждут важные дела.
– Мне нужны деньги… – сразу в лоб заявил Полутанцев, одолев, наконец, свое раболепие. И пояснил: – Квартиру хочу купить… После развода негде жить.
– Сколько? – спросил Рыкалов, заронив тем самым надежду на благополучный исход дела.
– Не знаю… Тысяч сорок, пятьдесят – зеленых… – сказал Полутанцев и, понимая, что просит немалую сумму, добавил: – Я отдам… Года за два. Я тебе расписку напишу.
Хозяин кабинета усмехнулся.
– Ни черта ты не отдашь! – жестко заявил он, глядя в упор на бывшего приятеля. – Ты сейчас где?
– В театре… Администратором…
– Чудесно! Сколько зарабатываешь?
– В переводе на зеленые?.. Ну, долларов пятьсот. Или около того… – И, почувствовав подвох, ощетинился: – Мне, между прочим, хватает!
– Рад за тебя, – невозмутимо отозвался Рыкалов. И опять усмехнулся, но глаза его, как прежде, оставались холодными: – Ты всё такой же… авантюрист?! Эх, Васька! Жизнь – другая, всё – другое, а ты не меняешься!.. – И спросил после паузы: – Пьешь?
– Ну… – замялся Полутанцев. – Бывает, конечно… Но в меру! По вывеске разве не видно? – Он все еще надеялся на благоприятный исход дела. – Лицо – вполне себе… как у разумного человека! – похвалил он себя и сам же застеснялся столь завышенной оценки.
– Который крепко надирается по вечерам! – продолжил за него Рыкалов. И добавил: – Нет, дружище, денег я тебе не дам!
– Не дашь?
– Нет!
– Ну и пошел ты! – рассердился Полутанцев и, понимая, что больше говорить не о чем, поднялся с кресла.
– Сядь! – властно остановил его Рыкалов.
Если бы на месте Полутанцева был кто-то другой, он не стал бы его удерживать. Но перед ним стоял его старый добрый приятель, а в глубине души Рыкалов был человеком сентиментальным и любил свою суетную веселую юность, воспоминания о которой, помимо всего прочего, давали ему возможность оценить, на какую высоту он поднялся сейчас. – Сядь! – повторил он.
И Полутанцев сел.
Рыкалов повел головой: ох, какой обидчивый! Без порток, а гонор тот же! Встал, прошелся по кабинету.
– Взаймы не дам… – пояснил он. – Но дам возможность подзаработать. Того, что ты получишь, тебе хватит на приличное жилье… В конце концов, я добавлю, если не хватит.
– Ну.
– Понимаешь, дело довольно необычное…
Полутанцев резко поднялся.
– Стрелять в твоих конкурентов я не буду! Не проси! Даже за миллион! В подвале жить стану, если придется, в бомжи пойду, но «пушку» в руки не возьму… Я чужую жизнь уважаю!
– Да сядь ты, идиот! В бомжи он пойдет! Каким был, таким и остался! – возбудился Рыкалов. – Причем здесь конкуренты? Я тоже чужую жизнь уважаю… И вообще, я не по «стрелецкой» части! Сядь! – вернул он Полутанцева обратно в кресло. – Слушай и не перебивай… Прабабка твоя, Анна Ивановна Гайдебурова, насколько мне известно, была дальней родственницей Александра Александровича Бахрушина, известного собирателя театральных реликвий…
– Ну, – не стал возражать Полутанцев, хотя мало что знал о своей прабабке и о том, что с нею связано.
– Бахрушин, по моим сведениям, в двадцатые годы передал на хранение своим родственникам некоторые вещи. В частности, среди этих вещей был… череп Гоголя.
– Кого?
– Гоголя! Николая Васильевича! Слышал о таком? «Вий» и прочее! Или ты только по бабам специализируешься?
– Я специалист широкого профиля! – обиделся Полутанцев.
Он решил, что Рыкалов не в себе. Вот до чего доводят большие «бабки», с сочувствием подумал он. И сказал:
– Череп Николая Васильевича, насколько мне известно, покоится вместе с его останками на Новодевичьем кладбище.
– А вот и нет! – весело заявил Рыкалов. – Не знаешь таких вещей! А еще говоришь: специалист широкого профиля!.. Объясняю: в тридцать первом году прах писателя переносили из Данилова монастыря, где он поначалу был захоронен, в Новодевичий… Когда вскрыли гроб, обнаружилось, что у Гоголя нет черепа… Вот так!
– Ну ладно! Как это нет черепа? – не поверил Полутанцев. – Ты вчера не перебрал?
– У меня, в отличие от тебя, на это нет времени! – оборвал его Рыкалов. И продолжил свой рассказ: – Череп был изъят из могилы за много лет до ее вскрытия в тридцать первом… И он каким-то образом попал к Бахрушину. А тот, будучи коллекционером, видимо, решил его сохранить. Потом, в советские годы, чего-то опасаясь, передал его на хранение кому-то из родственников. Возможно, твоей прабабке. Сохранились записки некоего Буланова, который занимался расследованием этого дела в тридцать первом году… Короче! Мне нужен этот череп! Если ты найдешь его, получишь хорошие деньги, мой баскетбольный друг!
– А зачем он тебе? – оглядевшись, перешел на шепот Полутанцев.
– А это не твоего ума дело! – оборвал его Рыкалов.
Полутанцев вышел на улицу, терзаемый смешанными чувствами. Поначалу хотелось забыть о предложении Рыкалова, которое он воспринял как глупость богатого сумасброда. Что он, идиот, чтобы заниматься поисками костей?! Кроме того, слишком фантастической выглядела история с пропажей гоголевского черепа.
Но, когда Полутанцев вернулся в театр и к нему пришла Маша Заливина, одна из актрис труппы, белотелая, с большой грудью и осоловевшими глазами вытащенной из воды рыбы (та самая, с которой его застукала Инна Бабенко), и Полутанцеву пришлось в очередной раз совокупляться с ней на столе в своем крохотном, похожем на стойло для пони, кабинете, он понял, что так жить нельзя! И решил серьезно обдумать предложение Рыкалова. А уж когда в конце дня в кабинет заглянул ведущий артист театра Сельтерский, требуя отдать триста долларов, которые задолжал ему Полутанцев и полгода не отдавал, тут наш герой решил, что поиски черепа русского классика – единственный для него путь выбраться из долговой ямы и как-то наладить жизнь.
– Андреевич, деньги верну… Обещаю! – заверил кредитора Полутанцев и для пущей убедительности положил ладонь с растопыренными пальцами себе на грудь: дескать, даю слово художника! – Через неделю мне должны отдать крупный долг… Потерпи еще немного? Ладно?
Сельтерский, любимец публики, женившийся недавно в третий раз, был удручен отказом должника. Сколько можно! Взял, так верни! И не то, чтобы Сельтерский был человеком, сильно нуждающимся в деньгах, но именно сегодня, собираясь на день рождения к знакомой из министерства культуры, король местной сцены обнаружил, что оказался без денег на подарок, потому как накануне сильно потратился в магазине мебели, купив новый спальный гарнитур. Новая жена Сельтерского никак не желала проводить ночи в кровати, где блаженствовала бывшая супруга кумира публики, обладавшая мясистым задом, после которого на супружеском ложе образовалась серьезная вмятина.
– Ладно, Васька, поверю! Но в последний раз! – заявил Сельтерский, хмуря брови, человек, в общем-то, не скупой и покладистый. – Но если еще раз обманешь, больше в долг не дам… Мало того, цветов, в случае чего, на твои похороны не принесу! Так и знай!
– Доверие оправдаю! – радостно заверил его Полутанцев, получив отсрочку, как минимум, на неделю.
Мысль пуститься на поиски черепа Гоголя теперь прочно засела у него в голове.
Перед вечерним спектаклем Полутанцев сидел, как обычно, в комнате администратора и выдавал контрамарки. Спектакль был не новый, к тому же героиню в любовном дуэте сегодня играла актриса лет на пятнадцать старше своего партнера, и желающих получить контрамарку на такое волнующее зрелище оказалось немного.
Сначала в окошко обратились две студентки из театрального училища, за ними возник какой-то небритый тип лет сорока, мерзко жующий резинку, за плечом которого маячила девица порочного вида. Потом в окошко заглянула полная дама, остро пахнущая духами, и попросила пропуск на четыре лица вместо положенного ей на двух. Добрый Полутанцев выдал то, что дама просила – пусть развлекаются, спектакль идет второй сезон и аншлагу не бывать, даже если пройдет молва, что героиня сегодня обнажится на сцене, как Маха в мастерской у Франсиско Гойи.
За десять минут до начала спектакля в окошко заглянул приятель Полутанцева – Ванька Непрядин.
– Здорово.
– Привет… Какими судьбами?
– Да вот, машина в ремонте… Сижу без дела.
Непрядин, после окончания биофака университета, работал некоторое время в науке, затем, одурев от безденежья, ушел на вольные хлеба и зарабатывал теперь на жизнь, разъезжая на собственной «Ниве», занимаясь частным извозом. Жил не так чтобы богато, но лучше, чем в былые времена, когда трудился в стенах научного института.
– Дай пропуск на одно лицо, – попросил Ванька.
– Зачем? – удивился Полутанцев.
– Хочу сходить, ты против?
– Ты афишу видел? Сегодня «Варшавская мелодия». Ты же ее раз семь смотрел…
– Делать все равно нечего, – вздохнул Непрядин. – Жена к брату в Саратов уехала… Пить не хочется… Опять же, как говорится, любовь – темна, но сказки о ней согревают!
Полутанцев выписал пропуск приятелю. Но стоял у окошка, не уходил, словно ждал чего-то.
Да и Полутанцев смотрел на него задумчиво, прикидывая что-то. А прикидывал он вот что: если уж заниматься поиском черепа, то без напарника в таком деле не обойтись. И Ванька Непрядин для такого дела – самая подходящая кандидатура. Смел, умел. Мозги работают. Опять же, имеет машину, хоть и старенькую, но все равно – колеса! И Полутанцев принял решение.
– Отдай пропуск! – потребовал он.
– Не понял… – удивился Непрядин.
Полутанцев взял у него пропуск и порвал его на мелкие кусочки.
– В другой раз устроим тебе встречу с Прекрасным… – пояснил он. – А сегодня пойдешь со мной. Есть разговор.
Покинув здание театра, приятели долго искали место, где бы можно было спокойно поговорить. Поначалу сели в кафе на бульваре. Там к ним подсели две нетрезвые девицы, готовые за бутылку вина и два «хот-дога» на всё. Девицы были назойливы, жаловались на неожиданное исчезновение подруги, отчего они запили, и добрый Непрядин купил им два «хот-дога». Впечатленные его поступком, девицы потребовали еще и бутылку вина, но тут Полутанцев сказал: нет, и увел приятеля.
В тихом дворе нашлась пустая скамейка, исписанная похабными надписями, на которой они устроились… Но тут закапал дождь, и пришлось искать убежище под крышей.
В конце концов, купив в магазине бутылку коньяка и шоколадку, вернулись в театр. Взяли ключи на вахте и устроились в крохотном кабинете Полутанцева, где он сегодня днем совокуплялся с артисткой Заливиной, печалясь об отсутствии подходящих условий. Полутанцев указал Непрядину на стул. Сам сел по другую сторону стола в свое потрескивающее, как поленья в камине, старенькое кресло. Вынул из шкафа два не совсем чистых стакана, распечатал коньяк.
В зрительном зале смеялась публика, и в кабинет докатывались волны этого смеха.
В это время по коридорам и далеким от зрительного зала лестницам слонялся сутулый, с кривыми ногами, местный пожарный Мономахов. Ходил и вынюхивал, что и где. Борец с огнем интересовался состоянием помещений и мусорных урн, куда непутевые артисты бросали непогашенные окурки. Но значительно больше его интересовала личная жизнь тех, кто коротал часы во время спектакля и после него в своих гримуборных и кабинетах. Закулисные романы, всевозможные выпивки по поводу и без, плетение всякого рода интриг, в результате чего завоевывались лучшие места под солнцем и в душе главрежа, и прочая жизнь актеров и актрис – все это знобко волновало мастера пожарного дела, наполняя его жизнь столь необходимым содержанием, чего, в силу обстоятельств, она была лишена. Сложись судьба Мономахова иначе, он мог бы стать психиатром или, к примеру, литератором, потому как много любопытного и разного, почерпнутого вследствие наблюдений за чужими жизнями, таилось в его черепной коробке и могло бы найти воплощение на бумаге.
Вот и сейчас, услышав голоса в кабинете администратора, он прервал свой путь. Открыв дверь по соседству, где никого не было, он устроился возле стены и прислушался. А слышимость в соседней комнате, следует признать, была то, что надо, не хуже, чем в зрительном зале, когда сидишь в двух шагах от сцены. И вот что услышал Мономахов.
– Дело, конечно, трудное, но прибыльное… – объяснял Полутанцев приятелю то, что услышал от Рыкалова. – В случае успеха получим двадцать тысяч зелени! Так было обещано… Разделим по-братски: тебе – пять, мне – пятнадцать…
Сраженный названной суммой, Непрядин даже привстал со стула.
– Такие бабки за череп?!
– Но чей череп-то, вникни! Гоголя!
Мономахов за стеной перекрестился и опять весь обратился в слух.
– Допустим, – согласился Непрядин. – Но кому он нужен, чтоб такие сумасшедшие бабки платить?
– Заказчик сказал: есть покупатели на Западе… Нам-то какая разница, платили б зеленые. Находим череп, получаем аванс три штуки, остальное после экспертизы…
– Бог ты мой! Как он… Гоголь, оказался в могиле без черепа?
– Долгая история. При случае расскажу… Главное, есть с какого конца копать. Как говорит заказчик, череп, возможно, попал к моей прабабке, Анне Ивановне Гайдебуровой… И хранился у нее после смерти Бахрушина. Держали его, якобы, в саквояже для медицинских инструментов, который и надо искать… Прабабка давно умерла, сын ее, мой дед, тоже умер… Моя тетка, его дочь – жива, но совсем плоха, мало что помнит… Вот ее дочери, коим я прихожусь двоюродным братом, вполне еще нормальные бабы… Буду выяснять у них. Если у сестер пусто, прочешем всю родню! Чего мы теряем?
Непрядин, охваченный волнением, прошелся по комнате.
– Ну, хорошо, – заговорил он, – найдем мы, к примеру, череп… А как те, кто им интересуется, смогут определить, что он подлинный, а не фальшивка? Ведь можно любой череп из кладбищенской ямы выдать за подлинник…
– Об антропологе Герасимове слышал?..
– Нет.
– Был такой скульптор, он хорошо знал систему лицевых мышц и на основе черепа делал скульптурные портреты усопших. Один – в один… Работая таким образом, он воссоздал облик Ивана Грозного и многих других… Благодаря ему ученый мир узнал, какие приятные рожи были у неандертальцев! С помощью его метода можно воссоздать лицо Гоголя и сравнить с посмертной маской. Кроме того, будет сделан генетический анализ – сохранилась прядь гоголевских волос.
– Значит, «липу» заказчику не подсунешь, – не то озадачился, не то обрадовался Непрядин.
– Какая «липа»?! Забудь! – воскликнул Полутанцев. – Это серьезная публика, и там обмана не прощают. Если что, мне голову оторвут!
– И все же я не понимаю: что за блажь платить такие «бабки» за череп?!
– За твой череп, Ванька, и пяти баксов не дадут, хотя ты и хороший малый, – заявил Полутанцев. – Да и мой не дороже оценят… А это же классик! «Чуден Днепр при тихой погоде!..» – Полутанцев допил коньяк, что был у него в стакане. – Ладно, слушай сюда… – И, понизив голос, принялся излагать план действий.
Мономахов за стеной обеспокоился, так как собеседники теперь говорили очень тихо, и он на несколько мгновений потерял нить разговора, причем в самом важном месте. Борец за пожарную безопасность, отодвинув в сторону стул, прижался всем своим угловатым телом к стене, желая одолеть все свои природные неровности, и приложил ухо к покрашенной штукатурке.
В таком виде его и застала помощник режиссера Зина Муха, явившаяся к себе в комнату, чтобы выпить в антракте стакан чаю.
– Кес ке се? – возмутилась она. – Что здесь происходит?
Следует сказать, что любопытный пожарный, хоть и был застигнут врасплох в таком неподобающем виде, нашелся, что ответить.
– Тсс! – прошептал он строго. – Под штукатуркой что-то трещит… Возможно, проводка. Так и до короткого замыкания недолго!
– Авдей Миронович! – воскликнула Зина, включая в розетку электрочайник. – Вы совсем трёхнулись с вашей пожарной безопасностью! Там нет никакой проводки! Все провода в другом месте. Оставьте меня, дайте спокойно выпить чаю, у меня всего три минуты!
– Ну-ну… – пробубнил Мономахов, недовольный тем, что ему помешали в самый неподходящий момент. Но главное он услышал и озадачился тем, что узнал. Уже направляясь к выходу и желая отомстить Мухе, потребовавшей столь бесцеремонно покинуть ее кабинет, он подхватил со стола электрочайник. – А это мы заберем, – заявил он, – в целях пожарной безопасности… Пока под штукатуркой трещит, никаких электроприборов!
– А чай? – растерялась Зина.
– Чай надо в буфете пить! – оскалился Мономахов и вышел в коридор.
– Урод! – прошипела вслед ему Зина.
Вечером, крепко выпив, Полутанцев решил не ходить к приятелю, где договорился переночевать, а отправился к матери и брату, жившим на Большой Бронной.
У Полутанцева имелся свой ключ от входной двери, но он им редко пользовался и обычно, приходя к своим, звонил в дверь: мало ли что – мать еще не старая женщина, может пригласить друга, да и Федька, брат, тоже вошел в возраст, когда девок водят.
Федора дома не было, где-то шлялся, как обычно, и дверь открыла мать, Настасья Ивановна Полутанцева, в девичестве – Гайдебурова. Полутанцев нередко выговаривал матери за то, что она поступила в свое время опрометчиво, пойдя на поводу у непутевого мужа и сменив звучную фамилию «Гайдебурова» на какую-то легкомысленную – «Полутанцева»; носил бы он сейчас фамилию Гайдебуров, глядишь, и жизнь у него сложилась бы более успешно.
– Здравствуй, – поздоровался с матерью Полутанцев, вглядываясь в ее осунувшееся лицо.
– Здравствуй, Вася, – ответила Настасья Ивановна, не удивившись неожиданному появлению старшего сына.
– Мать, есть разговор, – сказал тот, проходя в комнату, служившую гостиной.
– Есть будешь?
– Нет, – отказался Полутанцев. И сразу приступил к делу, словно торопился, а внизу его ожидало такси, с целью отвезти на вокзал. – Скажи, как там тетя Маша?
Вопрос удивил мать: сын никогда не интересовался здоровьем и делами родственников.
– Плохо… Уже ничего не соображает… Я была у нее позавчера…
– Вопрос: кому достанется её наследство?
– Странный вопрос! Ее дочерям… Твоим кузинам… Хорошо бы иногда проявлять интерес к своей родне и своим предкам… Но у тебя – ветер в голове! Даже Федька и тот серьезнее… Ты же был на похоронах деда, был у них в доме на поминках и знаком с девочками… Правда, теперь это дамы почтенного возраста…
– Дай мне их адрес и телефон.
– Зачем?.. Столько лет ты с ними не общался и вдруг вспомнил… С чего это вдруг?
– Мать! Хочу наладить с ними отношения, – сказал Полутанцев. И объяснил: – В жизни у каждого случаются прозрения… Вот у меня тот самый период. Лучше поздно, чем никогда…
4
Дочери тети Маши, Софья и Клавдия, дамы, которым давно перевалило за сорок и которые так и не обустроили свою личную жизнь, жили вместе с матерью в одной квартире. Софья – высокая, худощавая, костистая, с язвительным выражением на лице. Клавдия – прямая её противоположность – среднего роста, пухленькая, с кукольной, сохранившейся с юности до зрелых лет физиономией, полной наивного обаяния. Казалось, они дополняли друг друга. Ссорились сестры редко, относясь с любовью и уважением друг к другу. В отношении к людям сестры вели себя по-разному: Софья с нескрываемым скептицизмом относилась к роду человеческому, особенно к мужской его половине, Клавдия же, наоборот, любила людей, верила всем и каждому, за что нередко страдала, будучи обманутой некоторыми из числа прытких и не очень порядочных человеческих особей. Так повелось еще с юности. Клавдия верила всем своим кавалерам и их жарким речам и в силу этого не могла противиться желанию последних овладеть ею, о чем впоследствии не раз жалела, но ничего с собой поделать не могла. Софья же, в отличие от сестры, умело противостояла мужским домогательствам, настроенная отдать всю себя лишь тому, кто поведет ее к алтарю (но такого не нашлось), вследствие чего так и осталась старой девой, ни разу не вкусившей любовных радостей, о чем, следует сказать, никогда не жалела. Вид трудившихся за станками работяг, пропахших потом, с почерневшими руками, в шрамах на лицах от пьяных драк, с кем ей приходилось иметь дело на заводе, где она работала экономистом, не вызывал у нее желания стать женою одного из них.
Когда Полутанцев, приодевшийся по случаю похода к родственницам, позвонил в дверь, ему открыли обе сестры, предупрежденные Настасьей Ивановной о визите сына. Точнее, дверь открыла Софья, а Клавдия стояла сзади и, вытянув шею, с любопытством поглядывала через плечо сестры на столь редкого у них в доме гостя. Клавдия помнила его двадцатипятилетним повесой, когда в скорбные дни после кончины ее отца он пару раз появился у них в квартире, и в день поминок – на девятый день, – воспользовавшись удобным моментом, сумел увлечь ее в ванную комнату и там овладел ею, шепча на ухо слова утешения. После жарких объятий в ванной, которым она предалась вследствие накатившего на нее умопомрачения, Клавдия надеялась, что пылкий стратег, осуществивший столь блистательно наступательный прорыв, появится в их доме снова, но тот исчез с концами. И вот, много лет спустя, он возник как призрак из небытия. За прошедшие годы Полутанцев поизносился, поредел волосом, потерял былой лоск, но все еще оставался привлекательным мужчиной, способным потревожить не одно женское сердце. При воспоминании о тех давних минутах, пережитых в ванной комнате, Клавдия почувствовала, как у нее забилось сердце.
– Ты, вероятно, Василий? – нелюбезно спросила Софья, вглядываясь в гостя, хотя сразу же, как и Клавдия, узнала его.
– Yes, Василий! – подтвердил тот, оглядев сестер, вспомнив о желчном характере первой и мягкотелости второй. Но не вспомнил о своей короткой связи с Клавдией, имевшей место много лет назад в ванной комнате.
– Тетя Настя предупредила о твоем приходе… – с надменным выражением лица сообщила Софья. Мужик, стоявший перед ней, хоть и приходился ей двоюродным братом, был ей неприятен: такой же, как и прочие, бабник, выпивоха и к тому же, судя по физиономии, из разряда неудачников. – Проходи, – предложила она, давая понять, что не испытывает радости от его визита.
Полутанцев двинулся из прихожей в гостиную.
В квартире пахло лекарствами и другими запахами, сопровождающими долго болеющего человека. В одной из комнат, выходивших в коридор, была открыта дверь, там, несмотря на дневное время, горел свет. Видимо, в этой комнате и лежит больная, подумал Полутанцев. И почувствовал себя неуютно, словно вздохи, доносившиеся оттуда, как-то могли отразиться на его здоровье.
Помня наставления матери, предупреждавшей о нелюбви Софьи ко всякого рода невоспитанным хмырям, решил показать все лучшее, на что был способен. Изображая воспитанного господина, остановился в центре гостиной, скрестив на груди руки, ожидая, когда ему предложат сесть. И когда Клавдия предложила это сделать, уселся с достоинством на жесткий диван красного дерева, относящийся к началу XIX века.
Сестры присели к столу.
– С чем пожаловал? – спросила Софья, убедившись, что гость устроился и готов к разговору.
И обе воззрились на него в ожидании ответа. Они смотрели на Полутанцева, как смотрят дотошные зрители из первых рядов партера на актера, играющего на сцене, – перед ними ты весь на виду: не спрятаться, не укрыться!
Полутанцев заерзал, почувствовав себя, словно насекомое под лупой, и чуть было не выругался. Но сдержал себя – дело требовало того.
– Как здоровье тети Маши? – поинтересовался он, продолжая играть воспитанного господина, который не спешит с разговором о главном.
– Разве тебе это интересно? – спросила с вызовом Софья.
– Софья… – взглянула на нее мягкосердечная Клавдия, – напрасно ты так…
– Извини, как умею!
– Может, лекарства какие-либо нужны? – спросил Полутанцев.
– Спасибо, обойдемся… Тетя Настя сказала, что у тебя дело к нам. Чего тебе надо?
Полутанцев начал издалека. Напомнил, что все они, и сестры и он, происходят из славного рода Гайдебуровых. Что их предки находились в родстве с Александром Александровичем Бахрушиным, собирателям всяких редкостей и создателем театрального музея. Что после смерти Бахрушина некоторые его вещи достались прабабушке, от нее перешли к деду, а потом к тете Маше, его дочери, жившей с ним одной семьей. Дай бог ей здоровья, добавил Полутанцев. Завершая свой монолог, он признался, что его интересует судьба этих вещей. Точнее – одной их них.
– Что ты имеешь в виду, говоря о вещах Бахрушина?.. Книги, художественные безделушки, имеющие отношения к театру XIX века? – хмуро поинтересовалась Софья. – Драгоценностей там не было… И полотен, достойных Эрмитажа, тоже. Так, кое-какая мелочь.
– Ювелирные изделия меня не интересуют… Значит, все то, что передал Бахрушин нашей прабабке, у вас?
– У нас! – весело подтвердила Клавдия. Ей хотелось, чтобы Полутанцев обратил на нее внимание, а не только беседовал с Софьей.
– А в чем дело? Ты претендуешь на что-то? С какой стати? – продолжала Софья, выразительно взглянув на сестру и давая понять, чтобы та вела себя более сдержанно.
– Извините, милые сестры! – заявил Полутанцев, продолжая изображать воспитанного господина. – Я ни на что не претендую! У меня, можно сказать, искусствоведческий интерес!
– Было бы смешно претендовать… – продолжала Софья. – Тем более, что после смерти деда, хранившего бахрушинские вещи, прошло столько лет.
– Может быть, Вася выпьет чаю? – опять вмешалась в разговор добрая Клавдия, обращаясь с этим предложением не к гостю, а к сестре.
– У нас кончилась заварка, – пресекла ее Софья.
– Тогда – чашку кофе… – предложила Клавдия.
– Судя по глазам нашего родственника, – сказала Софья, – он пришел сюда не чаи распивать… Верно?
– Ты всегда была умницей, Софья, – согласился с нею Полутанцев. – За это тебя и обожаю!.. Меня интересует вот что. Нет ли среди вещей, доставшихся вам в наследство, саквояжа для хранения медицинских инструментов? Из кожи? С вензелем в виде буквы «Б» на боку. Этот саквояж принадлежал когда-то Бахрушину, и как показывают архивные документы… (насчет документов Полутанцев загнул) был передан на хранение нашей прабабушке…
– Не припомню, чтобы среди вещей в нашем доме был медицинский саквояж, – ни секунды не мешкая, ответила Софья.
– Ах, Соня! По-моему, был такой… – опять вмешалась добрая с кукольным лицом Клавдия. – Ну, помнишь, темно-коричневый, с металлическими уголками… Только вот где он?
– Не помню! А зачем он тебе? – Софья с подозрением взглянула на Полутанцева. – Ему красная цена – двести рублей.
– Значит, все-таки саквояж был! – обрадовался тот.
– Возможно… Повторяю: зачем он тебе?
Полутанцев замялся: сказать правду он не мог, но и соврать убедительно было не просто.
– Меня интересует то, что было по описи в этом саквояже. А там был… череп.
– Череп? – У Софья вытянулось лицо.
– Как интересно! – воскликнула Клавдия.
– Какой еще, к черту, череп? – скривилась Софья.
– Череп неандертальца… – соврал Полутанцев. – Бахрушин хранил его в саквояже с неясной целью.
– А тебе он зачем?
– Видишь ли, у меня есть приятель, художник, он делает по заказу издательства иллюстрации для энциклопедии… И он попросил достать ему череп неандертальца, чтобы показать в рисунках его существенное отличие от черепа современного человека…
Столь путаное объяснение не убедило Софью.
– Хватит врать! – сказала она. – Аферист!
Полутанцев решил свой дар убеждения обратить на Клавдию, смотревшую на него преданными собачьими глазами.
– Этот человек обещал мне хорошо заплатить, – признался он, устремив на Клавдию печальный взор. – А при моих скромных доходах театрального администратора (сами понимаете, искусство сейчас переживает не лучшие времена) дополнительный заработок не помешает… – Полутанцев даже пустил слезу, для пущей убедительности.
Софья взглянула на него с брезгливым выражением. Встала, прошлась по комнате.
– Не понимаю, – рассуждала она, – зачем нашему деду, а потом матери хранить череп какого-то неандертальца… да еще в саквояже! Глупость какая-то…
– Короче! – начал терять терпение Полутанцев, готовый придушить дотошную Софью. – Саквояж есть или его нет?
Тут заговорила Клавдия, страстно желавшая помочь ему.
– Был саквояж! Но где он теперь, мне неизвестно, – сказала она. – Покойный дед как-то рассказывал, что сохранилось письмо Бахрушина к нашей прабабке, где тот объясняет, почему ему так важно сохранить саквояж и то, что находится внутри.
– Не пойму сути! – покачала головой Софья. – Бахрушин был собирателем театрального реквизита… Зачем ему череп неандертальца? Во времена неандертальцев театров не было!
– Кто знает! – воскликнул Полутанцев. – Может, театр как раз ведет свою родословную от неандертальцев!
– Василий! Ты мне басни не рассказывай! – заявила Софья. – Может быть, это череп какого-нибудь театрального деятеля? И ты скрываешь это? Как бы то ни было, но я не помню, куда делся этот саквояж…
Полутанцев, удрученный, поднялся с дивана. Хотел уйти, но слишком многое было поставлено на карту. И он опять сел. «Сделать эту желчную воблу своей союзницей вряд ли удастся, – подумал он о Софье. – Но вот Клавдия… Та – иное дело. Жалостливая особа. Наверняка любит кошек и собак… Особенно бездомных!»
– Ну что ж, – Полутанцев вздохнул, бросив скорбный взгляд на Клавдию. – Будем влачить жалкое существование, раз вы не хотите мне помочь… – Потом резко взлетел с дивана и, забыв о материнском наставлении вести себя прилично, заговорил с пафосом, излагая нечто такое, отчего сам впоследствии пришел в оторопь: в своей речи он использовал набор фраз из монолога героя одной из модных нынче пьес, которого в его театре играл артист Сельтерский; Полутанцев даже пытался копировать интонации любимца публики: – Ну, спасибо, спасибо, уважаемые! Это благодаря таким, как вы, и вам подобным, держава наша села на мель! Крепкий государственный бриг получил пробоину, и мы, рядовые граждане, в одночасье превратились в нищую голь! Вы обжираетесь на своих презентациях, глотаете там омаров, икру, осетрину, льёте шампанское на паркет, подтираетесь баксами в сортирах, а простые сельские жители… где-нибудь в Тульской области или под Тверью думают, чем бы заправить щи, чтобы не хлебать пустую воду! Роженицы, которым от скудного питания нечем кормить младенцев, за неимением ничего лучшего дают им, вместо грудей, сосать концы наволочек, пропитанные молоком!
Услышав всё это, Софья, с округлившимися от ужаса глазами, попятилась в угол. А Клавдию, наоборот, охватил какой-то непонятный восторг.
– Ты что! – выдохнула потрясенная Софья. – Звезданулся?! Кто здесь обжирается омарами? Ты перепутал адреса! Шел, вероятно, к какой-нибудь богатой дряни!
– Я шел к любимым сестрам, в надежде, что они протянут мне руку помощи! – заявил Полутанцев и выбросил вперед пятерню, словно оратор на трибуне. – А они… они… – Здесь он сыграл, что не находит слов от столь глубокого человеческого разочарования.
– Ты правильно сделал, что пришел к нам… Сестры помогут! – пытаясь успокоить брата, воскликнула Клавдия, продолжая испытывать восторг от его речи. – Тебе нужны деньги? – Клавдия метнулась к комоду, схватила лежащую на нем сумочку. – Вот возьми… Здесь моя зарплата! Я выкручусь!
– Мне нужен череп, а не деньги! – оскорбился Полутанцев, словно ему по недоразумению сунули в подземном переходе милостыню.
– Соня! Где этот саквояж? – бросилась к сестре Клавдия, полная будоражащих мыслей и готовая пережить заново всё то, что пережила когда-то много лет назад в ванной. – В конце концов, я тоже имею на него право, не только ты!
– Тише! Вы беспокоите мать! – одернула ее Софья. И, выглянув в коридор, прислушалась, стараясь понять, все ли там в порядке. Потом призналась: – Кажется, мы отвезли его на дачу. Чтоб не держать здесь этот хлам. Если ты помнишь, мы хотели выяснить, в чем суть… Но руки не дошли. Столько лет уже прошло, и я не знаю, где он теперь…
– Поехали на дачу! Я готов! – возбудился Полутанцев. – У меня внизу машина!
– Твоя? – поинтересовалась Софья и торжествующе взглянула на сестру: видишь, он обманщик! – А еще прикидывался нищим!
Полутанцев поморщился.
– Это машина приятеля, он вызвался мне помочь…
– Я не могу составить тебе компанию, – язвительно улыбнулась Софья. – Мне к четырем на работу!
– Я могу поехать! – воскликнула Клавдия. – У меня сегодня академический день…
И сердце ее сильно забилось от предвкушения предстоящего путешествия, в финале которого, в туманной дымке, ей грезились два тела, мужское и женское, слившиеся в любовном объятии в одном из уголков дачного дома, над которым склонились старые липы.
– Никуда ты не поедешь! – перегородила ей путь Софья. – Без меня ты ничего не найдешь… А там полчердака перевернуть надо!
– Полчердака? Какой разговор! Перевернем! – засиял Полутанцев. – Полчердака – это раз плюнуть!
5
Вернемся в тридцать первый год – к началу нашей истории, чего, несомненно, жаждет серьезный читатель, не испытывающий интереса к аферам и суете нынешнего времени.
Павел Буланов продолжал расследование порученного ему дела, пытаясь выяснить, куда же девался череп великого писателя.
При первой возможности он снова приехал в Данилов монастырь, с намерением переговорить с товарищем Коромысловым, недавно назначенным начальником будущего приемника для малолетних правонарушителей, который обустраивали на территории монастыря. Буланов нашел его в монастырской трапезной, которую Коромыслов и его помощники, учитывая большие размеры помещения, заняли под контору.
Евсей Коромыслов, сухощавый мужчина, с плоскими ушами, похожими на оладьи, и большим кадыком, прыгающим у него посередине шеи, словно лягушка, случайно выскочившая на дорогу, одетый в темную сатиновую рубаху, перепоясанную тонким кожаным пояском, был потомственный пролетарий (дед его и отец работали на кожевенном заводе, куда со временем, когда Евсей подрос, определили и его). Дед и отец Коромыслова исправно раз в неделю по выходным дням напивались до скотского состояния в ближайшем трактире, питая алкоголем свою классовую ненависть к власть имущим, недовольные существующим порядком, при котором у одних есть всё, у других ничего, кроме трудовых мозолистых рук. Коромыслов-младший, тянувшийся к знаниям, был противником пьянства (за что, случалось, получал по физиономии от папаши и коллег-пролетариев, когда пытался объяснить им, что пить грешно и глупо). Но пролетарскую логику, по которой все мировые блага надо исправно поделить между всеми, усвоил очень быстро и движение по этой дороге посчитал главным делом своей жизни. В ходе пролетарской революции осуществилось многое из того, о чем мечталось Евсею Коромыслову. И он, как преданный солдат партии, всегда находился на переднем крае борьбы, велась ли она с оппортунистами на партсъездах, или внутри партийных организаций, или в комиссариате народного образования, где он до назначения в детприемник возглавлял один из отделов.
Когда Буланов появился в трапезной, Коромыслов сидел в конце длинного обеденного стола, приспособленного теперь для канцелярских нужд, и писал начальству отчет о проделанной работе. Трое его помощников, среди которых была одна болезненного вида женщина, что-то жарко обсуждали, устроившись за тем же столом, но поодаль. Слева от Коромыслова стояла пишущая машинка «Ремингтон», по правую руку – чернильница и стопка серой бумаги. Над головой красовался лозунг, выполненный на красном кумаче белой краской: «Перекуём малолетних преступников в сознательных пролетариев!»
Выслушав рассказ Буланова о том, что в гробу Николая Гоголя после вскрытия могилы не оказалось черепа (а Коромыслов был уже в курсе дела, так как работы по извлечению останков классика велись на вверенной ему территории), и уточнив, что интересует гостя, Евсей Коромыслов задумался.
– Честно скажу, не понимаю, как такое могло случиться, – проговорил он, сидя с туманным взором, словно пытаясь заглянуть в далекое прошлое, где при царях и буржуях творились мерзости и похуже; хотя куда уж хуже! – у мастера слова, писателя, украли голову. – Не понимаю цели этого безобразия! – продолжал Коромыслов, ковырнув указательным пальцем в ухе. – И когда было совершено преступление? Склеп же был запечатан… Вот ведь чертовщина! И опять всё свалят на нас, большевиков! Даже не знаю, чем тебе помочь, товарищ Буланов…
Коромыслов закурил. Закурил и Буланов. Змейки светлого дыма заструились над их головами, потянулись к высокому сводчатому потолку.
– А монахи, которые здесь жили… где они? – спросил Буланов.
– Монахи? Кое-кто еще остался… Не хотят уходить, сволочи, хоть кнутом гони…
– Может, им что-либо известно?
– Может, и известно… Но они, если что и знают, то, скорее, умолчат… У нас с ними разная линия – по части классового и мифологического сознания: у них Господь бог, у нас – Дарвин и атеистическое мировоззрение! У них – безделье и молитвы, у нас – труд на благо пролетариев!..
Буланов молча слушал. Не все ему нравилось в словах Коромыслова, но он не показывал виду. По мнению Буланова, неверно было считать монахов бездельниками: всю жизнь они обеспечивали сами себя. Жили за счет плодов своего труда – выращивали картошку и прочие овощи, даже пшеницу для изготовления муки выращивали сами; не говоря о заготовке солений: грибов, огурцов, капусты; ходили в лес по ягоды, варили варенье, держали пчел, в общем, трудились не покладая рук. Но всё это было в прошлом, теперь же их изгоняли из обжитых мест, национализируя имущество и угодья, принадлежавшие монастырям.
– И всё же я хотел бы с ними переговорить, – сказал Буланов. – Может, расскажут что-нибудь полезное… Чувствую я, что где-то рядом растет тот куст, за которым укрылся разбойник с мешком…
– Какой еще «куст»? – не понял его Евсей Коромыслов, и вновь ковырнул пальцем в своем «оладьевом» ухе, думая, что плохо расслышал Буланова. После контузии в гражданскую, когда в пяти метрах от потомственного кожевенника разорвался белогвардейский снаряд, правое ухо Коромыслова работало с перебоями, и он нередко загонял туда палец, словно хотел прочистить засорившееся отверстие.
– Это я – образно… насчет куста, – пояснил Буланов. – Так, где мне их найти – монахов?
– Пестунов! – окликнул одного из помощников Коромыслов. – Проводи товарища…
Монахов, живших при монастыре, было четверо. Они сидели на задворках монастырской кухни, давно заколоченной досками, расположившись по обе стороны энергичного костерка, разложенного на земле. Поначалу Буланов не мог понять, с какой целью в жаркий день монахи собрались у огня, но когда увидел над костерком ведро, где булькало какое-то варево, всё понял. Один из них, поставив на траве четыре солдатских котелка, резал на четыре части полбуханки черного хлеба. Всё это были мужики лет под сорок или чуть больше сорока. Обветренные морщинистые лица, бороды с проседью.
Увидев Буланова, одетого в форму, и его провожатого, монахи, ведшие до этого неспешный разговор, умолкли. Привыкшие к превратностям судьбы, угрюмо смотрели на нежданных гостей, не ожидая ничего хорошего. «Этих разговорить непросто – серьезный народ», – подумал Буланов, вглядываясь в лица монахов и прикидывая, как половчее приступить к сути дела.
– Здорово, товарищи монахи! – начал он с напускной веселостью, надеясь расположить монахов к себе.
– Здравствуйте, товарищ… – ответил за всех тот, что резал хлеб. – Может, с нами щец? – осторожно поинтересовался он, видимо, старший в этой компании, наклонив голову со светлыми спутанными волосами. Предложил не в силу особого хлебосольства, а как практик, имеющий горький опыт: не предложи он, кто знает, может, гость ведро перевернет ударом сапога, как это не раз бывало.
– Благодарствую, – отказался Буланов. – Я не голоден… Кроме того, у меня от варева из кислой капусты – бурление в желудке… – пояснил он, желая непритязательной манерой общения расположить монахов к себе, чего, следует сказать, добился: лица сидевших у костерка помягчали. – Вы ешьте, ешьте, – сказал он. – Я и так спрошу, что мне надо…
«Старший» бросил взгляд на кипящее в ведре варево и, проглотив слюну, опять ответил за всех:
– Как можно. Мы уж потом…
– Думаю, вам известно, что монастырское кладбище переносится… – заговорил Буланов, стараясь в интонации не давать оценки происходящему. – Причины вам тоже известны…
Монахи ответили молчаливым сопением, в котором Буланов уловил осуждение тому, что происходило на территории монастыря. А как еще они могли воспринимать перемены?
– Решено перенести и могилу Гоголя, – продолжал он. – И будет она теперь в Новодевичьем монастыре… Но тут вот какая неприятная история: когда вскрыли могилу, выяснилось, что у Гоголя нет черепа… Вам известно об этом? Как такое могло произойти?
Монахи молчали. Молчал и Буланов, поглядывая на них с высоты своего роста.
Наконец один из них, с лицом стоика, горбоносый, с черными горящими глазами, сказал, взглянув на Буланова:
– Переносить кладбище – грех! – Монах перекрестился. – Видимо, Господь не способствует в этом деле… Не отдает то, что должно остаться в нашей земле…
– Граждане монахи! – Буланов был готов к таким разговорам. – Не надо мне про Господа. Оставьте вашу мифологию для старушек. Я не агитировать вас пришел, и вы меня не агитируйте! Я хочу узнать, что же произошло и почему в гробу писателя не оказалось черепа? Может, кто-то в былые времена копался в могиле?
– Это ваших людей надо спрашивать, – сказал монах с лицом стоика, – они тут хозяйничают… Ломают все, что создавалось веками…
Монах явно нарывался на неприятности. Но Буланов был из породы терпеливых, кроме того, не он занимался превращением монастыря в колонию для малолетних преступников. Будь его воля, он не стал бы трогать этих людей, которые жили здесь долгие годы.
Понимая, что разговор идет не по тому руслу, Буланов оглянулся на провожатого:
– Товарищ Пестунов, вы свободны.
Пестунов хмуро оглядел монахов и удалился.
– Никогда прежде храмы не рушили, разве что при басурманах в древние века, – продолжал строптивый монах. – Это бесовщина, поругание русской земли…
– Это не ко мне, – сухо отозвался Буланов. – Русские люди сами захотели перемен, и это они, а не заезжие иностранцы меняют облик своей страны!
– Русский человек впал в ересь! И не ведает, что творит…
– Мужики! – сказал Буланов, оглянувшись на ушедшего Пестунова. – Давайте без тумана!.. Мне надо узнать, когда был похищен череп. Хотелось бы понять: что это? Случайность или вражий умысел? Вот вы… сколько лет в монастыре живете?
Монахи переглянулись. Буланов, в отличие от всякого рода партийцев, появлявшихся в монастыре, не рубил сплеча, не матерился, обращаясь к ним, как это делали другие, и тем самым вызывал доверие.
– Я и отец Даниил здесь с десятого года, – ответил монах с реденькой бородкой, кивнув на сидящего рядом товарища.
– Я пришел после пострига в двенадцатом годе, – сообщил монах с лицом стоика. Потом задумался на мгновение, проверяя свою память, и подтвердил: – Да, да, в двенадцатом…
– Я живу в сей благословенной обители с девятого года, – сказал «старший».
– У каждого срок немалый… – констатировал Буланов. – Почитай, двадцать лет как вы здесь… Значит, всё, что было за эти годы, вам известно… Пошевелите памятью!
Налетевший ветерок завернул в другую сторону пламя костерка и пар над кипящим варевом, ударив в ноздри «старшего» ароматным запахом щей. Тот опять сглотнул слюну.
– В девятом годе проводились работы по реставрации могилы Гоголя, – припомнил он. – Может, тогда что и было… Я, правда, мало что помню, потому как был в отъезде, а потом сильно болел, застудив легкие…
– Интересный факт! – возбудился Буланов. – Может, еще кто что вспомнит.
– Вам бы с отцом Паисием поговорить, он про это знает. Отец Паисий – старейший в нашей обители…
Буланов оглядел монахов.
– И где же он, Паисий?
– Ушел, – ответил «старший». – Не смог смотреть на то, что здесь делается… К родне в город перебрался… К племяннику.
– А адрес? Адрес есть?
Лена Нарбут все же сбежала из дома (не могла же мать вечно держать ее на привязи!) и пришла жить к Буланову, в коммунальную квартиру, в двенадцатиметровую комнату. Буланов любил девушку, но столь быстрое развитие событий, в результате чего Лена оказалась в его холостяцком жилище, застало его врасплох. Они не были с Леной расписаны, а сожительствовать с девушкой без законных оснований не входило в его планы. Но факт есть факт.
Лена быстро освоилась на новом месте. В первый же вечер с независимым видом появилась на общей кухне и, расположившись у булановского стола, где стояли керосинка, две пыльные кастрюли и под ними сковородка, стала жарить картошку.
У соседнего стола крутилась дородная баба лет пятидесяти, с рябым лицом, одетая в сатиновую блузку, и мешала половником варево в большой кастрюле, стоявшей на керогазе. Над ее столом тянулась бельевая веревка, на которой сохли после стирки женский лифчик и две мужские майки.
– Добрый вечер! – поздоровалась Лена. – Меня зовут Лена, – представилась она.
Баба угрюмо взглянула на нее и отвернулась к своей кастрюле.
Когда картошка на сковородке у Лены покрылась аппетитной корочкой и пора было ее уносить, случилось неожиданное. Баба, страдающая от духоты, неудачно отмахнулась половником от назойливой мухи, жужжавшей возле ее потного лба, и зацепила бельевую веревку. Одна из маек, висевшая на ней, слетела вниз и погрузилась в булькавшее в кастрюле варево. Баба исторгла поток матерной брани, а Лена, подхватив сковородку, поспешила удалиться, дабы не рассмеяться неудачнице в лицо.
– Ты представляешь, – сказала она Буланову, что-то писавшему в тетради, поставив сковородку в центр стола, – эта твоя соседка… Ну, здоровая такая… – Лена показала руками ее формы.
Буланов, погруженный в свои мысли, туманно взглянул на нее:
– Извини, ты о чем?
– О соседке твоей… крупная такая женщина…
– Ты об Авдотье Поликарповне? Та еще фигура! Под горячую руку ей лучше не попадаться: раздавит, как клопа!
– У нее над столом сохнет белье. Так вот, она махнула половником, отгоняя муху, и майка, висевшая на веревке, упала в кастрюлю с супом.
– Смешно… – посмеялся Буланов, откладывая в сторону тетрадь. И, ткнув раз-другой картошку вилкой, сказал: – Завтра я рано уйду…
– Опять на целый день, – огорчилась Лена. – А можно мне с тобой?
– Зачем? Готовься лучше к экзаменам… У меня серьезное дело, а не гулянки! Надо найти одного бывшего монаха.
– Я не буду мешать… Позволь мне находиться рядом. – Лена присела на пол возле его стула, коснулась колена Буланова. – Ну? Возьми меня с собой…
6
Монах Паисий, в миру Лев Иванович Вязов, человек, которому давно перевалило за шестьдесят, жил в Скатертном переулке, в семье своего племянника Григория, занимавшей две комнаты в многонаселенной квартире и любезно приютившей старика. Сорокалетний Григорий был столяром-краснодеревщиком и работал на мебельной фабрике. Фабрика эта имела богатую историю. Когда-то там делали мебельные гарнитуры для состоятельных господ, любивших пожить на широкую ногу, теперь же изготовляли простую мебель для советских учреждений – в основном это были письменные столы и так называемые «венские стулья», с гнутыми спинками, на тонких ножках, рассчитанные не на толстозадых почитателей музыки Штрауса, проживающих в Вене, а на тощие зады совслужащих.
Комнаты, в которых ютилась семья Григория, состоявшая из пяти человек (самого Григория, его жены и троих детей подросткового возраста), были смежными, и старику определили закуток по правую руку от входа, где стоял старый кованый сундук, в котором содержалось скромное семейное барахлишко – вот на нем-то и обустроился монах. Он был неприхотлив, не имел никаких просьб. Только повесил в уголке иконку и зажег перед ней лампадку, прикрепить которую помог племянник. Григорий сам был из верующих, но в силу новых нравов, царивших вокруг, скрывал свои религиозные убеждения от окружающих, и только старик да жена Григория были в курсе дела. Дети, ходившие в школу, где их на современный лад учили, что религия – тормоз для всего прогрессивного человечества, и не желавшие отставать от прогресса, отнеслись к появлению иконки в их доме с образом Спасителя без энтузиазма. Старший Колька даже как-то попытался снять этот символ невежества, но, получив оплеуху от отца, успокоился, после чего все трое отпрысков стали делать вид, что не замечают иконки и горящего перед ней огонька.
Паисий, за годы правления новой власти навидавшийся всякого, хоть и был человеком мужественным, старался жить тихо. Большей частью молился у себя в уголке или предавался скорбным думам, сидя на сундуке. Часто ходил на службу в ближайший, еще не оскверненный, храм.
Когда Буланов в сопровождении Лены, увязавшейся за ним, появился в доме Григория, где нашел приют старый монах, тот сидел на своем сундуке, погруженный в думы. Облысевшая голова его была слегка откинута назад, словно он что-то разглядывал на противоположной стене.
Жена Григория, Таисия, бывшая в этот день дома и открывшая посетителям дверь, провела их к Паисию. И пока те оглядывались, стояла поодаль, обеспокоенная, что пришедшие интересуются стариком. В этом, по ее мнению, не было ничего хорошего. Детей, по счастью, дома не было – они находились в школе.
Буланов, помня, какое действие на монахов в Даниловом произвела его форменная одежда и как те осторожничали в разговоре, опасаясь его, оделся на этот раз в штатское. Осмотревшись, он обратился к старику.
– Вы – Лев Иванович Вязов?
– Он, он! – подтвердила Таисия.
Старик глянул на гостя умными глазами:
– Можно и так величать, коли угодно… – сказал он.
– У меня к вам разговор, – заговорил Буланов. И, когда Паисий попытался встать с сундука, удержал его жестом: – Сидите, сидите…
Таисия принесла из второй комнаты два стула – конечно же, венских – и предложила гостям сесть.
Прежде чем сесть, Буланов сказал ей:
– Нам бы хотелось поговорить без свидетелей…
Таисия понимающе кивнула и ушла в другую комнату.
– Моя фамилия Буланов, я сотрудник ОГПУ, – представился Буланов, когда они остались втроем. И, кивнув на Лену, сидевшую у него за спиной, добавил: – А это моя помощница – товарищ Нарбут…
Паисий никак не отреагировал на сказанное, сидел и ждал, что последует за этим.
– Как вам известно, Данилов монастырь, где вы состояли в монахах… – Буланов так и сказал «состояли в монахах», – упраздняется. Там теперь будет детприемник…
Паисий, перекрестившись, скорбно засопел, оставив и на этот раз услышанное без комментариев. В своих частых размышлениях о случившемся после семнадцатого года он не раз обращался мыслью к тому, что Россия оказалась втянутой в бесовский круг, и с этим ничего нельзя было поделать, оставалось только молиться, уповая на Бога.
– Могилы известных лиц, находящиеся на территории монастыря, будут перенесены на Новодевичье кладбище… Но вот какая штука… – здесь Буланов несколько замялся: информация, которую он собирался сообщить Паисию, являлась в некотором роде секретной, одно дело – монахи, живущие по месту действия, и которым известно всё, иное дело – старик, живущий отныне в среде болтливых обывателей, способных истолковать случившееся самым нежелательным образом; но, с другой стороны, не поставив Паисия в курс дела, трудно было получить от него какие-либо сведения. – Это только между нами, – продолжал Буланов. – Строго секретно…
И опять лицо Паисия, на котором светились умные глаза, не отразило ничего. «Может, он туговат на ухо?» – подумал вдруг Буланов и спросил громко, желая проверить свое предположение:
– Вы меня слышите?
Старик кивнул.
– Так вот… Недавно вскрыли могилу Гоголя, и обнаружилось, что в гробу нет черепа…
Паисий вновь перекрестился.
– Я был при вскрытии могилы, – пояснил Буланов, чтобы у старика не осталось сомнений в правдивости его слов, – и сам это видел… Вы, товарищ Вязов, один из старейших монахов этого монастыря, из ныне живущих… При вас в тысяча девятьсот девятом году проводилась реставрация гоголевской могилы… Может, вам что-либо известно по этому поводу?
Паисий задумался: отвечать ли на заданный вопрос или отказаться, сославшись на слабость памяти? Мужчина, сидевший перед ним, был вежлив, обходителен и не походил на большинство нынешних начальников, ретиво боровшихся с наследием царской России, в том числе и с православием. Да и девушка, сидевшая у него за спиной, производила хорошее впечатление. И старик решил рассказать всё, что помнил, хотя и считал разорение кладбища кощунством. Мало того, что власть разорила обитель, в которой прошла большая часть его жизни, отчего болела душа, теперь по ее приказу уничтожали кладбище, где покоились его братья по монастырю и монахи, жившие до них.
– Да, тяжело всё это… – закряхтел Паисий.
Буланов понял, о чем он, и деликатно промолчал.
– Да, в девятом году могилу Гоголя приводили в порядок, – продолжал старик, обратившись мыслями в прошлое. – И делалось это к столетию со дня рождения писателя. Одновременно с этим на Пречистенском бульваре в городе открыли ему памятник. Многие люди приезжали в тот год на могилу писателя… посмотреть…
– А вы не помните, что конкретно было сделано?..
– Укрепили могильный холм… Надгробную плиту привели в порядок… Да много чего…
– А сам склеп… в земле, не трогали? Может, кто тогда и вскрыл его с дурными намерениями?..
– На дурное нынешние больше горазды, – сказал скорбно Паисий, и глаза его гневно блеснули. Не выдержал все-таки старик.
– Мне поручено расследовать это дело… – сообщил Буланов, пропустив мимо ушей замечание Паисия. – Неловко как-то производить перезахоронение, если отсутствует череп писателя…
Паисий молчал. Буланов чувствовал, старику еще что-то известно, но тот не хочет говорить.
– Лев Иванович, помогите нам! – вмешалась в разговор Лена. – Паша… то есть товарищ Буланов, – поправилась она, – хочет только одного: вернуть утраченное.
Буланов недовольно взглянул на Лену: не надо мне помогать!
Паисий перехватил этот взгляд и, будучи человеком мудрым, понял, что Буланова и его спутницу связывают не только деловые отношения.
Из второй комнаты выглянула Таисия:
– Дед, что ты молчишь? Расскажи товарищам, что знаешь…
То ли сам Паисий решился, то ли на него подействовали слова жены племянника, с которой он был в ладу, но старик заговорил:
– В том году, когда поправляли могилу, приезжал к нам в монастырь один барин… Фамилию не помню – то ли Пахрушин, то ли Баклушин… собиратель редкостей… И вроде бы этот барин подговорил одного из рабочих, занятых обустройством могилы, достать для него оттуда череп Гоголя… Уж не знаю, как там было на самом деле, но одного мужика погнали с работ… Этого потребовал отец Иоанн, бывший тогда настоятелем…
Буланов и Лена переглянулись: это была ниточка. Особенно радовалась этому Лена: чем быстрее Буланов распутает данное дело, тем больше станет уделять времени ей…
Ефим Степанович Бодало, вызванный к «высокому начальству», докладывал, как продвигаются поиски черепа.
– Значит, Кузьма Кириллов, возможный похититель черепа, умер? – спросило «высокое начальство», бритое, тучное, заложив пальцы, по-сталински, между пуговиц за борт светлого френча.
– Так точно! – вытянувшись по швам, ответил Бодало.
– А тот… второй?
– Бахрушин? Тоже… В двадцать девятом году.
– Эмигрант?
– Нет, жил у нас. Собиратель театральных реликвий. Завещал после смерти свою коллекцию государству. Так оно и произошло.
«Высокое начальство» прошлось в задумчивости по кабинету, потерло рукой с короткими пальцами холеный подбородок.
– Нехорошо, – изрекло оно.
– Что не хорошо? – не понял Бодало. – Это вы насчет его коллекции? Коллекция обстоятельная… театральная жизнь в лицах, можно сказать…
– Коллекция, черт с ней! Пусть пользуются, кому интересно… Нехорошо, что помер – привлечь к ответственности некого! А виновные должны быть наказаны, особенно те, кто подрывают авторитет нашей власти! И Кириллова, и этого…
– Бахрушина, – подсказал Бодало.
– … вот-вот, следовало бы посадить!
«Высокое начальство» погладило свою бритую, полную забот о благе народном голову, соображая, как быть.
Бодало, ловивший каждое слово сановника, шевельнул усами и рискнул высказать возникшую у него мысль:
– Может быть, следует найти… других виновных?
– Интересное соображение, – оживилось «высокое начальство». – Что ты предлагаешь, Ефим Степанович? Не брать же кого-либо с улицы…
– Не надо с улицы. Есть монахи, несколько человек, которые живут в Даниловом монастыре и не хотят уходить оттуда… Еще один проживает в городе – у родственников. Все они, если не соучастники, то, по крайней мере, были свидетелями того давнего события, так как жили в ту пору в монастыре… Вот их и следует посадить. Ведь это опухоль на теле социализма!
– Верно мыслишь! Монахов следует арестовать! – согласилось «высокое начальство», порадовавшись тому, что теперь оно сможет доложить о принятых мерах генсеку, до которого дошла вся эта история с исчезнувшей головой и который велел принять меры. – Займись этим, Ефим Степанович! – Остановившись у большого окна, выходившего на площадь, «высокое начальство» посмотрело на людскую круговерть, шумевшую внизу, на трамваи, катившие с перезвоном в разных направлениях, и испытало прилив сил, ощутив лишний раз свою важность и нужность в государственной машине. Но оставалась еще одна забота: исчезнувший череп. – А как же быть с черепом? Наши недруги на Западе слюной изойдут: Советы перезахоронили Гоголя без головы!
Бодало шевельнул своими моржовыми усами – и на этот счет у него были мысли.
– Череп найдем! – заявил он уверенно. – Наш сотрудник Буланов идет по следу… Не человек – ищейка!
– А если не найдете?
– Захороним останки с чужим черепом… Приложим такой, какому бы сам Гоголь позавидовал, увидь он его! И сделаем так, что никто не догадается о подмене…
7
Буланов обнял Лену. Их поцелуй длился долго. Потом Лена разделась… За окном была ночь, в небе светила яркая луна.
В то же самое время на территорию Данилова монастыря въехал грузовик.
Он остановился у флигеля, где находились монашеские кельи. Пятеро сотрудников ОГПУ в штатском вылезли из кузова и направились внутрь здания…
Пока влюбленные, раздевшись, сжимали друг друга в объятиях, трепеща от приближения того, главного момента, когда два тела должны соединиться и стать единым целым, монахов вывели во двор и приказали лезть в кузов.
Побросав прежде в кузов свои узелки, которые им разрешили взять, монахи, не имевшие опыта в подобном деле, долго и неуклюже забирались на платформу кузова, долго размещались на дощатом полу, озадаченные происходящим, но спокойные и готовые ко всему.
Сотрудники ОГПУ молчаливо наблюдали за тем, как монахи устраиваются в кузове, не помогая арестованным, но и не подгоняя их.
Когда монахи расселись, огэпэушники последовали за ними. Щелкнули боковые запоры кузова, и машина выехала со двора…
Буланов и Лена сжимали друг друга в объятиях, забыв обо всем на свете, не слыша ни музыки патефона, доносившейся из-за стены слева, ни тупого треньканья балалайки, звучавшей справа, ни громких голосов мужчины и женщины, скандалящих между собой еще дальше с правой стороны, видимо, в районе кухни. Лене казалось, что она плывет в потоке чего-то прекрасного, а потолок и пол в комнате меняются местами – то над головою пол, то опять потолок…
Пока влюбленные наслаждались тем, что даровано человеку природой, к дому, где теперь жил Паисий, подъехала черная легковая машина с крытым верхом. Из нее вышли двое в штатском и вошли в подъезд.
Паисий в эти минуты, предаваясь размышлениям на сон грядущий, сидел одетый на своем сундуке, словно предчувствовал, что за ним придут.
Увидев двух незнакомых мужчин, явившихся в дом, старик всё понял. Он послушно снялся с сундука, собрал свои нехитрые пожитки, завернул их в узел. Таисия успела сунуть туда кусок мыла и полбуханки черного хлеба, а Григорий пачку папирос – Паисий не курил, но папиросы всегда можно обменять на еду.
Паисия усадили на заднее сиденье машины, мужчины в штатском уселись по бокам, и машина неспешно выехала со двора на улицу…
Буланов, у которого до встречи с Леной давно не было женщины, и Лена, для которой Буланов был первым мужчиной, не могли оторваться друг от друга, точно в жизни это была их последняя встреча. «Что это со мной? – думал Буланов, лаская девушку. – Ребята (имелись в виду товарищи по работе) скажут: Пашка обуржуазился, связался с дочкой профессора!.. Ну и пусть говорят, я ее никому не отдам…»
Паисия привезли в Бутырку. Надзиратель довел его до камеры. Открыл ключом дверь и втолкнул старика внутрь.
После унылого пустого коридора, с фигурой неподвижного дежурного в конце, с холодным светом электрических ламп, который только подчеркивал бесприютность помещения, на Паисия дохнуло спертым духом множества немытых человеческих тел, и он едва не потерял сознание от увиденной картины.
А увидел он вот что: длинное продолговатое помещение камеры было густо забито людьми – люди по двое лежали на нарах, устроенных в два этажа, теснились по обе стороны прохода, расположившись на полу; их здесь было, как сельдей в бочке. Кто-то стонал во сне, кто-то надсадно кашлял, кто-то, не стесняясь, выпускал газы.
Воздуха не хватало, и Паисий быстро взмок, словно оказался в парной, и, наверное, повалился бы вниз, если бы его не подхватили чьи-то крепкие руки и помогли устроиться на свободном пятачке на полу.
Придя в себя, старик взглянул в лицо того, кто ему оказал помощь, и узнал своего товарища по монастырю – брата Даниила…
Буланов и Лена, обессиленные и умиротворенные, лежали на кровати, в изножье которой было открытое окно, полное ночных звезд, и легкий ветерок обдувал их тела.
– Смотри, какие звезды, – тихо сказала Лена. И, положив голову Буланову на плечо, добавила со счастливой улыбкой: – Паша, у меня такое чувство, что этой ночью всем хорошо, как нам…
8
– Помнится мне, из рассказов деда… что наша прабабушка была не только дальней родственницей Бахрушина, но некоторое время помогала ему в его занятиях, – рассказывала Клавдия.
Она сидела на стуле со сломанной спинкой у открытого окна чердачного помещения дачи. За окном был виден дачный поселок и густой лиственный лес по краю его.
– Бахрушин ей доверял, – продолжала Клавдия, – и, видимо, поэтому передал на хранение некоторые вещи и этот самый саквояж… Он надеялся, что у прабабушки эти вещи будут сохраннее…
Полутанцев вместе с Непрядиным, засучив рукава, уже долгое время перекладывали с места на место старые вещи: покрытые пылью чемоданы, коробки, корзины, связки книг и журналов, которыми был забит чердак, – искали саквояж, но саквояжа не было.
Клавдия попросила сигарету. Потный Полутанцев прервался, протянул ей пачку, дал прикурить от зажигалки.
По тому, как Клавдия курила, не затягиваясь и стараясь поскорее выпустить дым изо рта, было ясно, что она не относится к числу курящих, а за сигарету взялась просто так, чтобы походить на современных девиц, независимых и знающих себе цену.
– А был ли этот саквояж? Был ли мальчик? – присел на ящик уставший Непрядин.
– Был, был, – убежденно заявила Клавдия.
По деревянной лестнице на чердак поднялся сухощавый старик. На нем были тренировочные штаны с пузырями на коленях и мятый пиджак, из-под которого выглядывала тельняшка. Его короткие седые волосы стояли дыбом.
– Здравия желаю! – воскликнул он, вытянувшись по-военному. – Дозвольте поинтересоваться!
– Дозволяю, – разрешил Полутанцев, разглядывая старика, который взялся неизвестно откуда.
– Чего вы тут ищете?
Полутанцев взглянул на Клавдию:
– Это кто?
– Митрофан Иванович. Наш родственник, – объяснила та. – Бывший подводник. Живет здесь с женою. Заодно приглядывает за дачей.
– И где ж ты был, Митрофан Иванович, когда мы приехали, если тебе поручено приглядывать за дачей?
– Мы с Анной по грибы ходили, – сообщил старик и попытался пригладить свои стоящие торчком волосы.
Полутанцев строго взглянул на него.
– Нельзя оставлять свой пост, отец!.. А ищем мы одну важную вещь, – объяснил он, вытирая концом своей рубашки потное лицо. – Докторский саквояж. С буквой «Б» на боку.
– С какой целью вы ищете этот саквояж?
– Очень ты любопытный, отец! В саквояже находится кое-что, крайне нужное для отечественной науки…
– Клавушка! – старик виновато всхлипнул и опять попытался пригладить торчащие волосы. – Прости меня, старика!
– Что такое? – удивилась та.
– Видишь ли… Я этот саквояжик на толкучке продал… Спросил как-то у Софьи: могу ли я взять его, а она махнула рукой – дескать, бери, он нам без надобности. Ну я и продал. Вещь-то хорошая, крепкая, из кожи, которой износу нет.
– Как продал?! – У Полутанцева подкосились ноги.
– Так, продал… – потупился Митрофан Иванович. – Еще в девяносто шестом… Пенсии на жизнь не хватало, деньги были нужны…
– Что же ты, старый хрыч! – Полутанцев схватил старика за грудки и почувствовал, что ему не хватает дыхания от ярости.
– Не тронь боевого подводника! – оскорбился тот. – Я за таких, как ты, кровь проливал!
Полутанцев отпустил его.
– И то, что в саквояже было, тоже продал?
Митрофан Иванович пожал плечами.
– А там ничего не было…
– Ничего?
– Ценного ничего… Череп какой-то был неизвестного происхождения… Я подумал, может, это череп неопознанного солдата, найденный на месте боев по соседству в лесу?
– И где этот череп? Надеюсь, ты не закопал его в землю?
– Как можно! Не имею на то права без разрешения сестер.
– Слава Богу! – перевел дух Полутанцев.
Митрофан Иванович поискал вокруг глазами.
– Я его в корзинку положил, туда, где боевой реквизит отца Сони и Клавдии…
Не без труда, среди груды вещей, старый подводник нашел нужную корзину.
Вынул тряпье, лежавшее сверху, и глазам Полутанцева открылось то, что находилось под ним: офицерские погоны, ордена, пуговицы от кителя и широкий ремень со звездой на пряжке; тут же был череп темно-песочного цвета, неплохо сохранившийся. Обычный череп. Ничего особенного. Но при виде его Полутанцев испытал сильное волнение. «Неужели тот самый? – подумал он и печально вздохнул: – Ах, Николай Васильевич!..»
Несколько мгновений он любовался находкой, долженствующей улучшить его материальное положение. Потом взял череп в руки, предварительно сдвинув в сторону военный реквизит.
– Красивая штука! – воскликнул он, показывая череп Клавдии и Непрядину. Затем повернулся к Митрофану Ивановичу: – Спасибо, отец, что в землю не закопал!
– Чей же это такой, ежели ты все регалии боевой славы в сторону отбросил?
Полутанцев загадочно ухмыльнулся.
– Это, отец, череп неандертальца. Слышал о таких?
– У-у-у… – разочарованно протянул старик. – Я-то думал, неизвестный солдат прошедшей войны…
– Напрасно ты так. Череп этот – нужная для науки вещь! Думаю, нашли его в степи, возле какого-нибудь Мухосранска, где он пролежал в земле не одну тысячу лет!
– Не похоже, что столько лежал… На вид он вполне свежий.
– Почва там была подходящая, – объяснил Полутанцев. – По этому случаю можно и выпить! – воскликнул он, возбужденно оглядывая присутствующих. – Надо отметить находку, важную для науки! Где тут у вас магазин?
– Магазин? Это мы мигом, – оживился Митрофан Иванович, – это в двух шагах!
– Дядя Митрофан! – укоризненно взглянула на него Клавдия. – Тебе пить нельзя!
– А мы никому об этом не скажем, – успокоил ее старик.
Ночью в комнату, где устроились оставшиеся ночевать на даче мужчины, неслышно вошла Клавдия.
Непрядин, намаявшись за день, крепко спал. Полутанцев не мог уснуть, обуреваемый мечтами. Череп, завернутый в старую ковбойку, лежал в корзине по соседству.
Клавдия присела возле Полутанцева.
– Ты чего? – зашевелился тот. Появление двоюродной сестры с неизвестными намерениями озадачило его.
– Вот… к тебе пришла… – прошептала Клавдия.
– Зачем? – испугался Полутанцев. И сообразив, наконец, что Клавдии нужно, возмущенно зашипел: – Как ты можешь! Ведь мы же родственники – кузен и кузина!
– Ну и что! – женщина обиженно поджала губы.
– Как что! Нельзя родне этим заниматься! Грех!
– Ну вот, – вздохнула Клавдия, – десять лет назад можно было, а теперь нельзя… Помнишь, как мы закрылись в ванной?
– В какой еще «ванной»?! – подался в сторону Полутанцев. – Сестренка, ты чего-то напутала…
– Ничего я не напутала, – жарко шептала Клавдия. – Я тот день хорошо помню…
– В ванной? Быть этого не может!
Полутанцев поднялся с кушетки и, приобняв Клавдию за плечи, проводил ее до двери.
– Иди, спи… День был тяжелый…
Некоторое время спустя в дачном доме все спали. И намечтавшийся вдоволь Полутанцев, и разочарованная Клавдия, принявшая снотворное, и боевой в прошлом подводник Митрофан Иванович Нырялов, лежавший спиной к своей дородной жене, бывшей черноокой красавице из-под Полтавы, ныне похожей на откормленную толкательницу ядра.
Спал весь дачный поселок. Спали собаки во дворах, призванные охранять покой своих хозяев.
Не спал в эти часы лишь один человек. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, в старых «Жигулях», стоявших на обочине дороги, метрах в пятидесяти от дачи сестер, и наблюдал – не выйдет ли кто оттуда. Но за пределы дачи никто не выходил.
Чтобы не уснуть, человек, наблюдавший за дачей, достал из сумки термос с крепким кофе, налил в пластмассовую чашку. Выпил. И продолжил свое утомительное дело.
Полутанцев поднялся рано утром, вслед за ним встали и остальные. Полутанцеву не терпелось добраться до города и сообщить Рыкалову о находке.
Когда Полутанцев пристраивал корзину с черепом в багажник, стараясь закрепить ее надежно, из леса пришел Митрофан Иванович, ушедший часом ранее за грибами. И принес полведра лисичек, среди которых лежали штук пять подберезовиков.
– Возьми на жарево, – сказал он Клавдии.
А та всё никак не могла проснуться – так на нее подействовало снотворное. Постояла на свежем воздухе несколько минут, пытаясь открыть глаза. И полезла в машину на заднее сиденье, где погрузилась в сон.
Митрофан Иванович отдал грибы Полутанцеву.
Полутанцев повертел ведро в руках, не зная, куда высыпать грибы, и вывалил их на рубашку, прикрывавшую череп в корзине – те полностью покрыли весь верх, создавая иллюзию, что корзина полна грибов. Рядом он пристроил старый кожаный кофр, где хранились дамские шляпки, который Клавдия решила взять с собой.
Вскоре машина выехала на проселочную дорогу и покатила в сторону шоссе, путь к которому лежал через небольшой лесок.
Уже заехав основательно в лесок, Непрядин и Полутанцев увидели впереди на узкой дороге автомобиль «Жигули».
Подняв крышку капота, в моторе копался водитель – худощавый человек в спортивной шапочке, надвинутой на лоб, и больших мотоциклетных очках, закрывающих пол-лица.
Обездвиженный автомобиль почти полностью перегородил проезжую часть, и объехать его стороной не было никакой возможности.
Непрядин был вынужден остановиться. Вместе с Полутанцевым они вылезли из машины и направились к «Жигулям» с намерением помочь водителю.
– Слышь, друг, какие проблемы? – поинтересовался Непрядин. – Помощь не нужна?
Водитель «Жигулей» промычал что-то маловразумительное.
Как только приятели приблизились к нему, тот неожиданно повернулся, поднял руку с газовым пистолетом, который держал наготове, и выстрелил Полутанцеву прямо в лицо. Ядовитое газовое облако ударило в глаза и нос, и Полутанцев потерял сознание. В следующее мгновение злоумышленник выстрелил в лицо Непрядину, и тот завалился на землю рядом с приятелем. Последнее, что зафиксировала память Полутанцева перед тем, как он отключился, были старые табачного цвета полуботинки на ногах стрелявшего.
Мономахов – а это был он – метнулся к «Ниве». Заглянул в салон, поискал глазами, но ничего, кроме спящей Клавдии, там не обнаружил. Клавдии снилось что-то хорошее, и она улыбалась во сне.
Мономахов вынул ключи из зажигания, открыл багажник. Внимание его привлек кожаный кофр, перевязанный несколько раз бельевой веревкой. Корзинка с грибами, стоявшая рядом, его не интересовала.
Мономахов схватил кофр, сел в свою машину, дал задний ход. Там, где дорога стала пошире, развернулся и поехал к шоссе.
Уже выехав на шоссе, он остановился на обочине, вылез из машины. Обтер влажной тряпкой забрызганные грязью номера, чтобы читались. Сел снова за руль и, влившись в поток машин, умчался.
Когда приятели пришли в себя, Полутанцев первым делом бросился к открытому багажнику. Корзина с грибами была на месте, а вот кофр исчез. Клавдия всё еще спала.
Не сговариваясь, приятели проверили карманы: документы и деньги были на месте.
– Откуда взялась эта сволочь? – негодовал Полутанцев, оглядываясь по сторонам. – Он как будто специально поджидал нас, гад! – И набросился с обвинениями на Непрядина: – А ты куда смотрел, хрен моржовый?
– Я-то здесь при чем? – растерялся тот. – Его машина так стояла на дороге, что объехать ее было невозможно… Я и пошел, чтобы помочь ему и освободить нам путь. А вот ты какого черта поперся за мной? Сидел бы в машине. Всё равно в технике ни бум-бум!
– Ты пойми! – не мог успокоиться Полутанцев. – Мы чуть было не лишились черепа! Штрафую тебя на пять процентов!
– Ну вот! В таком случае, оштрафуй себя на десять.
От громких слов ссорящихся проснулась Клавдия.
– А? Что случилось? Мы где?
– И ты тоже хороша! – отругал ее Полутанцев. – Дрыхнешь, и хоть бы что! Изнасилуют – не заметишь! – И добавил язвительно: – Твой кофр сперли, голубушка моя!
– Как?
– А вот так!
– Кто спер?
– Сам бы хотел знать. Лесной разбойник! Робин Гуд!
– Ну и черт с ним, с кофром… – улыбнулась Клавдия. – Главное – все живы.
Приехав на квартиру матери, Полутанцев первым делом позвонил на мобильник Рыкалову. Трубку сняла секретарша и пообещала Полутанцеву доложить о его звонке шефу.
Матери дома не было – она дежурила в больнице. Федор, младший брат, спал у себя в комнате. Федор был поздний и любимый ребенок – мать родила его в тридцать восемь. Полутанцеву в тот год исполнилось семнадцать, и он уже был вполне самостоятельным и не страдал из-за того, что ему стали меньше уделять внимания. Отец Полутанцева через год после рождения Федора ушел к другой, молодой жизнерадостной блондинке. И прекратил всякое общение с прежней семьей. Этому в немалой степени способствовала сама мать, не желавшая его видеть и запретившая детям встречаться с ним. Но алименты, надо признать, отец платил исправно.
Полутанцев принес корзину на кухню. Расстелил на столе старую газету, вывалил на нее грибы.
В дверь заглянул заспанный Федор, привлеченный шумом на кухне. Увидел брата, горку грибов на столе.
– О, здорово! Грибочки принес? Пошамаем!
– Ша́май! – барственно разрешил Полутанцев. – Только не забудь сперва почистить их и пожарить.
– Это пусть мать упражняется, когда придет с дежурства, – Федор потянулся, расправляя плечи. И тут увидел в корзине, стоявшей рядом, выглядывавший из-под рубашки череп. – А это что еще за триллер? – поморщился он. – Чей котелок?
Скрывать от брата правду Полутанцев не стал.
– Ты не поверишь, – сообщил он с гордостью, – это – череп Гоголя!
– Кого?
– Гоголя. Писателя.
– Того самого?
– Того самого.
– Да брось! Не может быть, – не поверил Федор. – Череп Гоголя, как и прочие его части, насколько мне известно, покоятся на Новодевичьем кладбище. Мы, помню, с классом на экскурсию ходили к его могиле…
– А вот и нет, – победно заметил Полутанцев, – на кладбище покоятся «прочие части», а череп – вот он, красавец!
– И откуда он у тебя? Из могилы, что ли, вырыл?
– Не пори чушь! Я могилы не оскверняю, дурак! Просто так вышло… В тридцать первом году могилу Гоголя, захороненного поначалу на кладбище Данилова монастыря, переносили на Новодевичье и тогда обнаружили, что в гробу отсутствует его череп…
– Ни хрена себе! – изумился Федор. – Как такое могло быть?
– Сам бы хотел знать…
Федор задумался.
– Ну, и зачем тебе этот череп? – Он испытывал смешанные чувства (трепет и брезгливость одновременно) – при виде черепа, который был когда-то частью гения литературы, а теперь лежал в какой-то дурацкой корзинке наподобие высохшей тыквы. У Федора это не укладывалось в голове. – На черта он тебе?
– Не твоего ума дело, – строго заметил Полутанцев. Но потом пояснил: – Один человек обещал мне за него двадцать тысяч баксов!
– За эту кость? Одуреть можно! – удивился Федор. – От таких бабок в башке зашкаливает… Но как-то мерзко торговать классиком.
– Дурак! – обиделся Полутанцев. – Мне жилье нужно. Хотя бы комната в коммуналке… Не могу же я здесь с вами жопами толкаться! Еще немного, и ты жену приведешь. Где мне тогда прикажешь жить? В подъезде? Или за кулисами в театре?
– Хата, конечно, нужна… – согласился с братом Федор. – Но торговать черепом классика… нехорошо! – Федор некоторое время смотрел на череп и вдруг предложил: – Вась! А давай захороним его там, где ему место… в Гоголевской могиле.
– Пошел к черту, кретин! Люблю я вас, гуманистов за чужой счет! А бабки для покупки хаты ты мне дашь? Опять же, этот череп не первый и не последний… Сколько их, не зарытых, в музеях на полках пылится! А мощи святых? Они ведь тоже не в земле лежат… К тому же, как говорится, тело человеческое – труха, а вот душа – конечно, бессмертна. Но с душой у Николая Васильевича, я думаю, всё в порядке…
Вернувшись из поездки, Мономахов заехал в гараж.
Закрыл за собою ворота, включил свет. Возбужденный, с трясущимися руками разрезал ножом веревку, вскрыл кофр. И когда не обнаружил внутри черепа, пришел в ярость. Столько трудов – и коту под хвост! Несколько раз перевернул лежавшие внутри старые пропахшие нафталином шляпки. Потом яростно побросал все это в таз. Облил бензином и поджег. Налил себе полстакана водки, выпил. И долго еще сидел в гараже и стонал от своей неудачи, словно у него разболелся живот.
9
Допрос Паисия вел следователь Абессолом Иголкин. Это был озорной молодой человек, лет двадцати восьми, с густой черной шевелюрой, стоящей торчком, словно плотина на реке. Допрашивая старика, он отпускал колкие шуточки по поводу его монашеской жизни, говорил, что жизнь эта, можно сказать, прошла впустую, в религиозном дурмане, и любой, знакомый с трудами товарища Карла Маркса, скажет, что бог – это средневековое заблуждение!
Неожиданно в кабинет зашел Бодало.
Увидев начальника в дверях, Абессолом прытко взлетел со своего стула и, изменившись в лице, строго крикнул Паисию:
– Встать!
Монах послушно поднялся.
– Садись, Иголкин, – кивнул подчиненному Бодало.
Абессолом стоял минуту-другую и сел на свое место только после того, как Бодало присел на свободный стул у стены.
Паисий так и остался стоять, опасаясь садиться без команды.
– Садитесь, гражданин Вязов, – велел Бодало.
Старик сел.
– Итак, вы утверждаете, – вернулся к прерванному разговору Абессолом, – что к изъятию черепа из могилы писателя Гоголя не причастны…
– Так оно и есть, – кивнул Паисий, – не причастен.
– А вот ваши сообщники, монахи Пастухов, Денисов и Калёнов на допросах показали, что вы не только причастны, но и являлись организатором хищения, вступив предварительно в сговор с господином Бахрушиным!
Старик отчужденно взглянул на Абессолома.
– Утверждать можно, что угодно, гражданин следователь, но Господь Бог знает правду. И ему доподлинно известно, что я к варварской краже черепа из могилы Гоголя не причастен…
И тут в разговор, не утерпев, вмешался Бодало.
– Послушай, Вязов! – сказал он строго старику. – Ты за бога не прячься! Он тебе не помощник! Его нет, и перестань кормить нас поповскими байками!
– Вы можете, гражданин начальник, считать, что Бога нет, но от этого он не перестанет быть в нашей жизни. Вот, к примеру, днем вы смотрите на небо и не видите звезд, будто их там нет. Но на самом деле они есть. И лишь только начинает смеркаться, звезды сразу становятся видимыми. Так и Господь…
– Но если он есть, то почему он не вступится за тебя, старик? И не избавит тебя от мучений?
– Господь испытывает меня… Проверяет, насколько крепок я духом…
– Я бы всю вашу поповскую братию заставил Маркса прочесть! – возбудился Бодало. Бесцельные споры ему были не нужны, ему требовалось, чтобы Паисий признал свою вину. И он продолжил: – Обратимся к фактам. А факты таковы: в девятьсот девятом году ты, старик, уже не один год состоял в монахах и жил в Даниловом, и, следовательно, все работы по реставрации могилы писателя проходили при тебе. Так? Так. Кроме того, в беседе с нашим сотрудником Булановым ты подтвердил, что лично знал господина Бахрушина, пожелавшего с неизвестной целью получить череп писателя. Верно? Верно! Бахрушин предложил тебе и твоим сообщникам хорошие деньги, если вы достанете для него череп из могильного склепа. Ну, а вы, монахи, как известно, народ жадный, польстились на царские червонцы… И в один из дней, когда у рабочих, занимавшихся реставрацией могилы, был выходной, вы добрались до склепа и похитили череп. Склеп вскрывали Пастухов и Калёнов. Они признались в этом. Что ты на это скажешь?
– Братья возводят на себя напраслину, Бог им судья… По правде ничего этого не было… – заявил Паисий.
– Не морочь мне голову! – начал сердиться Бодало.
– Братья Андрей и Петр… то бишь, Пастухов и Калёнов тогда еще не жили в монастыре. Они совершили постриг позднее. Года два или три спустя после обновления могилы.
– Ну вот, – обрадовался Бодало. – Значит, ты, старик, признаешь, что в похищении черепа участвовали ты и Денисов? И сделали это с целью не только получить деньги, но и насолить нашей будущей народной власти. Все вы, попы и монахи, одним миром мазаны! Сначала отлучили от церкви Льва Толстого… Чем он вас не устраивал? Тем, что правду о вас писал?.. Затем решили надругаться над другим великим писателем – Гоголем!
Паисий печально взглянул на него:
– В девятом году о вашей власти слыхом не слыхивали, никто даже и не думал, что будет такая. Как можно насолить тому, кого нет в природе? Точно так же можно обвинить мальчишку, укравшего на базаре бублик, в том, что он желал насолить своей будущей теще, о которой пока понятия не имеет и которая этими бубликами торгует.
– А ты, монах, не так прост, как кажешься, – потемнел лицом Бодало. – Но народ не с такими, как ты… Ваше время ушло! Народ против вас! Против всякого рода пиявок, сосавших его пролетарскую кровь! Мы устроим над тобой и твоими сообщниками показательный процесс!
Он поднялся, направился к выходу и уже в дверях шепнул провожавшему его Абессолому:
– Будь с ним пожестче… Но бей аккуратно, чтобы старик дожил до суда.
Когда за начальником закрылась дверь, Абессолом, потягиваясь, прошелся по кабинету, посмотрел в окно.
– Приказано быть с тобой построже, коли ты сознаваться не хочешь, – сказал он, обернувшись к Паисию. – Веришь, старик, нет никакого желания тебя бить. А придется… Сознайся, и тебе лучше будет, и мне…
– Я не могу признаться в том, чего не делал.
– Ну, а кто организовал похищение черепа?.. Молчишь? Значит, ты! – Абессолом был молод, самоуверен, любил покуражиться над теми, кого допрашивал – они же враги! У него были сомнения насчет виновности Паисия, но раз начальство требовало добиться от старика признания, значит, следовало его получить. – Судя по всему, твой Бахрушин был троцкист! – Абессолом улыбнулся ходу своей мысли. – Только троцкист мог подбить на такое подлое дело! Сговор монаха и троцкиста!
