Улица моя: аллея мрачных классиков. Прогулки по Переделкино
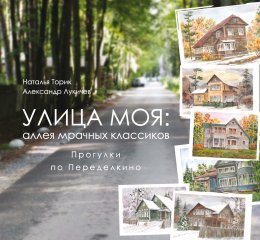
Художник – Екатерина Державина
© Н. Торик, текст, 2025
© А. Лукичев, текст, 2025
© Е. Державина, иллюстрации, 2025
© А. Толстикова, фотографии, 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Вступление
Наталья Торик
В наше время если не возрождается, то обретает новое дыхание городок писателей Переделкино, а с ним и целая литературная эпоха. Когда гуляешь по улочкам нашего посёлка, кажется, духи писателей оживают и прогуливаются здесь вместе с нами.
Моё первое знакомство с этим сакральным местом было суровым и откровенным. Поздней моросящей осенью я впервые попала на улицу Серафимовича – ту самую, что некогда молодые шестидесятники окрестили Аллеей мрачных классиков.
Тогда это было настоящее царство запустения: покосившиеся заборы, мусор вдоль обочин, редкие прохожие с потухшими глазами. Строения буквально осыпались, словно обветшалые воспоминания. Каждый выходной мы с дочерью раскапывали на своём участке, среди величественных вековых сосен, бесконечные клады человеческой небрежности, собирали их в мешки и выносили на мусорку.
Но постепенно это место начало оживать. Свежие газоны, вымощенные тропинки, стильный книжный магазин, библиотека с бережно очищенными томиками – Переделкино возрождалось как феникс из пепла постсоветской разрухи.
Каждый квадратный метр этой земли – живая история. Каждое дерево здесь могло бы написать мемуары, каждый забор – рассказать десятки литературных баек. Мы с моим другом и соавтором Александром Николаевичем Лукичевым не просто изучали этот посёлок – мы впитывали его душу, расшифровывали генетический код.
Наши воскресные прогулки превратились в создание летописи. Мы восстанавливали биографии, собирали крупицы воспоминаний, создавали первую карту посёлка. И постепенно – осторожно, неохотно, но с какой-то затаённой нежностью – Переделкино открывало нам свои тайны.
Однажды, устроив во дворе «переделкинскую соседскую уху», мы поняли, что возрождаем не просто место, а целый мир. Мир, где каждый сосед – потенциальный персонаж, каждый забор – страница из ненаписанного романа.
В этой книге мы проведём вас по улице Серафимовича, главному проспекту городка писателей, – улице, которая помнит тысячи судеб и сотни талантов, объединённых бесконечной любовью к литературе.
Приглашаем вас в путешествие.
Серафимовича, 1: «Как повяжешь галстук, береги его…»
Александр Лукичев
Первым жителем дома по адресу: улица Серафимовича, 1, стал Иван Беспалов. Поселился он здесь в 1936 году.
Иван Михайлович Беспалов – советский литературный критик, редактор ряда журналов, корреспондент ТАСС. Родился 11 июня 1900 года в селе Смолине Екатеринбургского уезда Пермской губернии, в крестьянской семье.
Участник Гражданской войны, окончил аспирантуру, в 1926 году слушал лекции в Институте красной профессуры, позднее был там преподавателем и заместителем директора. С 1929 по 1931 год работал заместителем ответственного редактора журнала «Печать и революция», редактором в журнале «Революция и культура», в 1930 году – редактором журнала «Красная новь».
Именно он принял к печати в «Красной нови» повесть Андрея Платонова «Впрок», которая вызвала гнев Сталина, по утверждению некоторых историков – оставившего на странице журнала такую резолюцию: «К сведению редакции „Красная новь“. Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойдённую слепоту. Р. S. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им „впрок“».
Сталин вызвал Беспалова в Кремль. Из воспоминаний очевидцев:
«Открылась дверь, и, подталкиваемый Поскрёбышевым, в комнату вошёл бывший редактор. Не вошёл, вполз, он от страха на ногах не держался, с лица его лил пот. Сталин с удовольствием взглянул на него и спросил:
– Значит, это вы решили напечатать этот сволочной кулацкий рассказ?
Редактор не мог ничего ответить. Он начал не говорить, а лепетать, ничего нельзя было понять из этих бессвязных звуков. Сталин, обращаясь к Поскрёбышеву, который не вышел, а стоял у двери, сказал с презрением:
– Уведите этого… И вот такой руководит советской литературой».
В 1930 году Беспалов издал сборник статей «Проблемы литературной науки» и напечатал две работы о творчестве М. Горького.
В 1929–1930 годах Иван Беспалов был активным участником Литфронта. В 1931–1933 годах работал корреспондентом ТАСС в Швеции, в 1933 году – заведующим корпунктом ТАСС в Германии. Освещал Лейпцигский процесс, но позднее был арестован немецкими властями и освобождён после официального протеста правительства СССР.
С 1934 года Беспалов работал главным редактором Гослитиздата.
26 июля 1937 года Иван Михайлович Беспалов был арестован по обвинению в шпионаже и участии в антисоветской троцкистской правой организации. 26 ноября того же года приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Похоронили его на Донском кладбище в Москве.
Реабилитация Беспалова состоялась в 1956 году.
Жена Ивана Беспалова, Фрада Григорьевна, была знакома с Лилей Брик, дружила с Верой Инбер. После ареста Ивана Михайловича её вызывали в НКВД, но она отказалась давать показания против мужа. Девятого февраля 1938 года Фрада Григорьевна тоже была осуждена Особым совещанием при НКВД СССР как «член семьи изменника Родины» на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Вышла на свободу 28 октября 1945 года. В 2000-х годах внук, Андрей Фёдоров, перевёз бабушку в США.
Их дочь София, пока мать находилась в лагерях, жила в деревне, в нищете и лишениях. И дальше была практически лишена гражданских прав – ей, например, отказывали в поступлении в институт.
Следующим жителем дома по адресу: Серафимовича, 1, стал Константин Тренёв.
В Переделкине Тренёв поселился в 1937 году – въехал на дачу, которая освободилась после ареста Ивана Беспалова.
Первый рассказ Тренёва появился в 1898 году в новочеркасской газете «Донская речь», где он был штатным сотрудником, а затем и фактическим редактором. В Симферополе Тренёв прожил двадцать два года, там же написал главные книги своей жизни. Первым значительным послереволюционным произведением Тренёва стала пьеса «Пугачёвщина», написанная в жанре народной трагедии и рассказывающая о восстании казаков во главе с Емельяном Пугачёвым. В 1926 году была завершена героическая драма «Любовь Яровая», оставшаяся непревзойдённой творческой вершиной автора. Впервые она была поставлена на сцене московского Малого театра 22 декабря 1926 года, явилась вехой в истории русской драматургии. В 1936 году пьесу поставили и во МХАТе. Когда актёрский коллектив пожелал снять её с репертуара и остановить репетиции, директор театра Владимир Немирович-Данченко так ответил своим подчинённым: «Спешу ответить. Также совершенно официально. „Любовь Яровая“. А вы в совещании считались с тем, что это было дважды выраженное желание Иосифа Виссарионовича? „Не пользуется поддержкой в труппе“, – пишете вы о пьесе. „Любовь Яровую“ И. В. смотрел 28 раз!»
Это одна из тех советских пьес, которые долго не сходили со сцены наших театров, и единственная советская пьеса, показанная Малым художественным академическим театром в 1937 году на Всемирной выставке в Париже.
В 1924 году Константин Тренёв посетил Музей Чехова в Ялте и оставил об этом запись: «Я провёл ночь в твоём доме и остро перечувствовал то, что составляет одно из интимнейших моих переживаний: нет у меня на земле дома, кроме родного, более дорогого, чем этот. Я ходил по твоим комнатам, впивая душой каждую твою вещь; я провёл вечер с твоей любимицей-сестрой, подобно твоему Иерониму, ища в её лице черт „усопшего друга“, а потом, оставшись один, рыдал, долго, безутешно, как 20 лет тому назад, когда смерть твоя на всю жизнь ранила сердце юноши. 20 лет я тоскую над твоими, наизусть мною выученными творениями, что ушёл ты из этого мира так рано, что ушёл так незаменимо мне нужный, что не пришлось мне тебя ни разу видеть, – велика эта скорбь моя… Вот и моя жизнь идёт к концу, и я чувствую сейчас, сидя за твоим столом, плача над этими строками: сирота я, сирота без тебя в этом мире…»
Тренёв умрёт в 1945 году. Его дочь Наталья выйдет замуж за Петра Павленко и переедет в 1946 году в дом напротив (нынешний адрес: Тренёва, 2).
Восьмого марта 1956 года Корней Чуковский писал в своём дневнике: «Вчера пришла ко мне Тренёва-Павленко. У неё двойной ущерб. Её отец был сталинский любимец, Сталин даже снялся с ним вместе на спектакле „Любови Яровой“, а мужа её, автора „Клятвы“, назвал Хрущёв в своём докладе подлецом».
Пятого ноября 1958 года в Ялте, в доме, где жил Константин Тренёв, а затем и Пётр Павленко, открылся музей их имени.
В послевоенные годы здесь располагался второй Дом творчества. Первый открывался на даче, где жил Лев Каменев, но сразу после войны дом сгорел, и Дом творчества вынуждены были переселить сюда. Некоторое время этот дом даже был общежитием Литинститута.
В 1959 году сюда въехал поэт Степан Щипачёв. Сейчас именно его именем называют эту дачу. В 2024 году исполнилось сто двадцать пять лет со дня его рождения.
Любители поэзии моего поколения, услышав имя Щипачёва, обязательно вспомнят эти строки:
- Как повяжешь галстук,
- Береги его:
- Он ведь с красным знаменем
- Цвета одного.
Или эти:
- Любовью дорожить умейте,
- С годами – дорожить вдвойне.
- Любовь – не вздохи на скамейке
- И не прогулки при луне.
Издательство «НексМедиа» в 2012 году включило в свою стотомную серию «Великие поэты мира» имя и стихи Степана Щипачёва. При желании и сегодня можно приобрести посвящённый поэту 47-й том серии «Я душу кладу на ладони».
Степан Петрович Щипачёв родился 7 января 1899 года в деревне Щипачи Камышловского уезда Пермской губернии (Свердловская область, Богдановичский район). Сейчас там, кстати, открыт Литературный музей Щипачёва.
Степан Петрович был участником Гражданской и Великой Отечественной войн. Учился в Высшей военно-педагогической школе и Институте красной профессуры. Жил и работал в Москве. По собственному признанию поэта, его литературная биография началась с книги стихов «Лирика, изданное» в 1939 году. Своей любимой книгой Степан Щипачёв считал сборник «Строки любви», вышедший в 1945 году. Щипачёв написал и несколько поэм. Наиболее известные среди них: «Наследник», «Звездочёт», «Песнь о Москве», «Домик в Шушенском». Всего более ста двадцати сборников и книг были изданы при жизни поэта.
В 1959–1963 годах Щипачёв занимал пост первого секретаря Московской городской организации Союза писателей. Активно поддерживал молодых поэтов и писателей.
«Он был лучшим руководителем писательского Союза. Ни до Степана Петровича, ни после такого уже не было», – утверждал Евгений Евтушенко.
А вот что писал о Щипачёве Андрей Вознесенский: «Много сделал для нравственной атмосферы в литературном кругу. Редкостной порядочности и щепетильности был он. Чужой удаче радовался как своей. Став московским секретарём, мог ночью позвонить, поздравить с публикацией».
Но, рассказывая о Степане Петровиче, придётся вспомнить и об открытом письме советских писателей в газету «Правда». 31 августа 1973 года на страницах газеты появилось открытое письмо, в котором было выражено негативное мнение советских литераторов о «поведении таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный и общественный строй». Под текстом стояли подписи многих именитых поэтов и прозаиков, в том числе и Щипачёва. По моим подсчётам, из тридцати одного «подписанта» одиннадцать жили в Переделкине.
Умер поэт 1 января 1980 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
Следующим жителем дачи был Юлиу Эдлис.
Третьего июля 1929 года в городе Бендеры, называвшемся в период вхождения Бессарабии в состав Румынии Тигиной, родился Юлиу Филиппович Эдлис – советский драматург и сценарист.
До 1940 года учился в бендерском французском лицее. В начале Великой Отечественной войны вместе с семьёй эвакуировался в Тбилиси (все оставшиеся в оккупированных Бендерах бабушки и дедушки, а также другие члены его семьи были депортированы в гетто и убиты).
В 1949 году окончил Тбилисское высшее театральное училище, а в 1956 году – филологический факультет Молдавского государственного педагогического института имени Иона Крянгэ в Кишинёве. Первую пьесу – «Единственный путь» – написал будучи учеником десятого класса средней школы. Дебютировал в печати Эдлис в 1952 году, а первой опубликованной стала пьеса «Покой нам только снится», вышедшая в свет в 1955 году.
После запрета в Молдавии спектакля по пьесе «Мой белый город» в 1960 году переехал с семьёй в Москву. В 1962 году был принят в Союз писателей СССР.
Юлиу Эдлис – автор многочисленных пьес, поставленных в различных театрах страны и за рубежом: «Мой белый город», «Волнолом», «Аргонавты», «Капля в море», «Серебряный бор», «Где твой брат, Авель?», «Вызываются свидетели», «Проездом», «Июнь, начало лета», «Жажда над ручьём», «Сочельник», «Нам целый мир чужбина», «Бульварный роман», «Английская рулетка или… миллион по контракту». После публикации подвергшейся критике пьесы «Где твой брат, Авель?» в 1965 году произведения Эдлиса до 1977 года не ставили в театре. С начала 1980-х годов Эдлис регулярно обращался к прозе, опубликовал романы «Жизнеописание», «Антракт» и «Чёрный квадрат», повести «Сия пустынная страна» о своём бессарабском детстве и «Шатало» о студенческих годах в театральном училище в Тбилиси, рассказы. Автор сценариев к кинофильмам «Жажда над ручьём», «Свой парень», «Дети как дети», «Прощальные гастроли».
С Переделкином Юлиу Эдлиса связывали долгие и тесные отношения. Здесь жили его друзья. Вот отрывок из письма Юлиу Эдлиса Василию Аксёнову, который жил за границей и был лишён советского гражданства (написано в 1982 году): «Самое смешное, а может быть, трогательное заключается в том, что я пишу это письмо на твоей даче в Переделкино, которую снял на зиму у Киры, а на стене напротив – твоя роскошная фотография, и от этого такое чувство, что ничего не изменилось, всё как раньше. Очень может быть, что так оно и есть. Вижусь мало с кем – с Мишей Рощиным, Юликом Крелиным, Юрой Левитанским, Витей Славкиным, Ряшенцевым, реже – с Булатом. Новые друзья, как и новые любови, в нашем возрасте заводятся уже с натугой. Очень редко вижу Беллу, но прежней простоты и близости отношений между нами давно уже нет. Что поделаешь».
Кстати, после возвращения из эмиграции Василий Аксёнов будет жить какое-то время в квартире Эдлиса.
В 2003 году Юлиу Эдлис опубликовал книгу воспоминаний о писателях-переделкинцах «Четверо в дублёнках и другие фигуранты». Последние двенадцать лет драматург постоянно жил в Переделкине, в знаменитом доме Константина Тренёва на углу улиц Тренёва и Серафимовича.
Юлиу Филиппович Эдлис скончался в ночь с 29 на 30 ноября 2009 года. Похоронен в Москве на Преображенском кладбище.
После Эдлиса в этот дом вселился Валерий Николаевич Ганичев, советский и российский писатель, журналист и общественный деятель. Он, как и многие «насельники» писательских дач, в определённый период (1994–2018) был председателем правления Союза писателей России.
Сейчас в доме живёт его дочь, русская и советская писательница Марина Валерьевна Ганичева. Родилась она 30 августа 1960 года в городе Николаеве. Историк по образованию, Марина Ганичева является специалистом по русской консервативной журналистике, редактором и издателем журналов «Роман-журнал XXI век», «О, Русская земля», участвует в издании журнала «Новая книга России».
Сегодня она продолжает дело своего отца. Детское ушаковское движение, Ушаковские сборы и конкурс «Гренадёры, вперёд!» – вот уже более двадцати лет Марина Ганичева участвует в организации этих патриотических мероприятий, объединяющих детей и подростков.
В интервью Григорию Калюжному в ноябре 2020 года Марина Валерьевна так рассказывала об этой своей работе: «У нас в доме в Переделкино активно заработал Центр имени Фёдора Ушакова, к нам приходят экскурсии, мы рассказываем об Ушакове и о Ганичеве, организовываем для разных детей Ушаковские костры, сделали на улице „выставку на воротах“ – вывесили ряд детских рисунков, заламинированных под плёнку. Делали мы и „концерт на воротах“ – вынесли скамейки на улицу и на фоне детских рисунков пели под аккомпанемент известного баяниста Владимира Комарова. (Он написал много песен на стихи современных поэтов.) К нам подходили люди, пели с нами вместе, уходили, приходили другие. Папа всегда так и говорил: „Если у нас отнимут дом писателей, мы пойдём в народ“. Здесь, в Переделкино, собираются люди, писатели; приезжают со всей России, останавливаются у нас, ночуют. Всё это так, как было принято при родителях. Отец мне уже „на исходе“ всё время говорил: „Сегодня кто-то будет?“ – „Конечно будет, папа“. – „Дом колхозника работает?“ – „Работает, работает…“ – „Ну и слава богу!..“ А на День Победы 9 мая мы прошли здесь, в Переделкино, Бессмертным полком по нашей улице, с песнями и портретами… Собрали истории и впечатления ребят нашего Ушаковского бессмертного полка».
В этом же интервью Марина Валерьевна делилась своими планами: «…Продолжить публицистические заметки о людях, которые для меня дороги: В. Овчинникове, Ю. Гагарине, Л. Леонове, В. Распутине, В. Белове, – и о тех, кто ещё жив».
Серафимовича, 2: Дом, где родилась девушка из Нагасаки
Александр Лукичев
Первая жительница дома на углу улицы Погодина и Серафимовича – поэтесса Вера Инбер. Родилась она 10 июля 1890 года в Одессе. Вера Шпенцер (по фамилии первого мужа – Инбер) была единственной дочерью известного одесского издателя Моисея Шпенцера. Первая её публикация появилась в одесской газете в 1910 году – это было стихотворение «Севильские дамы». Выйдя замуж за одесского журналиста Натана Инбера, Вера уехала с ним в Париж, а затем в Швейцарию.
В 1914 году в Париже выходит её первая книга стихов «Печальное вино», которую высоко оценил Александр Блок. После поездки в Константинополь Вера Инбер с двухлетней дочерью вернулась в Одессу, а её муж остался в эмиграции. Поэт Александр Биек вспоминал: «Дом Инберов (в Одессе) был своего рода филиалом „Литературки“. Там всегда бывали Толстые, Волошин и другие. Там царила Вера, которая читала за ужином свои жеманные, очень женственные стихи. Она была очень маленького роста (полтора метра с каблуками), но даже это она ввела в моду».
В начале XX века критики писали наравне о стихах Инбер и Ахматовой.
В Советской России Инбер в качестве журналистки много ездила по стране и за рубежом. Её много печатали. В 1927 году она (единственная женщина) принимает участие в написании коллективного романа двадцати пяти авторов «Большие пожары», который печатается в журнале «Огонёк».
Большую роль в жизни поэтессы сыграли родственные связи. Вера была родственницей Льва Троцкого.
- При свете ламп – зелёном свете —
- Обычно на исходе дня
- В шестиколонном кабинете
- Вы принимаете меня.
Эти её строки посвящены ему. После высылки Троцкого и объявления войны троцкизму его родственникам тоже досталось. Уничтожены были почти все, но Вера Инбер уцелела. Позже, в 1939 году, даже была награждена орденом «Знак Почёта». Однако страх возможной расправы продолжал преследовать её всю жизнь.
10 октября 1941 года в Ленинграде Вера Инбер, русская советская писательница и уже жительница городка писателей Переделкино, записывает в своём дневнике: «Мы оставили Орёл. По-прежнему грозно очень на Вяземском и Брянском направлениях: немцы снова наступают. Под Москвой земля ровная: ни гор, ни долин, ни моря. Как на этой ровной земле удержать лавину вражеских танков? Сердце холодеет при мысли, что они могут хлынуть и начнут подминать под себя московские мостовые».
