Надежда как выбор: Как сохранять ясность и стойкость в непростое время
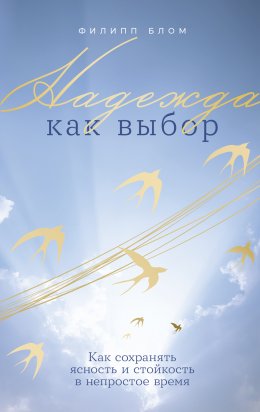
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Маргарита Ключак
Редактор: Анна Захарова
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Анна Василенко
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Елена Аксёнова, Мария Смирнова
Компьютерная верстка: Павел Кондратович
Иллюстрация на обложке: shutterstock.com
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© 2024 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
Посвящается Элиасу
- It’s like fight, fight
- keep going, keep going.
- Hope and dreams
- are like no, maybe not[1].
- Если имеешь свое «почему» жизни, то поладишь почти со всяким «как». Человек не стремится к счастью;
- к нему стремится только англичанин.
Почему мы еще надеемся?
Прошел целый день, и вот я наконец могу сесть и написать тебе письмо. Твой вопрос не выходил у меня из головы. Во всей этой суматохе я задолжал тебе ответ. Сейчас я снова в дороге, жизнь сводится к содержимому сумки, нескольким адресам и номерам в телефоне: отели, встречи, контакты. И вот мысли снова зашевелились, заняли пространство, из которого их обычно гонят.
Итак, возвращаясь к твоему вопросу: почему мы еще надеемся? Можно ли вообще на что-то надеяться в такие времена?
Как же мне ответить? Ты страшишься того, чего и надо страшиться: перемен, которые выходят за рамки человеческих представлений. Мы живем в эпоху, когда старый порядок разрушен, а новый еще не возник и, возможно, возникнет еще не скоро. Каждое поколение считает себя уникальным, полагая, что именно его ждет конец света и апокалипсис, те или иные пророки всегда предвидели нечто подобное – но на этот раз все правда.
Так неужели разговоры людей о надежде – всего-навсего назидательная болтовня? Винтик великого иллюзионного аппарата, утешение для болванов? Ну что за идиот побежит за какой-то надеждой, за мыслью, что все как-нибудь утрясется и все страшные пророчества можно игнорировать, ведь спасительная технология уже на пороге? Разве не глупо полагать, что нам хоть и стоит задумываться, но не стоит отчаиваться, поскольку мы прогрессивные и предприимчивые, всегда находили решение и…
В какой-то момент я сбился со счета, как часто перед моими докладами (о том, какое значение для будущего демократий и либеральных обществ имеют климатический кризис, потеря биоразнообразия и искусственный интеллект) меня просили рассказать уже что-нибудь оптимистичное, хотя бы закончить на обнадеживающей ноте, а не в миноре. Как будто меня пригласили, чтобы я гарантировал всем светлое будущее. Похоже, в общении друг с другом мы чувствуем себя обязанными проявлять оптимизм и, даже сталкиваясь с ужасающими новостями, искать добро в худе. Ну расскажи что-нибудь ласковое и любезное. Подари им надежду!
Разговоры о надежде вполне в духе нынешней повестки. У многих вся карьера строится на рассказе о том, что, вообще-то, все становится лучше, человечество хорошее, все показатели идут вверх и – в зависимости от политических взглядов – солидарность и ответственность, или инновации и дерегулирование, или возрождение нации скоро, очень скоро принесут спасение. Экономический рост, технический прогресс, мировая солидарность и нравственное сознание наконец-то преодолеют кризис.
Это хромающее представление о некоем вечном блаженстве – второй завар христианской идеи, что история движется к цели, к искуплению, к Небесному Иерусалиму. Мы унаследовали эту христианскую идею и теперь называем ее прогрессом. Все беспрестанно становится лучше и лучше.
К этому праву на оптимизм прилагается мнимая претензия на счастье. В наши дни многие люди полагают, что у них есть право на жизнь в благополучии и безопасности. Историческое представление о хорошей жизни сводится к правам потребителя. Эти люди живут c концепцией безопасности и бронежилетом, с гарантией, законом о возврате, кредитным планом, защитой прав потребителей, нормативами, лицензированием и обязательной сертификацией. Любое разочарование может вылиться в жалобу, иск и обвинительный приговор.
Надежда как гарантия, светлое будущее как право потребителя?
Да, это вздор. Словесный мусор, моральная политика умиротворения. Но именно это люди и хотят слышать. И платят за это хорошие деньги. Психологи и коучи предписывают нам быть оптимистами и думать позитивно, религии предлагают свободное от страхов пространство и избавление от смерти, бизнес-тренеры, консультанты по управлению и разработчики приложений для медитации неплохо зарабатывают на подобных фразах. Люди этого хотят. Существует рынок, а значит, есть и продукты, удовлетворяющие подобный запрос. (Кстати, существует спрос и на предвестников конца света, но этот рынок рухнул бы без огромного оптимистичного нарратива, который могут обрабатывать пессимисты.)
И вот люди объединяются, чтобы ничего не видеть, не беспокоиться, отстаивать собственную позицию и не слушать тех, кто надрывает глотку. И если в итоге приходит хорошая новость, избавление, спасительная идея, глубокое озарение о человеческой природе, новая технология или эволюция, то мы понимаем, что в конце истории все протагонисты (или, по крайней мере, важнейшие протагонисты) справились с испытанием и остались целыми и невредимыми. Некоторые из них сбились с верного пути и висели на волоске, один-два (а если они от нас достаточно далеко, то и миллионы) пали жертвой обстоятельств, но в целом порядок восстановлен, все может идти по-прежнему, Одиссей вернулся домой.
Если тебя устраивает такое объяснение, то дальше мое письмо можешь не читать. Но я знаю, что такое объяснение тебя не устроит, иначе ты бы не завел этот разговор. Я не удивился, когда ты со мной заговорил. После докладов ко мне часто подходят люди твоего возраста и почти всегда задают один и тот же вопрос в различных вариациях, как будто я знаю ответ, а именно: «Есть ли еще посреди всей этой лжи надежда?» Удивился я, лишь когда ты вернулся на следующий день, чтобы задать новые вопросы. Должен признать, мне нечего возразить на твою дружелюбную настойчивость. Ты спросил меня о надежде, и тебя не удовлетворили стандартный ответ и банальные формулировки. Я тогда спешил на следующую встречу, поэтому задолжал тебе достойный ответ.
Меня обрадовала твоя находчивая идея оставить мне адрес электронной почты, и с тех пор меня не отпускали эти вопросы. У меня пока нет для тебя ответа, но я уже собрался в путь, и часть его мы можем пройти вместе, если ты пожелаешь, – пусть и лишь в письменной форме.
Но в сторону риторику. Возможна ли вообще надежда в современном мире? Не будет ли циничным требовать от себя и от других изображать на лице счастливые эмоции и разглагольствовать о надежде на фоне всеобщего краха? Неужели это все, на что мы способны?
Но если ты упорно не желаешь быть частью этого заговора неведения и задаешься вопросом, какими будут следующие десятилетия, то ответ, полученный с помощью лучших научных моделей, станет весьма отрезвляющим. Если ты смотришь на будущее с глубоким беспокойством и тебе страшно, то ты абсолютно прав.
Коротко говоря, мы, человечество, находимся в тройном экзистенциальном кризисе, который дробится на бесчисленное множество более мелких, переплетенных между собой. Три взаимосвязанные ветви этого кризиса – глобальное потепление, потеря биоразнообразия и риски, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Каждая из этих ветвей способна нанести серьезный ущерб: уничтожить или по крайней мере сократить большую часть жизни на этой планете. Каждая уже сегодня приобрела огромные масштабы и имеет неисчислимые, невообразимые последствия.
Вот они, наши всадники Апокалипсиса.
Повышение температуры на три градуса (а именно к этому все и идет) может вынудить бóльшую часть человечества бежать из родных домов, способно вызвать разрушительные войны за землю и воду, изменить береговые линии, климатические системы и направления океанических течений, превратить огромные участки суши в степи и спровоцировать выброс метана в огромных количествах. Повышение температуры способно вызвать коллапс глобальной экономики и современных государств, не говоря уже о пагубном влиянии на живые организмы и целые экосистемы, которые ввиду отсутствия времени на адаптацию обречены на крах, так как цепочки видов исчезнут, оставляя глубокие бреши в сети жизни. Вместе с участившимися природными катаклизмами и экстремальными погодными условиями одно это уже стало бы своего рода апокалипсисом. (Конечно, планета вновь обретет равновесие, жизнь приспособится к изменившимся условиям – но для нас будет слишком поздно.)
То, что происходит с разнообразием видов, и скорость этого коллапса вызывают не меньший ужас. Мало того, что ежедневно вымирают сотни уникальных организмов, которые человек даже не успел открыть, – стремительное изменение и ухудшение сред обитания приводит к исчезновению ключевых видов, на которых держатся целые экосистемы. В некоторых регионах Европы из-за пестицидов и монокультур уже исчезло 80 % насекомых. В случае деградации почвы или водных ресурсов восстановление либо занимает очень много времени, либо вовсе невозможно. Микропластик не только достиг дна океана, но и уже обнаруживается в человеческом мозге и грудном молоке. Каждую минуту исчезают площади тропического леса, равные тридцати футбольным полям, и миллион тонн арктического морского льда (да-да, именно так, каждую минуту).
Цифровизация и искусственный интеллект – две разные, но взаимосвязанные силы. И то и другое таит в себе возможности и опасности, которые мы пока даже не можем оценить. В одной лишь биологии сфера применения ИИ варьируется от разработки персонализированных методов лечения на основе генетического профиля пациента до создания новейшего биологического оружия. Искусственный интеллект и цифровизация имеют и другие последствия. Так, например, западные общества в ближайшие десятилетия могут столкнуться с ликвидацией рабочих мест для человека. Многое изменится в нашем сосуществовании и политическом балансе сил. Как людям жить? И какое вообще место мы занимаем в полностью цифровизированном мире? Сможем ли мы под постоянным воздействием стимулов, захватывающих наше внимание с экранов, не допустить собственного превращения в некомпетентных нарциссов, которые деградируют в пузыре из персонализированных новостей и алгоритмических соцсетей? Как будет функционировать демократия? Кто станет принимать решения?
Как мы можем отличить правду от вымысла, а машину от человека, если ИИ все лучше стирает отличия? Когда искусственный интеллект догонит и перегонит человеческий? Уж не создаем ли мы своими руками силу, которая сделает нас ненужными? Возможно, ты знаешь балладу Гете об ученике чародея. Студия Уолта Диснея рассказала ее в виде мультфильма[3] (тщательная прорисовка вручную и классическое музыкальное сопровождение). Хозяин ушел, а подмастерью нужно выполнить работу по дому, так что он оживляет метлу, ведро и тряпки. Они делают за него всю работу, но отказываются подчиняться отменяющему заклинанию и не перестают носить воду и тереть пол. Начинается потоп, и подмастерье в отчаянии («Вызвал я без знанья / духов к нам во двор / и забыл чуранье, / как им дать отпор!»[4]) вынужден позвать на помощь чародея, который одним заклинанием приводит все в порядок. У меня отчетливое ощущение, что мы все – этот ученик. Но только у нас нет чародея, которого можно позвать на помощь. Ницше сказал бы: «Мы его убили».
Потепление климата, разрушение экосистем, загрязнение океанов, потеря биоразнообразия, бум искусственного интеллекта и цифровизации всех сфер жизни – и на этом фоне за нашими границами идут старомодные убийственные войны, в которые мы вовлечены уже давно и которые грозят разрастись. Огромные потоки беженцев, бессильные государства, передающие рынку все больше демократических полномочий. Мы рубим сук, на котором сидим, и при этом поем веселую песенку.
Обычно такое поведение не считается умным, но мы-то умны. Мы даже разрабатываем научные модели, которые точно предсказывают наше будущее при условии, что мы продолжим жить как прежде, и мы продолжаем жить как прежде, а модели невероятно умные и удивительно часто оказываются правы. А даже если и ошибаются, то из-за того, что были слишком упрощенными или консервативными, тогда как развитие событий ускорилось из-за взаимодействия и симбиоза различных факторов.
«Входящие, оставьте упованья»[5]. Кажется, «Ад» Данте стал нашим будущим. Общества, которые я знаю и в которых живу, то есть преимущественно европейские, уже давно привыкли бояться будущего словно вируса.
Будущее в наших широтах больше нельзя считать само собой разумеющимся, как это, возможно, было еще 100 лет назад. Тогда миллионы людей верили, что идеологии раз и навсегда помогут решить все мировые проблемы. Да, будет битва, причем кровавая, но в итоге победят арийцы, господствующая раса, рабочий класс, пролетариат, христианство, ислам, империя, рынок. Люди всерьез полагали, что именно в этот момент будут решены все экзистенциальные проблемы. Если болезни можно победить с помощью прививок, то так же можно преодолеть голод и нищету, а значит, мир наконец-то полностью подчинится человеческому контролю и управлению.
Во времена таких ожиданий было очень легко надеяться. Но мы уже не живем в эпоху наивной веры в будущее. Последние два столетия показали, что глупые надежды и вера в неправильные вещи ведут к катастрофам. Пожалуй, самые жестокие и кровавые периоды истории – результат самых пылких надежд. Миллионы людей, которые надеялись на победу господствующей расы, единственной истинной религии, империи или диктатуры пролетариата и были готовы ради этого пойти по трупам, по ужасному количеству трупов, выставляют надежду в сомнительном свете. Надежда всегда имеет моральную составляющую, поскольку связана с представлениями о хорошей жизни, а моральные представления имеют свойство меняться. Они могут исчезнуть или превратиться в свою противоположность так же быстро, как то или иное состояние или любой человек в сталинской России.
Надежда, как показывает практика, – это здорово и хорошо, но те, кто надеется и верит в неправильные вещи, становятся соучастниками пыток и массовых убийств, нравится им это или нет. И нельзя потом оправдывать себя тем, что идеология, эта коллективная история, казалась правильной или что ты ничего не знал, что тебе ничего не сказали. Когда речь идет о насилии, о смертельном насилии, нельзя списывать все на свои ощущения.
Несколько лет назад я брал интервью на радио у пожилой переводчицы русской литературы, приятной женщины, которой было уже под 80. Ее отец был австрийским коммунистом, и, когда в 1930-е годы на его родине шли гонения на коммунистов, всю семью пригласили в Москву и поселили в знаменитой гостинице «Люкс», где жили все почетные гости из-за рубежа. И где Сталин мог за ними приглядывать.
Переводчица рассказала о своем детстве в этом странном месте, где колоссальный идеализм и надежда на лучший мир смешивались со страхом перед тайной полицией и внезапными бесследными исчезновениями друзей и знакомых. Сама она в молодые годы тоже была ярой коммунисткой и видела в Советском Союзе Новый Иерусалим, но однажды лишилась иллюзий и вернулась в Австрию – страну, которую едва знала.
С тех пор она переводила русскую литературу, но в места детства не возвращалась.
Я задал ей вопрос:
– Как вы себе объясняете, что проект, в который вы так глубоко верили вместе с миллионами людей, проект, в который столько человек в разных странах вкладывали мечты и надежды, оставил настолько длинный кровавый след в истории?
Наступило молчание.
Мы были в прямом эфире. Все еще молчание. В такие моменты начинаешь нервничать, если ничего не происходит. На радио подобную тишину в эфире называют Dead Air. Но переводчица сидела и долго обдумывала мой вопрос, а потом ответила очень просто:
– Я всю жизнь размышляла над этим, каждый день. И сегодня могу сказать вам одно: я не знаю.
Она, как и миллионы людей, посвятивших себя идеалам, в конце концов поняла, что усилия были напрасными, что они впустую потратили время и надежды или, еще хуже, стали пособниками убийц и все ради благой цели, которая отдалялась, пока не исчезла совсем. В XX и в начале XXI века миллионы оказались на руинах мечты и надежд. По сей день люди ежедневно покидают дома под бомбежками и в своем отчаянии часто глубоко и жгуче надеются, даже если некоторые из их надежд – фантазии о мести.
Похоже, надежда любит руины. Но это настолько прописная истина, что к ней уже из принципа нужно относиться с недоверием. На самом деле все наоборот. Когда у людей есть надежда, они способны преодолеть многое и не потерять ее. А в богатых и мирных обществах многие живут без надежды (нам еще предстоит выяснить, почему так происходит).
Извини за суровый урок реализма, но, именно когда ты задаешься вопросом о возможности надеяться, тебе нельзя исходить из ложных предпосылок или блаженных иллюзий. Необходимо ясно осознавать, в каком положении мы находимся и что нас ожидает, в каком мире ты будешь обращаться к своей надежде.
Так неужели надежда невозможна? Скажем так: если ты в поиске мудрой формы надежды, возможности надежды, то важно понять свою позицию и признать, что надежда связана с рисками и эти риски делают тебя уязвимым.
Один из таких рисков заключается в том, что невозможно заранее узнать, окажутся ли усилия оправданны и не будут ли твои надежды растоптаны или перевернуты до неузнаваемости. Политические надежды требуют долгого исторического дыхания, ведь лишь немногие люди, которые в прошлом пытались что-то изменить, действительно достигли своего.
И все же мы живы, а я могу написать тебе это письмо – лишь потому, что бесчисленное множество людей до нас надеялись, верили и боролись за то, что казалось абсолютно неслыханным и нереалистичным. До нас не дошли имена большинства этих героев и героинь, и лишь немногие из них добились того, за что боролись. Многие умерли в полной уверенности, что ничего не добились, что их надежды не оправдались. Но они были звеном цепи безнадежных надежд, и благодаря этому сегодня существуют страны, в которых люди могут свободно высказывать мнение и вместе определять свое будущее (по крайней мере, в теории).
Ребекка Солнит пишет, что надежда зачастую амбивалентна и ее трудно распознать, поскольку она плетет собственную, так сказать, подземную сеть незаметных на первый взгляд историй и связей. «Арабская весна» 2011 года, когда сотни тысяч людей осмелились мечтать о лучшем мире без замшелых диктаторов и массово вышли на улицы, была вдохновлена американским борцом за права Мартином Лютером Кингом двумя поколениями ранее. И цепочка вдохновения из книг, встреч и совместных надежд тянется еще дальше в прошлое, от Кинга к Махатме Ганди, ко Льву Толстому и радикальным протестам британских суфражисток, которые в начале XX века боролись за избирательные права для женщин и, в свою очередь, обращались к примеру Французской революции. Это похоже на корневую систему, прорастающую сквозь века, подземную грибницу, причем видим мы лишь ее плоды – грибы, внезапно появляющиеся из земли.
Однако «арабская весна» не привела к долгосрочным позитивным изменениям в регионе, скорее наоборот. Во время мятежа погибло 60 000 человек, также к его последствиям относят переворот в Ливии и страшную гражданскую войну в Сирии. В наши дни большинство арабских стран Средиземноморского региона находятся в отчаянном положении, а политика государств как никогда авторитарна. Получается, лучше не надеяться? Или нам нужно более долгое историческое дыхание, чтобы понять, какое влияние этот акт коллективной надежды и коллективного расширения возможностей оказал на конкретное поколение – вдохновил ли он надеяться дальше, надеяться смелее или же исчез в забвении, которое диктатура накладывает на жизнь?
Политическая реализация больших надежд всегда трудна и скучна, она приносит разочарование, а результаты никогда не признаются всеми сторонами. Реалисты будут настаивать на том, что хоть какое-то решение лучше его отсутствия, идеалисты – жаловаться, что их мечты предали. Миротворческие процессы в Колумбии и Руанде сегодня подвергаются критике, но благодаря им меньше людей становятся жертвами политического преследования и многие семьи начинают строить свое будущее. И пусть эти процессы постоянно заходят в тупик и редко обретают долгосрочное решение, это, по крайней мере, хотя бы ненадолго позволяет детям расти в мирное время и демонстрирует, что можно договориться даже при самых глубоких разногласиях. Это тоже имеет значение.
Все сбывшиеся надежды меняются и искажаются под воздействием косности реальности. И очень легко забыть о том, как много было достигнуто. То, что еще вчера казалось невозможным, уже на следующий день после воплощения в жизнь часто воспринимается нами как устаревшее и само собой разумеющееся, как плохая копия наших идеалов. Европейский союз, например, не только крайне непопулярен, но и очень-очень далек от идеала и даже от истинной демократии. Тем не менее еще 100 лет назад абсолютно нелепой казалась идея, что враждующие государства, уничтожившие в войнах миллионы людей, образуют союз, который будет стоять на страже самого долгого периода мира на континенте. Это, конечно, связано не только с надеждой, но и с опытом мировых войн. Порой травма, обоснованный страх и сильное совместное переживание открывают ранее немыслимые политические возможности.
Вот что я хотел сказать тебе во время нашего последнего разговора, когда не смог дать удовлетворительного ответа на твой вопрос: катастрофические обстоятельства довели нас до грани отчаяния и спустя более сотни лет несбывшихся надежд и провалившихся идеологий стало в принципе труднее на что-либо надеяться. И все равно: неплохо напоминать себе, что надежда способна проникать в реальность и менять ее.
Однако для многих моих собеседников эта способность недосягаема. Будущее превратилось в угрозу. Несмотря на все достижения последних десятилетий, несмотря на рост и богатство, науку и развлечения, несмотря на спортивные площадки и частные дома, асфальтированные дороги, супермаркеты и рестораны, несмотря на плоские экраны и чартерные рейсы, несмотря на два поколения мирной жизни, многие люди хотят избежать будущего, потому что для них оно не принесет ничего хорошего.
Гораздо сложнее надеяться, когда живешь в обществе, которое стремится не допустить завтрашнего дня, которое не хочет иметь ничего общего с изменениями, которое сделает все, чтобы не потерять накопленное, и которое надеется главным образом на то, что все останется как прежде, поскольку бытует мнение: все не может стать еще лучше, еще богаче, еще безопаснее, еще свободнее и еще круче.
