Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
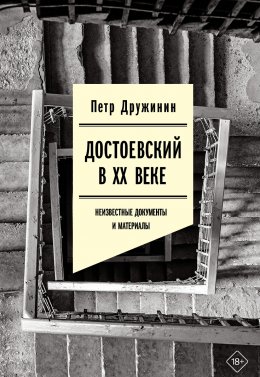
УДК 821.161.1(092)Достоевский Ф.М.
ББК 83.3(2=411.2)52-8Достоевский Ф.М.
Д76
Утверждено к печати ученым советом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Рецензенты: Н. Н. Подосокорский – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Ф. М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН И. В. Ружицкий – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН
Петр Дружинин
Достоевский в ХХ веке: неизвестные документы и материалы / Петр Александрович Дружинин. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
Что внимательное изучение источников может рассказать нам о судьбе наследия Ф. М. Достоевского в XX веке? Книга Петра Дружинина посвящена основным вехам истории науки о Достоевском: опираясь на большой корпус ранее неизвестных материалов, автор прослеживает, как в разные периоды менялось отношение к классику и его текстам. Исследование охватывает период от первых пореволюционных лет, когда власть не могла сформулировать свою четкую позицию, через 1930‑е, 1940‑е и 1950‑е годы, когда наследие Ф. М. Достоевского подвергалось жесткой критике, и до реабилитации, хоть и не полной, в период Оттепели. Сюжеты, собранные в книге и подкрепленные обширным документальным приложением, складываются одновременно в увлекательный источниковедческий детектив и трагическую историю о посмертной судьбе мирового классика. Петр Дружинин – историк, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
На обложке: фото Wirestock. Freepik.
ISBN 978-5-4448-2884-7
© П. А. Дружинин, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
К читателю
Замысел настоящего издания возник в процессе написания нашей книги «Текст Достоевского: историко-филологические разыскания». Разбирая историю публикации текстов писателя при его жизни, мы пытались проследить и за тем, как происходило исследование этих текстов уже позднее, в ХX веке, когда сложилась текстология как академическая наука. В связи с этим мы провели масштабный поиск как архивных, так и уже опубликованных материалов по этой теме и с удивлением обнаружили, что до сих пор остаются неизвестными, затерянными, неучтенными многие важнейшие документальные свидетельства, без которых история науки о Достоевском оказывается вопиюще неполной. Более подробное изучение источников позволило нам выявить ряд магистральных тем в отношении к Ф. М. Достоевскому в ХX веке.
Это и ситуация в первые пореволюционные годы, когда государство не знало, как ему поступить и к какому лагерю отнести классика, это и события 1930‑х годов, когда писателя и его наследие наделяли демонической силой, насаждали миф о ущербности его творчества, препятствовали публикации его произведений и научных исследований о нем. Постепенное запрещение Ф. М. Достоевского в СССР в 1930‑е годы неразрывно связано с совершенно неизвестной ранее проблематикой – образом Достоевского как орудия немецкой пропаганды эпохи Второй мировой войны. Надежды первых послевоенных лет сменились в 1947 году идеологической кампанией против наследия Достоевского, а события 1950 года, когда впервые было обнародовано письмо Ленина к Инессе Арманд, окончательно сделали Достоевского запретным автором. Переломный этап науки о Достоевском, связанный с оттепелью, также рисуется выявленными документами иначе; особенно важно сказать о секретных постановлениях высших органов коммунистической партии о писателе…
Эти и другие вехи истории науки о Достоевском в ХX веке, в большинстве своем ранее неизвестные, очерчены нами в этой книге. Исследование сопровождается обширным документальным приложением – корпусом ранее неизвестных материалов, без которых невозможно составить подлинную картину о трагическом существовании Федора Михайловича Достоевского в ХX веке.
Выражаем искреннюю благодарность тем, чья помощь способствовала появлению настоящего издания – коллегам по Институту русского языка им. В. В. Виноградова, прежде всего Анне Флорес и Анастасии Преображенской; Дмитрию Тамазову и Никите Черепову; Николаю Подосокорскому и Игорю Ружицкому – благожелательным и внимательным рецензентам этой книги; особенная же наша благодарность – издательству «Новое литературное обозрение» и лично Ирине Прохоровой, Татьяне Тимаковой, Дмитрию Макаровскому, Ольге Понизовой, без которых книги «Текст Достоевского» и «Достоевский в ХX веке» не были бы изданы столь безупречно.
Часть первая
Достоевский и революция
Как хорошо известно, Федор Михайлович Достоевский стал признанным писателем Советской России 30 июля 1918 года. В этот день председатель Совета народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал постановление, которым утвердил представленный Наркомпросом «Список лиц, коим предположено поставить монументы в городе Москве и других городах», в котором имелся перечень двадцати наиболее почитаемых новой властью «Писателей и поэтов»: 1) Толстой. 2) Достоевский. 3) Лермонтов. 4) Пушкин. 5) Гоголь…1 Иными словами, в тот день Достоевский показался основателю Советского государства даже более значимым, нежели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, уступая лишь Толстому.
Такому выбору, вряд ли полностью осознанному, предшествовали некоторые события: вопрос об ассигновании средств на будущие памятники был рассмотрен Совнаркомом на заседании 29 июня 1918 года, однако собственно вопрос выбора «великих людей в области революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, наук и искусства» стоял в повестке заседания 17 июля, где его докладывал М. Н. Покровский2; 29 июля Отделом ИЗО Наркомпроса был подготовлен и список великих, включивший Ф. М. Достоевского3.
Первым серьезным поводом, который потребовал через три года от советской власти вновь определить свое отношение к Ф. М. Достоевскому, стало столетие со дня рождения писателя в 1921 году. В. Ф. Переверзев, переиздавая к юбилею свою книгу 1912 года, предпослал новому изданию очерк «Достоевский и революция», в котором отметил связь давно умершего писателя с современностью, глубокое понимание Достоевским сути происходящего, «как будто писатель вместе с нами переживает революционную грозу»:
Пророк не пророк, но что Достоевский глубоко понимал психологическую стихию революции, что еще до революции он ясно видел в ней то, о чем в его пору, а многие и в дни революции, даже и не догадывались, – это неоспоримый факт. Читайте Достоевского, и вы многое поймете в переживаемой драме революции, чего не понимали; многое оправдаете и примете, как должное, чего не понимали и не оправдывали4.
Неудивительно, что книга с таким призывом впоследствии стала достоянием спецхрана5. Однако те литературоведы, которые стояли намного ближе к партии, понимали трудность принятия писателя новой властью. Осенью 1921 года В. Львов-Рогачевский, состоявший в штате политотдела Главного управления военно-учебных заведений Реввоенсовета Республики, составил тезисы лекций о Достоевском, которые вошли в текст циркуляра о праздновании юбилея6. Учитывая, что с момента основания политотдел ГУВУЗ работал под руководством ЦК РКП(б)7, этот документ выражал умонастроения руководства молодой Советской республики. И хотя, как принято думать, «дата столетия Достоевского оказалась последним на ближайшую полувековую перспективу свободным юбилеем»8, в действительности уже тогда отношение власти к писателю было сформулировано в такой тональности, которая ничего хорошего не сулила:
Мироощущение Достоевского делает его художником больной души, души надорванной, извращенной, подпольной и подточенной. Противоречия, вытекающие из социального положения промежуточного слоя мещанства, создают душевный уклад полный противоречий в психике Достоевского и его героев9.
Усиленно проводится мысль о поврежденности не только героев Достоевского, но и самого писателя, отмечается «припадочность и упадочность художника, стоящего на рубеже двух эпох»10. Критик А. М. Лейтес, сравнивая Достоевского с Данте, даже назвал писателя «человеком ада»:
Достоевский только потому больше всех достоин называться «человеком ада», что, как художник, в жизни он видел только ад, и, главное, кроме ада ничего в жизни видеть не хотел. И Данте рисовал нам свой фантастический ад, но он же нарисовал нам (пусть менее удачно) и свой фантастический рай, не-фантастическую – Беатриче, эту очаровательную путеводительницу по райским местам. Достоевский же может быть и верит в существование рая, может быть и знает о возможности рая, но Достоевский не хочет рая. Он бунтует, он с пеной у рта протестует против рая, он отбрыкивается от рая-социализма и руками и ногами. И проводника в этот рай он себе представляет не иначе, как только в виде этого отвратительного, длинноухого Шигалева из «Бесов»…11
Романтика революции довольно долго сохраняла настроения начала века о Достоевском-пророке:
Этот мятущийся художник, полный двойственных переживаний, автор «Двойника», «Подростка», «Бесов» предвосхитил идеи Ницше о сверхчеловеке, Шпенглера о закате Европы, предвидел величайшее потрясения наших дней и дал оружие смертельно враждующим станам12.
Однако в середине 1920‑х годов внимание привлекает упадничество идеологии Достоевского – так называемой достоевщины. Этот уничижительный термин к тому времени стал обыденностью: на рубеже веков его активно употреблял А. В. Амфитеатров, в 1910‑х годах его не стеснялись Вяч. Иванов и Д. С. Мережковский, но появился он значительно раньше. Дополняя опубликованные ранее мысли об истории и значениях этого термина13, скажем, что возник он еще при жизни писателя, в год смерти Ф. М. Достоевского он отмечен в «Русском вестнике», где в рецензии на роман М. И. Красова (Л. Е. Оболенского) «Запросы жизни» (СПб., 1881) говорится о том, что
в числе «запросов жизни» фигурирует достоевщина чистой воды в лице некоего Пименова. Теория этого Пименова довольно известна: «Я не говорю, – проповедует Пименов, – что страданий нет, я говорю только, что они – иллюзия…»14.
Для низвержения писателя и идеологии достоевщины устраиваются даже «диспуты о Достоевском». Один из них состоялся 23 марта 1924 года в Юзовке (Сталине; ныне Донецк), причем для остроты мероприятия и привлечения публики этот диспут назывался «судом». Защитником писателя выступил профессор-лингвист А. В. Миртов, в тот момент декан литературно-исторического факультета Донского пединститута в Новочеркасске. И сначала защитник был серьезно побит на самом диспуте, затем вынужден был выступить с объяснительной, отчасти примирительно статьей15, но в ответ был бит еще сильнее, уже печатно, с окончательным приговором и Достоевскому:
А теперь по существу – неправда, что Достоевский «величайший летописец души человеческой». Тысячу раз неправда!
Достоевский, попросту, психопат, садист, восприявший жестокость, излелеявший культ страданий и небывалых переживаний. Его романы надуманы, не реальны, а стало быть и не художественны, его герои это галерея выродков, незнающих и непонимающих ничего, кроме вина, разврата и терзаний, его мораль – православие и смирение, его истина это клевета на человечество, это плевок в лицо всему здоровому, сильному, отметающему в сторону догмы страданий.
И напрасно вы, профессор, пытаетесь его судить «в условиях жизни».
Достоевщина и сейчас живет в некоторой части нашей интеллигенции, Достоевщина – в Миртовщине и наше дело ее осудить, именно, в условиях нашего времени, времени обогащенном идеями Ильича16.
Несмотря на такие характеристики, в центральной печати для писателя сохраняется место. В 1924 году, когда В. Львов-Рогачевский перерабатывал свою книгу «Новейшая русская литература», критик задался справедливым и принципиальным вопросом об отношении советской власти к Достоевскому:
Всегда вокруг этого хаотически-смешанного творчества, вокруг пестрой драмы кипела огненная борьба, кипела эта огненная борьба и в мятущемся сердце художника. Этот пафос борьбы делает художника близким эпохам катастрофическим. И недаром 25-летие со дня его смерти совпало с 1906 годом, с разгромом декабрьского восстания, и недаром столетие со дня его рождения совпало с 1921 годом. Из всех современных нам художников Федор Михайлович – наиболее современный, как это ни звучит парадоксально. Для объективного изучения его творчества еще не настало время, еще слишком тенденциозно и публицистически ставился вопрос: по пути или не по пути Достоевскому с советской Россией. Но сейчас, как никогда раньше, скопляются обильные материалы, которые подготовят почву для научного историко-литературного исследования этого изумительно-богатого творчества17.
Без всяких перемен этот абзац повторяется в пяти переизданиях этой крайне популярной книги В. Львова-Рогачевского, претерпевавшей изменения от издания к изданию18, но не в части характеристики Ф. М. Достоевского. Эпоха Великого перелома не оставит места для подобных вопросов, и недаром в 1932 году, уже после смерти критика, его нерешительности был вынесен суровый приговор:
Хотя Львов-Рогачевский и отошел после 1917 от политической деятельности, но меньшевистское прошлое густо окрашивало собой его литературно-критическую продукцию. Отсюда – беззубый, бесхребетный, на каждом шагу отмеченный типичным мелкобуржуазным либерализмом характер его критики, никогда не умевшей правильно находить и бить врагов пролетариата в литературе и очень часто выдававшей врагов революции за ее друзей19.
В. Ф. Переверзев свое последнее слово о Достоевском сказал в 1930 году, назвав писателя «гениальным представителем литературного стиля, созданного городским мещанством в условиях разрушения сословно-крепостнического строя и нарождения капитализма», отмечая «двуликость и противоречивость» его творчества, указывая на сложность современной оценки писателя марксистской критикой, которая «видит в Достоевском бунтаря, тяготеющего к смирению, и смиренника, тяготеющего к бунту, революционера, тяготеющего к реакции, и реакционера, тяготеющего к революции»20.
Но и этот критик был повержен – В. Ф. Переверзева, который, конечно, по широчайшему кругозору, пониманию и знанию русской литературы и путей ее развития был на голову выше рапповских критиков, по сути, выжили из науки, объявили проводником меньшевизма, который в собственных работах «разоблачил свое ревизионистское отношение к ленинской точке зрения на развитие буржуазно-демократической революции в России», а его система была объявлена «существеннейшим препятствием на пути дальнейшего развития марксистско-ленинского литературоведения»21. Будучи впоследствии дважды арестован и дважды осужден, этот историк литературы смог по крайней мере умереть своей смертью.
Научная деятельность исследований творчества Ф. М. Достоевского в первое пореволюционное десятилетие была лаконично очерчена П. Н. Сакулиным:
В Москве (в Историческом музее и Центрархиве) хранятся драгоценные материалы по Достоевскому. Частью они уже подготовлены к печати. Запад жадно интересуется ими и, насколько можно, уже пользуется ими (например, в монографии о Достоевском Мейера Грефе), но Центрархив всё еще не может выпустить их в свет.
При литературной секции ГАХН работает особая комиссия по изучению Достоевского. Оживленная и плодотворная работа происходит и в других центрах. Уже выделились большие специалисты по Достоевскому: В. Ф. Переверзев, Л. П. Гроссман, А. С. Долинин-Искоз, Н. Л. Бродский, Г. И. Чулков, В. С. Нечаева, А. Г. Цейтлин и др. Каждый из названных ученых дал значительные работы по Достоевскому. А. С. Долинин, который уже выпустил два обширных сборника по Достоевскому, готовит ныне трехтомное собрание его писем22.
Юбилей 1931 года
50-летие кончины писателя было отмечено довольно большим событием – появлением в конце февраля 1931 года23 однотомника Ф. М. Достоевского, общая редакция которого велась А. В. Луначарским. После оконченного Ленинградским отделением Госиздата Полного собрания художественных произведений это было первое массовое издание сочинений писателя, хотя тираж в 20 тысяч экземпляров на фоне эпохи безусловно невелик. Провозгласив критерием отбора произведений «стремление представить Достоевского его крупнейшими созданиями, сохраняющими свое социальное значение для нашей эпохи»24, в этот кирпич из «пятикнижия» включили только два романа – «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» (без главы «Великий инквизитор»).
Вступительная статья А. В. Луначарского «Достоевский как мыслитель и художник» дает нам понимание о месте писателя в тот конкретный момент в истории Советского государства. Примечательно, что нарком никоим образом не подвергает сомнению его гениальность:
Рядом с Толстым, – может быть, не уступая ему по общим размерам дарования и значительности оставленного им наследства, стоит другой гениальный мировой писатель нашей литературы – Федор Достоевский25.
Однако после некоторых констатаций и художественных рассуждений, в части выводов оказывается, что особенных перспектив Достоевскому не предоставляется; то есть вся актуальность Достоевского – лишь в качестве страшилища; и если Запад зачитывается им, то советский читатель должен знать его творчество только чтобы иметь яркий отрицательный пример, который поможет спасти и себя и страну от «достоевщины». Даже более: как будто целью публичных политических процессов, предвестников Большого террора, является выкорчевывание той самой «достоевщины» из сограждан:
Никогда Достоевский не имел такого колоссального значения на Западе, как в последнее время. Это объясняется тем, что мировая война вскрыла всю хаотичность и непрочность внешне до некоторой степени упорядоченного ко времени ее начала капиталистического строя. Этот новый распад и неуверенность прежде всего испытали на себе страны, потерпевшие поражение. В Германии, например, Достоевский читается и изучается, как никакой другой мировой писатель. Там появились и собственные Достоевские, вроде экспрессиониста Германа Гессе, который в своем романе «Степной волк» заявляет, что исходом из мрачной жизни к радости является только самоубийство или шизофрения (слабоумие).
Но спаслись ли мы сами от достоевщины? Нет, конечно же, нет! Нам, пролетариям-коммунистам, и всем людям социалистического строительства приходится жить в мелкобуржуазном окружении. В условиях нашей трудной и героической стройки это окружение колеблется, разлагается самым причудливым образом. Разве во вредительстве, в котором мы начинаем разбираться до дна26, мало самой подлинной достоевщины?
Мы не можем даже утверждать, что мы сами, то есть та среда, которая сознательно и самоотверженно строит, полностью спасена от достоевщины. Ведь борьба за социализм происходит не только вне человека, но и внутри его, а, как говорил Ленин, старых мещанских предрассудков много и в пролетарии, подчас и в коммунисте. Вся психология сомнений и колебаний, личной обидчивости, фракционерства, вся эта усложненность политико-бытовых взаимоотношений, к великому стыду, родственна достоевщине.
Вот почему Достоевский является и для нас живым и ярким показчиком таких отрицательных сил сознания и поведения, которые нам нужно изучать по нему для нашей собственной практики, ибо знать людей в этих неизжитых еще слабостях – это сейчас немалая задача для каждого организатора, для каждого строителя.
Однако здесь мы должны со всей силой подчеркнуть, что если мы должны учиться по Достоевскому, то никак нельзя нам учиться у Достоевского. Нельзя сочувствовать его переживаниям, нельзя подражать его манере. Тот, кто поступает так, то есть кто учится у Достоевского, не может явиться пособником <социалистического> строительства, он – выразитель отсталой, разлагающейся общественной среды <…>
Для нового человека, рожденного революцией и способствующего ее победе, пожалуй, неприлично не знать такого великана, как Достоевский, но было бы совсем стыдно и, так сказать, негигиенично подпасть под его влияние27.
Преодолеть Достоевского
Достоевским в наше время легко увлечься.
Во-первых, вообще мало писателей, столь увлекательных, как Достоевский.
Во-вторых, увлекательность его нервическая, а наш век и наши писатели все еще до крайности нервны, и хотя новый класс, выступивший на первый план, обладает нервами довольно крепкими, но не может же он сразу «заразить» ими все остальные классы и группы; а самое время наше отнюдь не обладает способностью не очень крепкие нервы успокоить.
В-третьих, Достоевский не просто нервически увлекателен, а он еще увлекателен тем, что доводит до раздирающих противоположностей реальные противоречия, существующие в жизни. Он остро, больно, пугающе ярко отражает действительные раны, которые носит время на своей груди. «Носило, – скажете вы, – носило время Достоевского, время, когда сокрушительной поступью капиталистический хаос ринулся на русскую жизнь». – «Нет, – отвечу я, – носит». Носит и сейчас, когда молодой, стройный, но еще не до конца созревший социализм начинает приводить в порядок этот самый буржуазный хаос28.
Это начало еще одной статьи А. В. Луначарского – «Достоевский и писатели», – напечатанной в памятный день 9 февраля 1931 года. Подчеркивая положительное в обращении писателей к классику, хотя и в свойственной себе манере, заканчивает он напутствием всем тем, кто рискует некритически увлечься Достоевским. Для них
изучение и понимание Достоевского превратятся в увлечение, может быть, скорбное, смешанное пополам с проклятием, но все-таки в увлечение, которое только усугубит либо их сумасшедше-горделивую веру в то, будто их болезнь есть здоровье, либо их суетную надежду найти исцеление в мистицизме, патриотизме, самоанализе, самовозвеличении или самоуничижении29.
И следующие десять лет после выхода в свет однотомника 1931 года государство предпринимает серьезные усилия, чтобы отвадить граждан от чтения Достоевского: довольно быстро стало ясно, что осуществление в 1926–1930 годах Госиздатом полного собрания художественных произведений Ф. М. Достоевского стало не только серьезным шагом текстологической науки, но и серьезной идеологической ошибкой. Так что потребовался и Великий перелом в отношении к писателю: начинается этап «преодоления» Достоевского – вышибание из граждан идеологии «достоевщины». Для осуществления столь масштабной задачи за дело взялись «инженеры человеческих душ», то есть писатели.
Ранее уже обращалось внимание на некий подтекст в советской литературе, однако как на неумышленное явление:
На рубеже 1920‑х и 30‑х годов в ряде произведений советской литературы утверждение героев трудового деяния связывалось с критическим отношением к современным наследникам рефлексирующих созерцателей Достоевского: И. Ильф и Е. Петров сатирически изображают их в «Двенадцати стульях» в образах Васисуалия Лоханкина и жителей «Вороньей слободки»; обитатели скита в «Соти» Л. Леонова гротесково и шаржированно напоминают героев «Братьев Карамазовых»; И. Эренбург в «Дне втором» болеющего Достоевским Володю Сафонова соотносит с Николаем Ставрогиным. Думается, что в этих произведениях не было никакой злонамеренности в изображении современных созерцателей, напоминающих героев Достоевского, а показывался их реальный облик и положение в период, как считали, героического деяния30.
Но были и произведения, где именно злонамеренность была очевидной. Речь о повести Валерии Герасимовой «Жалость», которое было призвано помочь читателям Страны Советов преодолеть Достоевского.
В начале 1930‑х годов имя В. Герасимовой было общеизвестным: молодая советская писательница, коммунистка, активистка РАППа, первая жена Александра Фадеева; тогда даже казалось, что она заняла свое место в одном ряду с такими авторами, как Исаак Бабель или Юрий Олеша, ее произведения были популярны и обсуждаемы, произведения исправно рецензировались во многих журналах… Особенно ее прославил сборник рассказов «Панцирь и забрало» (1931) – он был напечатан тремя издательствами. 15 мая 1932 года эту книгу она подарила М. Горькому, сопроводив следующей надписью:
Дорогому Алексею Максимовичу – до конца последовательному борцу с ложью, лицемерием, подлостью, фразерством, лакейством, – со всем наследием старого мира. С уважением В. Герасимова31.
И вот 5 июня 1932 года «Литературная газета» известила читателей о том, над чем работают современные писатели. Наряду с информацией о трудах Михаила Зощенко, Пантелеймона Романова, Константина Федина сообщалось и о том, что Валерия Герасимова «закачивает повесть „Жалость“ (4 печ. листа) о классовой сущности гуманизма»32.
Это лаконичное определение будет вскоре раскрыто, когда повесть начнет печататься в журналах, сначала фрагментами, но неизменно содержащими основные положения о Достоевском, причем большой отрывок вошел, например, осенью 1932 года в юбилейный сборник «Писатели – Великому Октябрю»33 (между стихами Джека Алтаузена и Эдуарда Багрицкого); и уже в полном виде повесть появилась в 1933‑м в «Красной нови», а весной 1934‑го вышла и отдельной книгой34. Речь в повести ведется не столько о классовой сущности гуманизма, сколько о классовой сущности Достоевского – «это полемика автора наших дней с автором о „великой жалости“ к „оскорбленным и униженным“»35, и «Герасимова удачно „обыгрывает“ Достоевского, его биографию и идеи, чтобы снять надклассовую маску с жалости, чтобы остро и резко поставить вопрос о революционном и реакционном насилии над личностью»36.
Фабула этой довольно путаной повести такова: в провинциальный город в начале 1930‑х приезжает лектор, интеллигент, который проповедует добро и справедливость, и выступает с лекцией о творчестве Ф. М. Достоевского по случаю юбилея писателя; на одной из лекций присутствует начальник строительства гидростанции, который узнает в лекторе белогвардейца и арестовывает его. Далее повествуется о предшествующих событиях, когда к коммунистке и члену ревтребунала Тане Полозовой пришел хлопотать об арестованном бывшем промышленнике «очень привлекательный молодой человек с голубыми глазами, с пшеничной бородкой». Таня узнает в нем того, кто ей раньше нравился, – Андрея Померанцева, но сейчас она его ненавидит как идеологического противника. Затем повествование движется вглубь хронологии – к юности героини, дочери телеграфиста, которая подпала под влияние гуманистических идей Достоевского. Однажды в дом Полозовых приходит председатель ревтрибунала Богуш, знавший покойного отца девушки. Со всей точностью и прозорливостью коммуниста он определяет истинную идеологию Достоевского, после чего Таня Полозова избавляется от «достоевщинки», вступает в партию. Когда ночью в городе вспыхивает восстание белогвардейцев, всех коммунистов расстреливают, но Тане удается укрыться на чердаке у старика-рабочего; тот рассказывает матери Тани, которая убивалась по дочери, что она жива; мать же рассказывает о тайном месте единственному, самому доверенному другу – Померанцеву. На деле проповедник идей Достоевского оказывается предателем и лично участвует в убийстве Тани.
Отношение к Достоевскому в повести занимает главное место. Уже в самом начале, когда говорится о привлекшей внимание лекции, возникает образ писателя-гуманиста:
Это была юбилейная дата величайшего русского и мирового писателя, чей мучительный гений воздвиг ослепительный памятник бесконечному людскому страданию. Гениальный и страдальческий этот писатель был официально признаваем «несозвучным эпохе», – может быть, этим и объяснялось то совершенно неожиданное и напряженное внимание, которое сопровождало эту чисто литературную лекцию37.
Валерия Герасимова, отвлекаясь от будней строительства гидростанции, передает в подробностях содержание лекции – о детстве и юности Достоевского, о смертном приговоре, о каторге…
Но вот в чем необъяснимое. Казалось бы, именно теперь пришло время для еще большего, бешеного неприятия и «бунта». И бунта еще менее беспредметного. Бунта, направленного против совершенно реальной, ощутимой силы. Против всех тех, кто душит его и подобных ему.
Однако – неожиданное… Именно там, в мрачной преисподней Мертвого дома, склоняется этот человек над страницами древнейшей книги, которой благословила его на страдание жена одного из декабристов.
А оказалась эта книга не только благословением на страдание, но и неожиданной дорогой к просветленной гармонии.
Для окончательно ясности заранее должен подчеркнуть, что совсем не религиозное значение имела для него эта древняя книга.
Ведь просто смешно было бы сейчас ворошить какое бы то ни было аляповатое, невежественное и корыстолюбивое поповство! Нет, в этом сборнике древней мудрости открылись ему самые жизненные, простые истины. Главное, открылось ему, что сам по себе человек неповторим и ценен. И что этой ценностью равны между собой и люди в енотовых пышных шубах и люди из затхлого, униженного подполья; что в каждом большом и самом маленьком, в «богатом» и «бедном», в вечном каторжанине и выпачканном чернилом чинуше, – лежит священное и одинаковое право на счастье и на смысл своей единственной, раз сбывающейся жизни.
Далее лектор подробно рассказывает о муках Раскольникова, передает с чувством рассказ Ивана Карамазова о страдающих детях38. И как будто даже сочувственно писательница ищет в сердцах читателей отклик на те идеи «внеклассового гуманизма», которые лектор проповедовал, и находит он сочувствие у слушателей в повести.
Но поскольку фабула такова, что эти идеалы Достоевского окажутся маской классового врага и убийцы, то начинается новая глава, из прошлого, которая рассказывает о Тане Полозовой. Сначала как о члене ревтрибунала и принципиальном коммунисте, затем далее вглубь хронологии, начиная от ее гимназических лет – как, отрекшись от романтической поэзии, она поняла суть жизни:
Достоевский! Только он говорил о жизни всю правду, которую можно было сказать о ней!
И часто с напряженной благодарностью, со слезами на глазах думала она об этом бывшем каторжнике, унижаемом, слабосильном эпилептике, который сумел поднять человеческие страдания до огромной испепеляющей силы, до недосягаемой просветленной высоты.
И, одиноко и мрачно проходя в жизни, она несла в себе тайное утешение, тайную гордыню, что остается неизменно верной страдальческому, но единственно высокому своему уделу39.
Когда Таня неожиданно встречает коммуниста Богуша, то она обсуждает с ним именно Достоевского:
– Вот Раскольников, – сказала она, тяжело переводя дыхание – старуху убил…
– Это верно, – охотно подтвердил спутник, стараясь не выразить слишком явно удивления.
– Он старуху убил не по нужде. Да, не по нужде, – повторила она.
– А… вас вот что волнует! – сказал Богуш и глаза его ярко и живо блеснули.
– Да, – сурово подтвердила Полозова.
– Что ж, – несколько помолчав, добавил Богуш, – вы правы. Не прямая корысть заставила его убить ростовщицу. <…>
– Так вот, значит таких людей успокоить никак нельзя. Они будут всегда несчастливые и неспокойные. И страдать, значит, всегда будут. Чем их ни корми. Хоть три булки давай, – добавила она умышленно грубо.
– А кто же проповедует, что «три булки», как вы остроумно заметили, – верное лекарство от всех и всяких человеческих бед? – спросил Богуш и внимательно вгляделся в лицо девушки.
Удивленно промолчала и Морозова.
– Но только вот в чем вся штука, – помолчав, сказал он, – штука вся в том, что не только Раскольников, но и та настойчивость, с которой его творец отстаивает исключительные права отдельной личности – все это имеет свое, и в конечном счете совершенно реальное объяснение40.
Обстоятельное объяснение коммунистом идеологического вреда достоевщины и оказывается центральным местом повести, которое своим художественным ходом, наряду с финальным моментом – убийством Тани белогвардейцами – привлекло внимание и читателей, и литературной критики.
– А вообще то, что вы, как мне кажется, с таким уважением, с такой большой буквы называете Страданием, – это не особенно хорошая штука.
– Почему же… нехорошая штука? – даже приостановившись, спросила Полозова.
– Потому, что это клапан. Предохранительный такой клапан. Когда в человеке накопляются от всего того, что называют «неправдой жизни», такие силы, которые мучительно ищут выхода, к сожалению, очень часто он прибегает к этому клапану. И все то, что могло бы претворяться в энергию, в движение, выходит в виде отработанных паров. Достоевский – вот писатель, в высшей степени содействовавший такому, весьма изнурительному, но и весьма безвредному выпуску паров. Но главная штука в том, что постепенно создалась и идеализация этого занятия. <…>
Так вот, о механике «страданий». Главная штука в том, что у какой-то категории лиц постепенно создалась идеализация этого занятия: считается, например, что человек, возведший свои несчастья в перл создания, в какую-то высокую степень, будто даже чем-то компенсирует себя сравнительно с попросту несчастливым человеком. Он уже ощущает себя стоящим на какой-то «высоте» сравнительно с этим тихоньким простячком! Он уже с достоинством носит в себе эти свои «страдания», – точно они не разъедающий рак, а некий карат чистейшей воды! Они, наконец, дают ему нечто вроде цели и смысла существования. Забавно! – Богуш неожиданно сердито усмехнулся, так у него блеснули еще крепкие и белые зубы…41
Таня Полозова уже коммунист, работает в ревтрибунале, ходит в сапогах и гимнастерке, от нее зависит приведение в исполнение смертных приговоров; и хотя читает мало, она успевает перечитывать Достоевского уже как новый человек, с синим карандашом; и ее живущая в прошлом мать находит «Братьев Карамазовых» с этой правкой:
А на одной из страниц самого великого писателя-старца, чье имя сияло над всем миром как символ всечеловеческой любви и смирения, стояло дерзкое, кощунственное слово: «Ложь»42.
Вскоре с Таней знакомится тот самый голубоглазый молодой человек, бывший студент столичного университета Андрей Померанцев, находит в доме Полозовых временный приют, и затем покидает их дом. Завершает повесть ужасающая картина жестокого убийства коммунистки Померанцевым и его сообщниками, в том числе гимназистом с «гумилевской доблестью»43.
Как мы сказали выше, еще за год до публикации повести страна знала о том, что один из подающих надежды писателей-коммунистов работает над произведением, призванным развенчать идеологию мятущегося классика: первая публикация фрагмента еще не завершенной повести состоялась в 1932 году и уже содержала все ключевые моменты повести о Достоевском44. Однако публикации частей повести, неизменно с разоблачением достоевщины, а затем полные издания, которые как будто более чем доходчиво объяснили читателям ущербность гуманизма Достоевского, оказались затем серьезнейшим образом усилены. Речь о выступлениях критики: повесть была подробно рассмотрена в многочисленных рецензиях. Эти рецензии по-разному относились к дарованию В. Герасимовой, но были полностью единодушны в идеологической оценке: после Великого перелома ни о каких спорах речи уже не шло. Журнал «Литературный критик» в мартовской книжке 1934 года открыл целую дискуссию.
Ф. М. Левин отметил, что автор в повести выступает в привычной тональности: «Разоблачение классового врага и приспособленца, скрывающихся под личиной преданности, советскости, под маской гуманизма или какой-либо иной идеологической вуалью, прикрывающей его подлинное звериное, хищническое лицо, – эта тема давно уже стала объектом внимания автора „Жалости“», однако тема оказывается недостаточно проработанной:
Закрывая последнюю страницу, читатель испытывает понятное чувство неудовлетворенности, которое примешивается к положительной общей оценке идейного содержания повести и уменьшает его значение. Ибо суть повести сводится к тому, что в ней показан классовый враг, скрывающийся за ширмой проповеди любви и жалости, само же это прикрытие не разоблачено до конца. Это чувство неудовлетворенности, неполноты и недоработанности усиливается и серьезными художественными недостатками повести.
Последние были сильно акцентированы и завершались пожеланиями:
Стать ближе к жизни, надо писать проще и расширить свою читательскую аудиторию, надо поменьше рационалистического морализирования и интеллигентской литературщины, побольше соков и красок живой жизни и художественной плоти45.
Но остальная критика была боевой, уловившей смысл текущего момента:
Сорвать с классового врага вуаль гуманизма, показать что за этим «панцирем и забралом» скрывается враг, – вот большая и благородная задача, поставленная Герасимовой в ее повести46.
Разоблачение классового врага в литературных произведениях, срывание с него маски – дело важное уже тем, что оно приучает читателя к классовой бдительности, вооружает его на борьбу47.
Несмотря на успешное преодоление главной героиней своей «достоевщинки»48, отмечая что повесть есть указанный автором «путь к борьбе за утверждение коммунизма»49, критика видела все художественное несовершенство повести: обилие других действующих лиц, часто совершенно излишних и отвлекающих, повторение образов прежних сочинений писательницы, длинноты, что дало критике основание говорить и о большем – о неверном отображении уже коммунистических идей. Но не только их. Е. Б. Тагер указал, что «трактовка Достоевского в „Жалости“ страдает известной спорностью и односторонностью», и высказал мнение, что для доказательства, «что гуманизм в наших условиях превращается в ширму, прикрывающую все классово враждебные революции элементы», стоило не апеллировать к классикам литературы вообще, а раскрывать характеры современников иными средствами: «Вместо того, чтобы сразиться с врагом лицом к лицу, Герасимова наносит ему удар в спину»50.
Даже западная критика отметила эту повесть, особенно скажем о большой рецензии Г. В. Адамовича. Пересказывая сюжет, он делает вывод, что «Опыт „преодоления Достоевского“ удался. Герасимова с удовлетворением кладет перо и ставит точку»51.
Действительно, критика отметила победу советской литературы над Достоевским; однако то была пока победа локальная:
Социалистической литературе еще предстоит «посчитаться» со всеми проблемами мировой литературы, со всеми ее «проклятыми» вопросами. <…> Есть много художников, в том числе и гениальных, с которыми нужно будет поспорить нашей литературе! И в их числе на одном из первых мест находится имя Достоевского. Полемика с Достоевским!52
И недаром в рецензии А. Лаврецкого на вышедший тогда же третий том писем Ф. М. Достоевского, которая по случайности была напечатана в том же номере журнала, где и рецензия Е. Тагера на повесть В. Герасимовой, подверглась жестокой критике позиция А. С. Долинина:
Достоевский особенно интересен для нас как писатель, в творчестве которого социализм и революция являлись центральными проблемами. Но его постановка и решение этих проблем глубоко враждебны социализму и революции.
Достоевский – враг, но враг гениальный и тем самым более опасный, более влиятельный, захватывающий более широкий круг действия, чем всякие Катковы, Победоносцевы, Страховы, Мещерские и др. Он представляет особый вид реакционера, враждебность которого нам осложнена и углублена его гениальностью, часто вызывавшей разногласия между ним и его менее проницательными соратниками.
Вот этого, еще до сих пор живого врага должен видеть в Достоевском советский исследователь53.
Летом 1934 года сообщалось, что «В. Герасимова будет писать для Ленинградского кинокомбината сценарий по своему роману „Жалость“»54, но этот замысел не был осуществлен. В 1940 году в массовой библиотечке «Огонька» выходит книжка Валерии Герасимовой «Таня Полозова»55 – уже сокращенный, сильно измененный сюжет «Жалости», возможно, как раз то, что должно было лечь в основу сценария. Однако к тому времени отношение в стране к Достоевскому настолько изменится, что его имени мы в книге не найдем, даже всякие разговоры о гуманизме оказываются совсем размыты.
Достоевский как предвестник нацизма
«Не любит черт ладана… Не любят в советском царстве, в коммунистическом государстве Достоевского… Ох как не любят!» – писал А. А. Яблоновский в 1933 году56, и эта реплика эмигранта отражала действительность.
В 1932 году украинский поэт Микола Бажан пишет стихотворение «Послесловие: Про Достоевского, про Гамлета, про Двойника», напечатанное и в русском переводе (получило известность как поэма «Смерть Гамлета», затем переработано в 1936 году). Произведение это также направлено на преодоление гуманизма, то есть Достоевского. Будучи первым идеологическим произведением Бажана, оно не менее радикально, чем повесть В. Герасимовой, но в литературном смысле, конечно, несоизмеримо по таланту с тенденциознейшей рапповской прозой, а оттого и оказалось намного более деструктивным для наследия Ф. М. Достоевского. И здесь уже носится предвестие того, о чем будет сказано в 1934 году с трибуны писательского съезда М. Горьким: во всеуслышание имя Ф. М. Достоевского связывается с набиравшим обороты нацизмом.
Как писала критика, «Бажан показывает раздвоенного, мятущегося интеллигента-гуманиста западноевропейской формации», которому «никакие башни из слоновой кости не дадут остаться нейтральным перед лицом решающих классовых боев. Фашизм мобилизует своих приверженцев»57, «обрушивается на мелкобуржуазную половинчатость и раздвоенность, на колебания между революцией и национализмом»58; «Он показал, что в героическую пору схватки двух миров для всякого честного человека не может быть сомнений и колебаний»59.
Стихотворение это известно в нескольких переводах – А. А. Штейнберга60, И. С. Поступальского61, Б. Л. Коваленко 1936 года (фрагмент)62; в послевоенные годы наибольшую известность получил перевод П. Г. Антокольского63 (сделанный после того, как трое предшественников были репрессированы)64. Приводим фрагмент поэмы в самом первом переводе – А. А. Штейнберга:
- Есть люди, что прячут в команде крылатку,
- Двойника старомодного жалкий убор?
- Зачем она надобна? Спрашивать не с кого.
- Кому эти тряпки к лицу, наконец?
- Бредет по Европам фантом Достоевского
- И пальцами шарит в пустотах сердец.
- И люди ползут из сердец, как из дома,
- Как после болезни, позора и мук, —
- Здесь гетманский сын,
- генеральский потомок,
- И прусского юнкера выбритый внук, —
- В одной униформе выходят на стук.
- Теперь поищите Алеш Карамазовых
- В святых легионах, в военном строю,
- Где они, в респираторах противогазовых,
- Тонкую душу фильтруют свою.
- Раздутая маска оскалилась хоботом
- И дышит Христос респиратору в зад.
- Князь Мышкин!
- Вы тоже в строю! Вы до гроба там
- Останетесь, бравый солдат!
- Значит, гундосый, и вас-таки
- Ведут в строевой тесноте,
- И выросли хвостики-свастики
- На вашем смиренном кресте.
- И бодро нафабрив белесые усики,
- На лбы наведя торжествующий глянц,
- Гвардия иисусиков,
- Прозелитов святых сигуранц65.
Это стихотворение и в целом получило большую известность как
нанесшее удар по всем, кому «легче зубами вцепиться в собственный локоть», чем идти одним путем с народом, всем тем, кто, засев в «башне из кости слоновой», притворяется, что он сохраняет свою творческую независимость, хотя на самом деле он раб народных врагов66.
То, что переводы сочинений Ф. М. Достоевского пользовались в Германии первой трети ХX века большим интересом, общеизвестно, как было общеизвестно и то, насколько им зачитывались идеологи нацизма, особенно Йозеф Геббельс67. Эта привязанность к русскому гению оказалась в СССР еще одной, веской причиной, по которой к имени Ф. М. Достоевского стал привешиваться ярлык нациста. Не было секретом и то, что Артур Мёллер ван ден Брук, издатель немецких переводов Ф. М. Достоевского, нашел в русском писателе очень многое для пангерманизма, что в конечном счете привело его в 1923 году к написанию книги «Третий рейх», ставшей краеугольным камнем идеологии национал-социализма в Германии68. Советские газеты сообщали гражданам об увлечениях главарей нацизма писателем – как его прославляет в своих книгах Альфред Розенберг69, а особенно как Ф. М. Достоевским увлечен Геббельс:
Литература не является для него преломлением, жизни, а наоборот, жизнь он видит исключительно сквозь призму литературы. Недаром был он учеником Гундольфа, известного биографа Гете и Шекспира, исследователя германского романтизма. У Геббельса изучение романтиков причудливо переплетается с почти болезненным преклонением перед Достоевским. Так оно и должно было быть: будущий вождь берлинских фашистов должен был стать поклонником автора «Бесов». Достоевский хотел в этом романе дать чудовищно карикатурное изображение революционного движения. В эпилептическом ясновидении дал он, однако, в проекции на эпоху империалистических войн и пролетарской революции жутко реалистическое, почти натуралистическое изображение фашизма. Геббельс мог бы быть великолепно одним из героев «Бесов», хотя бы Петром Степановичем Верховенским на берлинско-фашистский лад70.
В этой исторической ситуации уже как логически предопределенное воспринимается публичное и всеобщее надругательство над Достоевским, которое происходило на Первом Всесоюзном съезде советских писателей 1934 года. Уже на самом первом заседании, 17 августа, М. Горький задал тон, критикуя буржуазную Европу.
Горький надел очки, снял пиджак и остался в одной голубой вязаной рубашке, еще более высокий и тщедушный, чем всегда. Он говорил, вернее – читал без всякой ораторской рисовки. Это было неторопливое изложение мысли чрезвычайно умного, энциклопедически образованного человека. Вся история культуры была мастерски раскрыта Горьким. Мастер еще раз явил себя примером того, каким должен быть советский писатель, – культурным, смелым, высокообразованным, стоящим на уровне современной науки. <…>
Перед тем как на трибуну вошел Горький, от имени партии и советской власти писателей приветствовал товарищ Жданов <…> Горький по существу говорил о том же, что и Жданов, только более широко развил это и обосновал71.
Напомним некоторые фрагменты этой речи, которые станут лейтмотивом оценок Ф. М. Достоевского на долгие десятилетия:
Особенно сильно было и есть влияние Достоевского, признанное Ницше, идеи коего легли в основание изуверской проповеди и практики фашизма. Достоевскому принадлежит слава человека, который в лице героя «Записок из подполья» с исключительно ярким совершенством живописи словом дал тип эгоцентриста, тип социального дегенерата. С торжеством ненасытного мстителя за свои личные невзгоды и страдания, за увлечения своей юности Достоевский фигурой своего героя показал, до какого подлого визга может дожить индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей XIX–ХХ столетий <…>
Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать. Да, животное начало в человеке неугасимо до поры, пока в буржуазном обществе существует огромное количество влияний, разжигающих зверя в человеке. Домашняя кошка играет пойманной мышью, потому что этого требуют мускулы зверя, охотника за мелкими, быстрыми зверьми, эта игра – тренировка тела. Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову его с позвонков, – это уже не зверь, а что-то несравнимо хуже зверя, это безумное животное, подлежащее уничтожению, такое же гнусное животное, как белый офицер, вырезывающий ремни и звезды из кожи красноармейца.
Трудно понять, что именно искал Достоевский, но в конце своей жизни он нашел, что талантливый и честнейший русский человек Виссарион Белинский «самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни», что необходимо отнять у турок Стамбул, что крепостное право способствует «идеально нравственным отношениям помещиков и крестьян», и, наконец, признал своим «вероучителем» Константина Победоносцева, одну из наиболее мрачных фигур русской жизни XIX века. Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен может быть только Шекспиру. Но как личность, как «судью мира и людей», его очень легко представить в роли средневекового инквизитора72.
Максим Горький не был одинок. Горько читать и слова Виктора Шкловского, которые стенограмма навсегда запечатлела:
Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира.
Ф. М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника73.
23 августа с безжалостной речью выступила и автор повести «Жалость». Валерия Герасимова благодаря речи Максима Горького понимала свою правоту в оценке Достоевского, а потому еще более громко призывала на борьбу с идеологией писателя:
Но можно ли вопрос о развернутом коммунистическом мировоззрении свести только к вопросу о том, что коммунизм хорош, а капитализм плох? Разве старый мир противостоит нам в таком нищем оперении? Разве мы имеем право подходить к нему с такими «голыми» руками? Разве старый мир примитивно и прямо говорит о том, что мы против социализма потому, что не хотим отдать свое имущество? Он выступает со сложными, тонкими орудиями, и мы будем глупцами, а не революционерами, если не сможем дать самым высоким его идеям, самым высоким выражениям его борьбы творческий, талантливый, могучий отпор. Мы сможем! И в этом все дело.
Разве тот же Ницше с его проповедью свободного человека-зверя не был одной из колонн, которая подпирала этот старый мир? Разве тот же Достоевский с его культом страдания, с его культом очищения через страдания, не был тоже колонной, которая поддерживала этот несправедливый мир?
И разве наш, коммунистический художник не должен выступать на той же высоте мировоззрения, которая ему открыта, и дать бой этим великим представителям старого мира? И это будет сражение не с ветряными мельницами, не с теми дурачками, которых у нас часто выставляют оппонентами умных коммунистов, а это будет бой с титанами, которые по плечу лучшим художникам нашего времени.
Но и разве не являются идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше, теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма? И разве борьба с этим мутным потоком, а следовательно и с его «чистыми» первоисточниками, не имеет для нас революционного, практического значения? И разве не имеем мы полной возможности выйти победителями из этой схватки?74
Такое провозглашение Ф. М. Достоевского врагом советской власти было неожиданностью даже для Запада. Варшавская газета Д. В. Философова «Меч» отметила эту речь Горького статьей Е. С. Вебера:
Съезд был открыт «исторической речью величайшего из современных писателей мира» – Горьким. Превосходная степень имен прилагательных в применении к главным действующим лицам трагического фарса, совершающегося в советах, никого удивить не может. Ведь пишут же писатели, участники съезда, что они гордятся честью жить в одну эпоху с величайшим Сталиным <…>
Итак, «величайший из современных писателей мира» произнес «историческую речь» на «первом в мире съезде писателей». Прислушаемся к его речи, к его руководящим указаниям, к его категорическим требованиям, предъявляемым партией к новой разновидности «хозяйственников» от литературы, к тем, кто в СССР зовется писателями <…>
C Достоевским этот верховный евнух советской литературы считает необходимым расправиться. Достоевский для него лишь автор «Записок из подполья» – предельная антиобщественность! – и друг Победоносцева. Другого Достоевского нет.
«Достоевскому, – снисходительно поучает Горький, – приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы оправдать».
«Братьев Карамазовых» не было. Горький их не знает. «Преступления и наказания» не существует. Есть лишь «оправданное» Достоевским «вертикальное животное» (один из шедевров Горького!). Достоевский ответствен за «грехи» Ницше, Гюисманса, Бурже, Уайльда, Савинкова и Арцыбашева…75
В 1935 году в последний раз публикуются «Братья Карамазовы», запрещаются «Бесы». А. С. Долинин прилагал усилия, «перестраивался» и в 1935 году изобразил писателя «революционером и предшественником современной революции»76, но это не помогло.
Знаковыми для науки о Достоевском воспринимаются события 1936 года, когда памятник работы С. Д. Меркурова, установленный в 1918 году на Цветном бульваре в рамках провозглашенного республикой плана монументальной пропаганды, был «в связи с прокладкой трамвайных путей по Цветному бульвару» снят с пьедестала и перенесен в сад амбулатории им. Достоевского на Новой Божедомке, где писатель родился. Иными словами, из центра Москвы отправлен в Марьину Рощу и поставлен прямо в землю против Туберкулезного института Мосздравотдела (б. Мариинская больница). Стоявшая на том же Цветном бульваре скульптура С. Д. Меркурова «Мысль» была также демонтирована и перенесена на ул. Воровского во двор Дома писателей77. Чтобы не оставалось каких-либо сомнений относительно низвержения идолов, поясним: никаких трамвайных путей «по середине Цветного бульвара»78, как было объявлено, так и не проложили.
В том же году остановлено издание писем Ф. М. Достоевского, которое готовил А. С. Долинин: после того как в 1934 году был напечатан третий том, четвертый, содержащий переписку за 1878–1881 годы, уже не смог в годы сталинизма преодолеть плотину советской цензуры.
Не менее показательны события в Ленинграде. Еще в 1913 году79 на доме на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы была повешена мемориальная доска со следующим текстом: «В этом доме жил и скончался в 1881 году Федор Михайлович Достоевский»80, но в конце 1930‑х годов она была сброшена с фасада и бесследно исчезла81.
О «наследстве» М. Горького в науке о Ф. М. Достоевском второй половины 1930‑х годов говорит зачин тезисов диссертации П. П. Жеглова «Творчество Достоевского 40‑х годов», написанной под руководством Н. К. Пиксанова и защищенной в ЛИФЛИ летом 1936 года:
Изучение творчества Достоевского не может представлять только узколитературный интерес. Национал-фашистская интерпретация мировоззрения творчества Достоевского, направленная на оправдание теории и практики фашизма, обостряет необходимость марксистско-ленинского освещения мировоззрения и творчества писателя82.
Психопатология Достоевского
В 1920‑е годы постепенно растет число тех, кто смотрит на наследие писателя не с художественной, не с историко-литературной, даже не с идеологической точек зрения, а рассматривает его с позиций медицины. Существовавший и ранее заметный интерес к творчеству Ф. М. Достоевского через призму изучения его душевных болезней перерождается в условиях идеологического истолкования его произведений, и все более явно формулируется новая линия в оценке наследия писателя – речь уже ведется не только о болезненности самого классика русской литературы, но и об ущербности, явной вредоносности его книг для советского читателя.
Пресса открыто связывала имя Ф. М. Достоевского с помешательством, причем в довольно специфическом ключе. Речь о криминальном сознании – еще одном значении, которое обретал ругательный термин «достоевщина». Несколько уголовных процессов 1920‑х годов напрямую связывались с социальной язвой достоевщины.
В мае 1922 года в народном суде Детскосельского уезда состоялся процесс по обвинению 19-летней А. П. Моисеевой в убийстве 17-летней Е. А. Никитиной колуном по голове83. Адвокатом обвиняемой на этом процессе выступал молодой юрист Алексей Иванович Плюшков (1897–1968), поэт и литератор, полагавший, что процесс этот
даст целую картину – картину, которую бы использовал Достоевский, ибо герои этого процесса – его герои, ибо мир, в котором совершено преступление и из которого вышла преступница – мир, с которым нас сблизил Достоевский…84
Или же упомянем еще один уголовный процесс: когда в 1924 году Киевский губернский суд слушал дело Анны Лысаковой, обвиняемой «в кошмарном убийстве на кладбище» 9-летней девочки Елены Иваницкой «из мести к матери последней», то сам суд, перед тем как направить обвиняемую на излечение в психиатрическую лечебницу85, задал в открытом заседании вопрос подозреваемой об отношении к писателю:
Суд интересуется ее развитием, ее духовными запросами. Ответы манерные.
– Достоевского читала. Раскольникова я не оправдываю, но я его понимаю86.
То есть в 1920‑е годы вопросы убийств рассматривались в тесной связи с влиянием произведений Достоевского, однако это можно назвать скорее казусом, хотя и симптоматичным.
Отношение классической русской медицинской науки середины 1920‑х годов к Достоевскому можно изложить словами В. М. Бехтерева, сказанными 24 февраля 1924 года на годичном акте Института медицинских знаний:
Человек, перенесший в своей жизни и крайнюю бедность, и тюрьму, и ссылку, и ужасы смертной казни, и сам имевший глубоко надломленное душевное здоровье, – только такой человек, при высокой одаренности от природы, мог найти в своей душе отклик на соответствующие положения жизни и на тяжелую душевную драму и мог воспроизводить с художественною яркостью те внутренние переживания, которые были испытаны им самим. В этом основная причина силы своеобразного художественного творчества Достоевского, граничащего с откровением. По тем же причинам тот же писатель углов, где, по его словам, «никогда не смеются и никогда не радуются», не мог не остановить своего внимания и на тех состояниях человеческой души, которые не граничат только с патологическим, но уже явно переходят за грань нормального, представляя собою настоящую душевную болезнь. И вот он рисует перед нами не только типы забитых, бедных и искалеченных людей, которые в своих грезах и фантазии воображают иную жизнь, представляющуюся их болезненно настроенному уму, но и целый ряд типов, уже выбитых суровой действительностью из нормальной колеи и перешедших на положение душевнобольных87.
Но вскоре все большее давление на восприятие писателя оказывают другие области науки – психоанализ и евгеника. Применение данных «Фрейдовой науки» к Ф. М. Достоевскому неминуемо привело к очень громким результатам. Особенно выделяются на этом фоне две публикации. Первая – книга артистки А. А. Кашиной-Евреиновой «Подполье гения». Этот злобный памфлет, написанный под прикрытием исследования и имени З. Фрейда, не имеет отношения к психоанализу и касается скорее вопросов морали, а автора интересует личная жизнь писателя и ее глубины. Еще задолго до якобы научных выводов, в момент разбора греха Ставрогина, заявляется, что «сплетня о насилии самим Достоевским несовершеннолетней имела все-таки свои основания»88, и приводятся слухи и доводы для доказательства этой убежденности; очень много говорится о садизме как характерном для Достоевского половом извращении. В целом же А. А. Кашина-Евреинова этой книгой сводит личные счеты с Ф. М. Достоевским, которым была очарована, но теперь внутреннее христианство позволило ей разгадать бесовскую суть писателя: «Долгие годы был он для меня, как никто в литературе, загадкой, ибо по силе биения его творческого сердца нет ему равного нигде! Но теперь я… его знаю»89. Важно отметить, что порицается в этой книге не только сам писатель и его мораль, но и его произведения, которые, по сути, представляются чем-то абсолютно вредоносным:
Достоевский обилием мучительства действует чисто физически на читателя, причиняя ему боль. Это основное, главное впечатление от его творчества. Он ставит героя в невыносимое положение, терзает его всеми терзаниями Дантова ада и на этой канве создает его образ. Он почти любуется иногда этими муками: страдания героя – момент наивысшего подъема мысли Достоевского. Он любит эти страдания – из них он черпает свой творческий подъем90.
Через два года выходит по-русски уже более соответствующая собственно психоанализу книга И. Нейфельда «Достоевский»91, немецкое издание которой вышло под редакцией З. Фрейда. Из этой книги русский читатель мог узнать о таких ранее неведомых (не только в контексте биографии Ф. М. Достоевского, но и в принципе) чертах психологии писателя («извращениях духовной жизни»), как эдипов комплекс, гомосексуальные наклонности, садизм, мазохизм, эксгибиционизм, анальный эротизм, эрогенность ротовой области… Вся эта химеричность внутреннего мира писателя настойчиво переносится в его творчество:
Сбивающиеся с пути, извращенные, дисгармонические характеры и душевнобольные составляют призрачную толпу героев Достоевского. Ни один из них не здоров душевно, ни один не живет жизнью обычных людей. Дикие, необузданные страсти руководят их поступками, они как бы оборачиваются своим бессознательным к читателю и открывают необычайные тайны своей душевной жизни92.
В предисловии к русскому изданию книги П. К. Губер оговаривал, что «большой ошибкой было бы принять без критики все ее выводы»93, однако такой силы диагностика, в особенности от лица прогрессивной западной науки, не могла не отразиться на восприятии личности Ф. М. Достоевского и его произведений в СССР.
Поскольку П. К. Губер был одним из наиболее авторитетных в те годы критиков, на основании выводов которого принимались решения о переводах зарубежных изданий, то можно видеть, как быстро накладывались ограничения на литературу, отражавшую ту же психологическую позицию, которая порицалась в книгах Ф. М. Достоевского: когда в ленинградском издательстве «Время» рассматривался вопрос публикации русского перевода получившей известность книги Германа Гессе «Степной волк» (1927), именно П. К. Губер отмечал необходимость сократить книгу «во-первых для цензуры, а во-вторых в интересах читателя» и писал следующее:
Этот роман… впрочем, это столько же роман, сколько психопатологический этюд и философский трактат, – несомненно создался под влиянием Достоевского и притом в особенности двух его произведений – «Двойник» и «Записки из подполья». Книга Г. Гессе и представляет собой записки такого подпольного немецкого человека, только гораздо более ученого и начитанного, нежели его русский прообраз94.
Однако с конца 1920‑х годов психоанализ в целом, как и работы самого З. Фрейда (прежде всего, его предисловие к изданию «Братьев Карамазовых» 1928 года), уже не оказывали большого влияния на восприятие Ф. М. Достоевского в СССР; чего нельзя сказать еще об одной науке, которая в 1920‑е годы оказала не меньшее деструктивное воздействие на Ф. М. Достоевского. Речь о евгенике, и именно эта наука бросила на писателя темную, даже зловещую тень.
Главным виновником этого был М. В. Волоцкой – известный физический антрополог, автор работ по дерматоглифике, а также (или прежде всего) крупнейший пропагандист евгеники и общественный деятель на евгеническом поприще. В 1920‑е годы он много трудился над созданием марксистского извода этой расовой дисциплины: осознавая несовместимость буржуазной евгеники с задачами пролетариата, он не отступал:
Это ничуть не должно менять нашего отношения к евгенике в ее основной сущности. Ведь цель евгеники, повторяю, сознательное воздействие на процесс человеческой эволюции. В таком понимании евгеника чрезвычайно гармонирует с общими задачами советского строительства. Важно лишь, какое мы в нее вольем содержание95.
Что касается того содержания, которое в евгенику «вливал» сам М. В. Волоцкой, то наибольший резонанс получила его убежденность в необходимости принудительной стерилизации:
К сожалению, в огромном большинстве случаев бывает очень трудно и даже, при современном состоянии науки, невозможно установить, почему та или иная семья отягощена такими наследственными болезнями, как гемофилия, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, слабоумие, различные физические уродства и конституционные аномалии и т. п. В настоящее время сравнительно гораздо более известно, как передаются наследственные болезни из поколения в поколение, чем то, как они первоначально возникают и под влиянием каких именно конкретных факторов это возникновение происходит. Поэтому, по отношению к таким дефектам, профилактическая селекция в той или иной форме (половая стерилизация, запрещение вступать в брак, сегрегация и т. п.) является пока единственным методом охраны интересов потомства96.
В начале 1922 года профессор Н. К. Кольцов, основатель Русского евгенического общества, предложил М. В. Волоцкому заняться изучением рода Ф. М. Достоевского, и ученый приступил к работе97. В начале 1924 года антрополог обратился к А. А. Достоевскому, племяннику писателя, с письмом, по которому мы видим то, что именно интересовало исследователя:
О каждом из членов рода Достоевских желательно было бы знать точно или приблизительно время рождения (особенно важно отметить случаи близнечества), вступления в брак, если умер, то смерти, с указанием причины последней. Кроме того, сведения о каких-либо отличительных чертах характера, вкусах, способностях, одаренности (например литературной, музыкальной, научной), о странностях характера, а также и сведения об особенно тяжелых из перенесенных болезней, в особенности наследственного характера (алкоголизм, эпилепсия, слабоумие, душевные заболевания <по возможности с указанием формы заболевания и места лечения>, нервные подергивания, навязчивые идеи, менингит, рак, туберкулез, страсть к азартным играм и пр.). Из более мелких особенностей было бы интересно отметить, кто в роду был левша, отметив также и тех, кто был левшой только в детстве, а также тех, кто в одинаковой мере владеет обеими руками98.
И уже в том же 1924 году стало понятно, что генеалогическая работа о Достоевских представляет этот род в крайне невыгодном свете, где любой биографический факт получает психиатрическую квалификацию и, по сути, разоблачается, то есть диагностируется абсолютная ненормальность Достоевских. Автор, который в озарении научной беспристрастностью ничуть не чувствовал никакого морального стеснения, делясь своими открытиями и с информантами, писал А. А. Достоевскому: генеалогическая таблица с отмеченными в ней алкоголиками «предназначалась, разумеется, не для печати», а только для изучения членами Евгенического общества, а «отдельные дегенеративные признаки представляют для меня, в данном случае, интерес лишь постольку, поскольку подтверждают связь гениальности с вырождением»99.
Если А. А. Достоевский мирился с таким исследованием, то племянница писателя Е. М. Достоевская, получив родословную таблицу и увидев, что и ее отец там указан алкоголиком, прекратила с М. В. Волоцким всякое общение100. Внучатая племянница Ф. М. Достоевского Е. А. Иванова на закате дней писала С. В. Белову:
Захотелось написать Вам об одной очень неудачной книге – «Хронике рода Ф. М. Достоевского» М. В. Волоцкого. Я близко знала ее автора лет двадцать и могу сказать, что его кропотливый труд сильно испорчен его мировоззрением, а после всего, как всегда, цензурой, вычеркнувшей многие строки и этим исказившей весь смысл рассказа.
«Я – агностик», – любил говорить Михаил Васильевич. Он не признавал марксистского мировоззрения и отсюда во многих местах у него непонимание того положения, в котором оказалось после революции большинство интеллигентной молодежи.
Он верил в какие-то потусторонние грозные силы, в то, что над родом Достоевским тяготеет рок, неизбежно ведущий его к гибели, и поэтому старательно подчеркивал нашу слабость там, где наоборот надо было подчеркнуть силу, уменье всё выдержать – даже при попытках к самоубийству101.
Ликвидация Русского евгенического общества 1929 году лишила М. В. Волоцкого поддержки, когда книга уже была завершена подготовкой и имела в рукописи название «Род Достоевских в характерологическом отношении», причем характеристика личности самого Достоевского должна была составить следующий том исследования (остался неизданным); предварительное согласие написать предисловие к этой книге дал А. В. Луначарский. Осенью 1930 года М. В. Волоцкой сообщал последнему, что книга передана в Коммунистическую академию, и просил ускорить необходимые согласования, чтобы она могла выйти «в юбилейном 1931 году»102.
Однако А. В. Луначарский уклонился от написания предисловия к книге, а в однотомнике Ф. М. Достоевского, изданном при его ближайшем участии, сам касается взаимоотношений писателя со своими персонажами, причем обобщения наркома просвещения весьма категоричны:
Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах. Достоевский рождает свои образы в муках, с учащенно бьющимся сердцем и с тяжело прерывающимся дыханием. Он идет на преступление вместе со своими героями. Он живет с ними титанически кипучей жизнью. Он кается вместе с ними. Он с ними, в мыслях своих, потрясает небо и землю. И из‑за этой необходимости самому переживать страшно конкретно всё новые и новые авантюры он нас потрясает так, как никто.
Но помимо того, что Достоевский сам переживает все происшествия со своими героями, сам мучается их мучениями, он еще и смакует эти переживания. Он подмечает постоянно всякие мелочи, чтобы до галлюцинации конкретизировать свою воображаемую жизнь. Они ему нужны, эти мелочи, чтобы смаковать их, как подлинную внутреннюю действительность103.
А. В. Луначарский проговаривается о том, что он читал в рукописи М. В. Волоцкого, но опять же излагает это от первого лица, рассуждая в духе Ломброзо:
Вопрос о физиологических корнях болезни Достоевского и о самом начале ее до сих пор является спорным. Скажем мимоходом, что марксистской литературной критике придется еще весьма переведаться с современной психиатрией, которая на каждом шагу истолковывает так называемые болезненные явления в литературе как результат недугов наследственных или, во всяком случае, возникших без всякой связи с тем, что можно называть социальной биографией данного лица. Дело, конечно, совсем не в том, чтобы марксисты должны были отвергать самую болезнь или влияние психической болезни на произведения того или иного писателя, бывшего вместе с тем пациентом психиатра. Однако все эти результаты чисто биологических факторов оказываются вместе с тем необыкновенно логически вытекающими и из социологических предпосылок <…>
Так социальные причины толкали Достоевского к «священной болезни» и, найдя в предпосылках физиологического порядка подходящую почву (несомненно связанную с его талантливостью), породили одновременно и его миросозерцание, писательскую манеру и его болезнь.
Я вовсе не хочу сказать этим, что при других условиях Достоевский ни в коем случае не был бы болен эпилепсией. Я говорю о том разительном совпадении, которое заставляет мыслить Достоевского уже по самому строению своему подготовленным для той роли, которую он сам сыграл104.
Нашедшийся издатель, М. В. Сабашников, который стал редактором этой книги, тоже испытывал трудности, связанные с наступлением большевиков на частное книгоиздание. Все серьезней были и придирки цензуры к тексту: после сдачи в набор 8 мая 1933 года верстка была подписана в печать только 8 декабря, отпечатана же книга была на исходе года, однако опять задержана. Только в середине августа 1934 года сигнальные экземпляры были выданы из типографии105, и затем книга поступила в продажу, завершив собой мемуарную серию издательства Сабашниковых «Записи прошлого».
Не говоря о ценности этой книги для изучения истории рода Достоевских в генеалогическом отношении, мы вынуждены акцентировать внимание на том, какое влияние этот труд оказал на восприятие Достоевского и его произведений.
Безусловно, значительную роль сыграла глава «Опыт характерологического анализа рода», в которой на основании массы свидетельств и рассуждений делается вывод:
Характер самого Достоевского, а вместе с тем и характерные черты целого ряда его героев, носят ярко выраженные шизоидные черты. То же самое можно сказать и о многих представителях рода Достоевских106.
Без особого стеснения автор этой историко-биографической работы проникает в область сексуальности, описывая садомазохистские черты в героях Достоевского и поясняя:
Глубоко мазохическими реакциями переполнены все произведения Достоевского. Поэтому неправильно рассматривать этого писателя только как «русского маркиза де-Сада» (определение Тургенева). Достоевский, сам биполярный в рассматриваемом отношении, является и в своем творчестве не только садистом, но и мазохистом, и даже больше последним, чем первым107.
Однако намного более важным для восприятия книги стало предисловие, которое написано П. М. Зиновьевым. Хотя в книге не указано регалий этого автора, но современники прекрасно знали, что это не литературовед, не публицист, а крупнейший профессор-психиатр. По этой причине предисловие к книге подчеркнуто не идеологическое: нет здесь отсылок ни к В. И. Ленину, ни к А. В. Луначарскому и им подобным, однако есть ссылки на иных классиков – З. Фрейда, К. Ясперса, П. Б. Ганнушкина…
Зиновьев указывает, что изначально труд М. В. Волоцкого представлялся как исследование «в сравнительно узких генетико-характерологических рамках», но затем был расширен описанием социальных процессов. Так что именно семья писателя оказывается источником многих положений его художественных произведений:
Перед нами проходит много красочных бытовых картин, временами близко напоминающих сцены из «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых»: убийство отца писателя, раздоры из‑за наследства его тетки, трагическая судьба убитой своим дворником сестры его, наконец, уже в послевоенное время, семейный распад во внучатом поколении другой сестры его, – все это на фоне двойной патологии: и биологической и социальной <…> Таким образом, печатаемые в этой книге материалы должны привлечь внимание и историков быта, и литературных исследователей, и психологов, и биологов-генетиков, и, наконец, психиатров-клиницистов, не говоря уже о читателях, интересующихся жизнью семьи великого писателя108.
Так светило отечественной психиатрии, книга которого «Душевные болезни в картинах и образах» (1927) была впоследствии признана гениальной «по своей проникновенности в глубины эпилептической психики» Ф. М. Достоевского109, получив возможность высказаться по этому вопросу уже конкретно, представляет нам свое заключение о семье классика русской литературы:
Свежего человека при знакомстве с этой семьей особенно поражает чрезвычайное богатство и разнообразие всевозможных патологических особенностей у ее представителей.
Сам Ф. М. Достоевский страдал судорожными припадками, сопровождавшимися потерей сознания. Проявлением какой болезни были эти припадки, до сих пор остается предметом спора <…> В роду писателя, кроме нескольких человек, страдавших той же болезнью, что он сам, было еще много лиц, представляющих явления, характерные для различных форм так называемых «психопатий», то есть патологических состояний, связанных с врожденными, но не прогрессирующими аномалиями психики. Большею частью это были эпилептоиды. Они представляют особенности характера и поведения, роднящие их с эпилептиками, однако самой болезнью эпилепсией, хотя бы в слабо выраженной форме, они не страдают. <…>
В семье Ивановых мы из эпилептоидного «круга» (как иногда выражаются) переходим в другую обширную область психопатологических явлений – в круг шизоидный. Не вдаваясь в тонкости психиатрической диагностики относительно заболеваний внучатных племянниц Федора Михайловича, отметим лишь, что у обеих сестер психические расстройства возникли «реактивно», то есть под влиянием психических потрясений, именно вследствие столкновения их конституционально неустойчивой психики с непривычными и потому ранившими их «мимозные» личности новыми условиями жизни. В какой степени патологические особенности семьи Ивановых унаследованы ими от Достоевских, и в какой степени от присоединившейся чуждой крови, решить, конечно, трудно, хотя и заманчиво было бы использовать в этом смысле способности Достоевского к изумительно глубокому проникновению в шизофреническую психику (типы Голядкина, Ставрогина и др.). Правильнее будет эту способность отнести просто к чрезвычайно широкому диапазону психики Достоевского, а также к наличию несомненных точек соприкосновения в психопатологии обеих (шизофренической и эпилептической) групп психических заболеваний. <…>
Публикуемый в настоящей книге материал не касается самой личности Ф. М. Достоевского, однако исчерпывая, по-видимому, все, что доступно современному исследователю относительно рода писателя, исследование М. В. Волоцкого освещает его болезнь с новой, до сих пор неизвестной, стороны и создает для нее недостававший до сих пор фон, на котором психопатологические откровения автора «Братьев Карамазовых» и «Идиота» приобретают особое, трагическое значение. Эпилепсия Достоевского, в свете собранных М. В. Волоцким данных, оказывается не только его личной болезнью, но и патологическим процессом, глубоко коренящимся в его семейном предрасположении. С этой точки зрения характерологическая история рода Достоевских, как мы уже выше отметили, оказывается одновременно и своеобразной семейной историей болезни, и чрезвычайно интересной семейной хроникой, богатством своего содержания, сложностью и напряженностью переплетающихся в ней социально-бытовых мотивов иной раз не уступающей романам самого гениального представителя рода. Материал для своих произведений Достоевский широко черпал из этой хроники, и не надо быть последователем Фрейда и принимать его аргументацию о механизме невротического изживания «Эдипова комплекса», чтобы оценить значение мотива «убийство отца» для фабулы «Братьев Карамазовых».
Но, конечно, патологическая окраска творчества Достоевского объясняется не только заимствованиями из семейной хроники. Гораздо более существенное значение в этом отношении имела болезнь самого великого писателя. Это обстоятельство, однако, еще не дает оснований для выводов, в какой бы то ни было степени умаляющих общечеловеческое и в частности социальное значение его произведений. Творчество гениальных людей, даже и больных, в основном определяется не биологическими, а социологическими законами. Поскольку они сохраняют свои умственные силы и связь с обществом, их деятельность можно оценивать как производное тех или иных социальных факторов и вне зависимости от их индивидуальных патологических особенностей. Их биологическая неполноценность иной раз, обуславливая повышенную их чувствительность к воздействиям окружающей среды, даже помогает им улавливать те явления окружающей жизни, которые для нормальных их современников не заметны110.
Овладевая диалектикой зла
Несмотря на грозный окрик Максима Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, отношение к Ф. М. Достоевскому в конце 1930‑х годов стало менее непримиримым: годы замалчивания, не сменявшиеся новыми витками репрессивных действий по отношению к памяти писателя, создавали ощущение, что государство успокоится и все-таки сменит гнев на милость.
Изменение настроений можно увидеть и в тех случаях, когда ортодоксальные представители литературной критики бросались в бой с рецидивами достоевщины, но уже не находили безоговорочной поддержки у советской «культурной общественности».
Наиболее заметный случай такого рода – попытка объявить рецидивом достоевщины произведения классика советской литературы Леонида Леонова. Когда в 1938 году была напечатана его пьеса «Половчанские сады», критик Михаил Левидов в подробной, но в целом положительной рецензии заметил: «Болезнь „достоевщинки“ Леонов преодолел. В существе ее. Но инерция болезни еще осталась и дает себя знать…»111
Через год это замечание показалось писателю похвалой, поскольку выход двух его пьес на сцену сопровождался менее робкими высказываниями критиков. Появившаяся 13 мая рецензия Льва Никулина на постановку «Половчанских садов» во МХАТе скорее обозначила проблему, но пока еще не громила писателя:
Основной недостаток произведений Леонова заключается в том, что рядом с голосом автора всегда слышится другой, иногда заглушающий Леонова, голос хорошо всем знакомого писателя-классика. Упоминание имени Достоевского в том случае, когда говорят о книгах Леонова, сделалось какой-то традицией нашей критики. Трудно упрекнуть современного автора в том, что он находится под влиянием великих писателей прошлого. Преемственность, неразрывная связь советской литературы с литературой классической естественна и необходима. Но положительное качество писателя Л. Леонова слишком часто переходит в свою противоположность. Временами нам кажется, что перед нами не самостоятельное творчество советского писателя Леонова, а своего рода имитация, подражание высокому стилю классических образцов112.
Затем над писателем разразилась гроза. 16 мая в газете «Советское искусство» была напечатана рецензия Д. Л. Тальникова на постановку пьесы «Волк. (Бегство Сандукова)», написанной в 1938 году. Пьеса эта
посвящена разоблачению классовых врагов, агентов иностранных разведок. С большой силой нарисован образ Сандукова, человека с волчьей душой, изменника родины, замаскировавшегося врага. В пьесе подчеркивается присущее врагам сознание обреченности, их моральный упадок. Пьеса проникнута пафосом очищения советского «дома» от всякого рода империалистической агентуры113.
В 1939 году «Волк» был поставлен на подмостках Малого театра режиссером И. Я. Судаковым. 3 мая была сыграна премьера, по следам которой критик обвинил писателя в достоевщине:
Выделяющее Леонова среди других драматургов качество – несомненная и настоящая литературность – к сожалению, очень часто переходит в «литературщину», то есть в литературный штамп и надуманность. А ведь к Леонову предъявляешь самые высокие требования.
Характерны ли вообще для современной жизни героя его пьесы, взятые напрокат у Достоевского и Чехова, их беседы и самый стиль их поведения в пьесе? Где автор видел их, где нашел, откуда взял в качестве, конечно, не единичных явлений, а обобщенных образов современности? На всех этих фигурах – даже «бодрячке» Насте – лежит отпечаток чего-то глубоко вчерашнего, даже литературно-«провинциального». Все это ни в какой мере не подсмотрено художником в жизни, а идет именно от «литературщины», в лучшем случае от литературных реминисценций. <…>
Леонов, исходя из литературных фактов, а не подлинной жизни, пытается и образы современных бандитов, шпионажа и диверсий густо замесить на дрожжах достоевщины. В результате и здесь мы имеем только литературную выдумку.
В пьесе действуют три врага – Магдалинин, глава организации, держащий все нити ее в своих руках, – некий сколок с «великого инквизитора», который у Леонова в своей «логике бешенства» развивает декламационную программу действия: «Валите людей, шепчите, сейте сомнение, делайте просеки… кусайте на сгибах, там трудней заживает». Дальше идет Лаврентий Сандуков – бывший поп, ехидный и елейный кликуша-садист, сколок с Карамазова-отца и Смердякова. И, наконец, его сын – Лука, герой пьесы. Все они – от Достоевского и от достоевщины, от карамазовщины…114
Премьера «Половчанских садов» во МХАТе (постановка В. Г. Сахновского под руководством В. И. Немировича-Данченко) также удостоилась разгромной рецензии. Тут нужно оговориться, что такая реакция заранее рассматривалась театром – в том же 1939 году зав. литчастью МХАТа П. А. Марков в статье в многотиражке театра писал:
На одной из репетиций Владимир Иванович сказал, обращаясь к исполнителям: «Мы знаем, что это будет очень рискованный спектакль, и мы должны идти на то, что он вызовет очень большие споры и очень многим не понравится». И после последней генеральной репетиции он снова, обращаясь к актерам, говорил о том, что самое страшное, что может случиться с исполнителями «Половчанских садов» и вообще с театром, – это если ожидаемая им разноголосица мнений в какой-нибудь мере повлияет на крепость художественных позиций МХАТ115.
В рецензии критика Б. И. Розенцвейга, который признал спектакль неудачей, отходом от великих традиций МХАТа и т. д., высказана и главная претензия – пьеса не отражает торжества нового строя, а отрицательные персонажи разработаны намного лучше, нежели положительные:
Нищета и бесцветность положительных образов, отсутствие сильных, боевых, политически страстных характеров, двумерность и плакатность положительных героев приводят к тому, что пьеса Леонида Леонова лишается внутреннего, психологического конфликта. В ней нет ощущения борьбы, нет окрыленности, действие развертывается вяло, несмотря на то, что пружина внешней интриги функционирует исправно. Леоновские персонажи рассуждают на волнующие и близкие советским людям темы: о природе советского патриотизма, о подвиге, о родине, о славе. А пьеса оставляет зрителя безучастным, холодным, не задевает «за живое», не трогает, не будит глубоких мыслей. Посвященная большой, актуальной теме, она звучит холостым залпом116.
Вероятно, если бы такая критика обрушилась на Леонида Леонова несколько лет назад, то писатель был бы вынужден признать мнимые ошибки, но весной 1939 года – уже после падения Н. И. Ежова и окончания эпохи массовых репрессий – обстановка переменилась, и автор решил противостоять организованной травле, тем более что писатель понимал: его пьесы далеко не худшие на фоне репертуара советского драматического театра своего времени.
И сразу после появления второй статьи, буквально в тот же день, Леонид Леонов пишет письмо Сталину, в котором лаконично излагает ситуацию и ожидает от вождя помощи:
…Тон статей бранный и издевательский. Не соблюдено даже элементарное уважение к чужому труду <…> Я выбит из колеи, вынужден оставить новую начатую работу. В эту крайнюю минуту у меня нет иного выхода, кроме обращения к Вам117.
Письмо возымело действие, и происходит нечто необычное для эпохи – начинается коллективное сопротивление газетной травле. Секция драматургов Союза советских писателей организует официальный диспут о пьесах Л. Леонова.
В приглашении, разосланном к этому мероприятию, уже читался намек на его направление:
Секция считает, что тон, взятый рядом газет («Советское искусство», «Московский большевик», «Комсомольская правда»), не соответствует правильной оценке творчества Л. М. Леонова как драматурга. Диспут должен выявить подлинное отношение драматургов и театральной общественности к новым пьесам т. Леонова и к их осуществлению на сценах Малого и Художественного театров118.
И диспут, конечно же, прошел в другой тональности, нежели газетные выступления, а «Литературная газета» поместила его описание. Скажем, театральный критик и драматург М. С. Гус отметил:
Стало тривиальным каждый раз «открывать» в произведениях Л. Леонова «достоевщину». Нужно и можно говорить уже о том, что отличает Л. Леонова от Достоевского, о тех чертах горьковского влияния, которые оберегают писателя от любования юродством и учат уважению и любви к человеку.
В целом обвинения были отвергнуты:
Единодушное возражение вызвала статья Д. Тальникова о «Волке», опубликованная в «Советском искусстве». Одни критиковали статью за то, что статьей опытный театровед Д. Тальников приписывает вину Малого театра – примитивную трактовку образов – автору пьесы. Другие – за то, что критик проводит в статье недопустимые параллели, сопоставляя, как равноценные литературные явления, произведения подлинного художника со слабыми пьесами, порой стоящими вне критерия литературы. Большое возмущение у многих вызвал и тон статьи Д. Тальникова <…>
Очень краток был в своем выступлении Л. Леонов. Он сказал, что резкая критика не убедила его. Критики вольны как угодно относиться к его произведению, но автор вправе требовать от них более высокого уровня, чем тот, на котором до сих пор шел спор119.
Такой отпор критикам со стороны драматургов вызвал недовольство редакции «Литературной газеты», которая хотя и поставила обзор дискуссии в номер, однако, по-видимому, не знала об источнике такой смелости и обвинила секцию в заранее определенной линии на реабилитацию писателя:
Организаторы диспута допустили ошибку, рассылая от имени секции драматургов повестку, в которой высказали определенную точку зрения на явление искусства, суждения о котором секция не имела. Это неправильно также и потому, что, приглашая на диспут, который должен был отразить различные точки зрения, организаторы его пытались заранее предопределить направление прений и тем косвенно повлиять на состав участников диспута120.
Правильно или нет, но различных точек зрения на пьесы Леонида Леонова уже не было, и 11 июня в рецензии М. Ю. Левидова на постановку «Волка» в Ленинграде, осуществленную в театре Ленсовета Ю. А. Завадским, мы видим одно восхваление:
Спектакль это прозвучал весьма убедительно и решил «проблему» этой пьесы, если таковая имелась. Решил очень наглядным способом, продемонстрировав весьма простую и хорошую истину: чем лучше спектакль, тем яснее пьеса, и в своих достоинствах и в недостатках.
Эта постановка показала «то настоящее, что есть в пьесе Леонова: любовь к Советской стране и заботу художника о том, чтоб его герои стали хорошими советскими людьми»121.
Однако последовали и намного более смелые высказывания в защиту Ф. М. Достоевского: речь о статье ленинградского филолога и критика П. П. Громова, ученика А. С. Долинина, которая формально была посвящена разбору постановки пьесы Б. И. Войтехова и Л. С. Ленча «Павел Греков». Но наиболее важный тезис был высказан при сделанном автором отступлении – о пьесе Леонида Леонова:
Во время обсуждения «Волка» Л. Леонова в нашей прессе критик Д. Тальников в весьма решительной форме заявил, что основным недостатком пьесы является некритическое следование Леонова образам Достоевского. Согласно Д. Тальникову образы, созданные Достоевским, не имеют никакого отношения к нашим дням. «Волк» имеет чрезвычайно мало общего с художественной манерой Достоевского. Но едва ли это является достоинством пьесы Леонова. Скорее недостатки пьесы Леонова вытекают из недостаточного овладения некоторыми элементами наследия Достоевского. <…>
По-видимому, вопрос о Достоевском не так прост, как это кажется Д. Тальникову. В сущности, почему мы должны отказываться от той диалектики зла, которая разработана в мировом искусстве? Разве неясно, что, изображая врагов болванами и штампованными злодеями, мы превращаем проблему художественной борьбы с врагами в борьбу с литературными фикциями?
Художественной и политической реальностью борьба с врагом в искусстве будет только тогда, когда враг предстанет не беспомощным, а вооруженным. Это значит, что он должен защищаться всеми доступными ему средствами. Это значит, что должны быть показаны диалектика его развития, его психология и его мировоззрение. Только в таком случае образ врага будет цельным, законченным, убедительным, и победа над ним будет обеспечиваться не нагромождением детективных тайн, а реальным столкновением художественных образов. А показать такого врага можно только при овладении той диалектикой зла, которая разработана в таких вещах, как «Племянник Рамо», или «Добр ли он? Зол ли он?» Дидро, или в романах Достоевского. Достоевский очень тонко разрабатывал тему зла – и общественного зла, и зла как этической и философской категории. Кроме того, он великолепно показывал процессы распада, деградации личности. И ничего зазорного нет в том, чтобы при изображении врага учиться у Достоевского122.
То, что эти слова П. Громова были напечатаны в ленинградском журнале «Звезда», в редколлегии которого ведущее положение (ответственного секретаря) занимал ортодоксальный Н. В. Лесючевский, говорит о многом. Не будь такого послабления со стороны Сталина (связанного, конечно, с отношением вождя к Леониду Леонову, а отнюдь не к Ф. М. Достоевскому), невозможно было бы представить напечатанные тогда строки.
Возникшая полемика вокруг «Волка» вследствие высказываний П. П. Громова показалась современникам чем-то невероятным: о событиях вокруг наследия Ф. М. Достоевского высказалась даже русская эмиграция. Парижские «Последние новости» сообщили о борьбе в СССР с рецидивами достоевщины: «Отстаивая установленный ЦК партии взгляд, что Достоевский и в целом и в деталях несозвучен советской эпохе, Тальников указывает, что „образы, созданные Достоевским, не имеют никакого отношения к нашим дням“, и попытки заново выводить эти образы на сцену могут быть поняты как замаскированная клевета на светлую жизнь советской страны»123 и процитировали ответные слова из статьи П. П. Громова как поворот в идеологии. Новость эта была перепечатана даже в далекой Аргентине124.
Юбилей 1941 года
1941 год для Ф. М. Достоевского был юбилейным: исполнялось 120 лет со дня рождения писателя, 60 лет со дня его смерти. Эти круглые даты вселяли в исследователей творчества Ф. М. Достоевского некоторые надежды. Например, Ленинградское отделение Союза советских писателей, пользуясь последствиями критики «достоевщины» в сочинениях Леонида Леонова, даже решило возобновить подготовку к печати последнего тома «Писем». А. С. Долинин писал 3 марта 1940 года В. С. Нечаевой:
Ленотгиз заключил, наконец, со мною договор на последний том писем Достоевского, который должен выйти к шестидесятилетию со дня смерти писателя (февраль 1941 года). Настоял на этом Союз писателей125.
Тот же А. С. Долинин завершил к началу 1940 года книгу «„Подросток“ Ф. М. Достоевского», основанную на черновых рукописях писателя. Заведующий отделом новой русской литературы Пушкинского Дома профессор Ленинградского университета О. В. Цехновицер отозвался 21 мая 1940 года об этой рукописи в превосходной степени – он писал, что обработанные А. С. Долининым материалы Достоевского
дают возможность проникнуть не только в творческую лабораторию гениального писателя, но и проследить путь развития и становления художественных образов не только романа «Подросток», но и центральных произведений Достоевского, начиная от «Преступления и наказания» вплоть до «Братьев Карамазовых»126.
Говоря же о предстоящем юбилее Ф. М. Достоевского, рецензент отмечал:
Я считаю совершенно необходимым опубликовать этот ценный труд в Издательстве Академии наук СССР. Обращаю внимание, что в 1941 году исполняется 120 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Достоевского. Издание материалов, связанных с его работой над романом «Подросток», явилось бы закономерной данью со стороны Академии наук великому писателю-классику, избранному в 1877 году в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению русского языка и словесности127.
Активное участие О. В. Цехновицера в возобновлении научных исследований творчества Ф. М. Достоевского не случайно: защитив в 1938 году в Ленинградском университете диссертацию по своей монографии «Литература и мировая война 1914–1918», он стал кандидатом исторических наук; но еще ранее увлекся творчеством Ф. М. Достоевского. В 1938 году в ЛИФЛИ им был прочитан курс о Достоевском128, летом 1939 года он готовил к печати монографию о творческом пути писателя, а позднее, в 1940‑м, в Ленинграде были напечатаны под его редакцией «Повести» Ф. М. Достоевского (куда вошли «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Игрок», «Кроткая»)129. Будучи активным коммунистом, О. В. Цехновицер в силу своей политической безупречности оказался на рубеже 1930–1940‑х годов едва ли не главным специалистом по Ф. М. Достоевскому, которому такие работы оказалось возможным доверить. А летом 1940 года он сумел заручиться официальной поддержкой, вплоть до выделения ему специальной стипендии, о чем сообщили «Известия»:
По постановлению президиума Академии наук СССР и Комитета по делам высшей школы профессору О. В. Цехновицеру предоставлена стипендия имени Сталина в размере 1500 рублей в месяц для подготовки к защите докторской диссертации по литературе. Тема диссертации – «Творческий путь Ф. М. Достоевского».
Достоевский является одним из популярнейших писателей XIX века не только в СССР, но и за рубежом. Недавно немецкий литературовед Теодор Каупман защищал диссертацию «Достоевский в Германии». В Америке вышла книга Елены Мучник «Достоевский в Англии». Кроме того, за последнее время монографии о Достоевском появились во Франции и других странах Европы. Профессор О. В. Цехновицер поставил себе задачей осветить творческий путь Достоевского, охарактеризовать влияние этого писателя на развитие русской литературы и международное значение его произведений130.
В интервью «Литературной газете» Орест Вениаминович дал еще более подробные сведения о предстоящей работе:
Своей задачей я ставлю исследование основных проблем, возникающих в связи с литературной и публицистической деятельностью Достоевского.
Большинство теоретических работ, связанных с Достоевским, вышедших в дореволюционное время в России и за границей, трактовало наследие Достоевского с идеалистических позиций. Работы Д. Мережковского, А. Волынского. Вяч. Иванова установили реакционную легенду о Достоевском, которая, к сожалению, и поныне не преодолена во многих работах о писателе. Особенно это ощущается при знакомстве с зарубежными исследованиями.
Советское литературоведение до сих пор не пересмотрело установившиеся традиции. Между тем творчество Достоевского, заключающее в себе огромное богатство мысли и психологического анализа, позволившее А. М. Горькому поставить великого русского писателя в один ряд с такими гениями мировой литературы, как Шекспир, содержит и резкую критику (правда, часто не с прогрессивных позиций) современного капиталистического общества.
Отдельные главы моей работы будут посвящены следующим темам: Достоевский и социально-политический роман 60–70‑х годов; Достоевский и философский роман 70–80‑х годов; поэтика писателя; Достоевский и традиции классической русской литературы (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Л. Толстой); Достоевский и зарубежная литература (Бальзак, Гюго, Диккенс и др.); Достоевский и современность.
Свою диссертацию я предполагаю закончить к 1942 году131.
Но важнее была напечатанная в марте 1941 года в журнале «Октябрь» большая юбилейная статья О. В. Цехновицера, которая, казалось, окончательно открыла дорогу писателю. При написании этого текста литературовед явно использовал материалы диссертации, над которой работал, даже с привлечением неизданных рукописных материалов романа «Подросток», предоставленных А. С. Долининым; однако почти полностью в своих положениях, а особенно выводах, она повторяла написанное им ранее послесловии к «Повестям»132. Так же этот юбилейный обзор и завершался:
Несмотря на все ошибки, все срывы, которые были свойственны Достоевскому, несмотря на то, что «голос зла» был в нем часто сильнее «голоса добра», наша социалистическая эпоха не может не отдать дань гениальному писателю. Вспомним, что за подписью В. И. Ленина 2 августа 1918 года в «Известиях» был опубликован «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах Российской Федеративной Социалистической Советской Республики». На первом месте этого списка в разделе «Писателей и поэтов» было имя Льва Толстого, а на втором – Федора Достоевского133.
Однако начинания не были реализованы. Центральная пресса практически игнорировала 60-летие со дня смерти писателя; даже частично отведенная этой дате полоса в «Литературной газете» была сдержанной по тону. Наряду с тем, что В. С. Нечаева ставила вопрос о необходимости изучения черновых рукописей писателя134, а О. В. Цехновицер снабдил своим примечанием перевод отзыва Стефана Цвейга о русской литературе («Я боготворю Толстого и преклоняюсь перед ним и я люблю Достоевского…»)135, направляющий характер имела статья В. Ермилова. В ней партийный литературовед высказался в уже традиционном ключе: «Великая правда и великая ложь переплетались в творчестве Достоевского», однако вставал на защиту его гуманистических идей в свойственной только В. В. Ермилову речевой форме: «Мы работаем и боремся для того, чтобы ни в одном уголке земного шара не был оскорбленных и униженных людей и чтобы никто не смел обижать „дитё“»136. «Известия» сообщили, что в Ленинграде «в связи с исполняющимся 9 февраля 60-летием со дня смерти Ф. М. Достоевского Институт литературы Академии наук СССР провел открытое научное заседание», на котором в том числе был заслушан доклад А. С. Долинина о романе «Подросток»137.
Такая сдержанность имела причину: начинался очередной виток антидостоевских настроений, а Великую Отечественную войну писатель встретил в положении изгоя. Свидетельством тому книга И. М. Нусинова «Пушкин и мировая литература», вышедшая буквально в первые дни войны138. Этот литературовед с коммунистической закалкой (и трагическим будущим) посвятил целую главу низвержению Достоевского, озаглавив ее «Пушкин против Достоевского»139. Учитывая ту роль, которую с 1937 года играл в советской идеологии мифологизированный и гальванизированный Пушкин, такая постановка вопроса в принципе ничего хорошего Ф. М. Достоевскому не сулила.
Вспоминая высокие оценки писателя, делая реверансы его гениальности, в действительности книга И. М. Нусинова в целом, а особенно указанная статья, наполнены ядовитыми, зловещими инвективами. Разбирая в основном «Пушкинскую речь», литературовед обвиняет Достоевского в умышленном искажении Пушкина:
Достоевский претендовал на возвеличение Пушкина, на его глубокую и объективную оценку. Но он лишь исказил и унизил Пушкина.
Достоевский претендовал на роль защитника народа и прокламировал необходимость следования интеллигенции за народом. Но он, по существу, лишь содействовал углублению разрыва между интеллигенцией и народом.
Достоевский претендовал на возвеличение русской женщины, но он исказил положительный характер Татьяны и унизил русскую женщину.
Достоевский обрушился на «западников-подражателей» (Страхов) и провозгласил самобытность консерваторов. Но он сам в своей речи выступил как подражатель140.
Повторяя слова о гениальности Достоевского, И. М. Нусинов совершенно не оставляет писателю возможности оправдаться, обрушивая на него целые ярусы идеологических обвинений всем своим умением трибуна Коммунистической академии и Института красной профессуры:
После революции 1905 года Мережковский, ссылаясь прежде всего на «Бесы» Достоевского, провозглашал его «Пророком русской революции».
После Октябрьской революции также еще находились такие почитатели Достоевского, которые, ссылаясь на только что приведенные и на аналогичные высказывания Достоевского, говорили о нем, как о явлении пророческом.
Но эти последователи Достоевского сильно напоминали Маргариту, которая, слушая Фауста, была наивно уверена, что пастор говорил то же самое, только иными словами.
Надо ли доказывать, что все эти поповские разговоры об изреченном Достоевским «окончательном слове великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по христову евангельскому закону» – ничего общего не имеют с путями и сущностью нашей революции?
Надо ли говорить о том, каким ничтожным и жалким является это «окончательное слово» в сравнении с тем подлинно великим словом, которое было возвещено всему миру Сталинской Конституцией?
И не в том только дело, что Достоевский не поднялся до понимания будущего русского народа, той всемирно-исторической роли, которую русский народ играет как ведущий народ первого в мире Союза Социалистических Республик. Достоевский не понимал его прошлого.
Пушкин же действительно обнаружил глубокое понимание других народов и всем своим творчеством, в особенности своей интерпретацией образов мировой литературы, сказал новое слово в мировой культуре. Но Достоевский низводил его новое слово к старым, избитым, ханжеским повторам христианских проповедей.
Достоевский при этом совершенно замалчивает, в какой мере Пушкин-материалист, Пушкин-атеист чужд был православных добродетелей.
Пушкин многократно в своей поэзии издевался над всеми столь чтимыми Достоевским христианскими догмами…141
Нацизм сражается за Достоевского
Литература о Достоевском не дает нам понимания того, что происходило с писателем в годы войны: СССР был занят более важными вопросами, а наука о Достоевском несла потерю за потерей – умер от голода В. Л. Комарович, погиб в бою О. В. Цехновицер… В Германии тоже как будто не было особенных событий: даже специальные работы о Достоевском там это время обходят стороной142, тогда как утверждение, что «мощное воздействие Достоевского на немецкое искусство, огненный след, прочерченный его творчеством в судьбе немецкой общественной и философской мысли ХХ столетия»143, вряд ли предполагает паузу на пятилетие, притом едва ли не самое тяжелое в ХX веке. Почти нет сведений и о том, что происходило с наследием писателя на оккупированных врагом территориях. Однако это лишь умолчания, тогда как Ф. М. Достоевский в годы Великой Отечественной войны был там же, «где его народ, к несчастью, был»: и в оккупации, и в окопе, и в ссылке, и даже в коллаборации.
Так случилось, что нацизм захватил Ф. М. Достоевского, обосновал и использовал его в качестве орудия пропаганды в войне с СССР. Такой поворот биографии русского гения объясняется несколькими причинами. Не последняя из них – тот афронт писателю, который демонстрировался в Советском Союзе и который сделал Ф. М. Достоевского как будто идеологически чуждым на родине. Существенна и другая причина, ничуть не зависящая от советских внутриполитических обстоятельств: возглавлял Министерство пропаганды нацистской Германии адепт русского писателя, и было бы странно, если бы он со своим дьявольским умом не использовал Ф. М. Достоевского как мощное орудие в войне против СССР.
Подобно пленнику, Ф. М. Достоевского использовали в качестве живого щита и гнали в бой, причем на трех различных полях сражений: мы видим три самостоятельных направления нацистской пропаганды, каждое из которых постараемся описать.
На протяжении войны нацистская пропаганда демонстрировала жителям захваченных территорий свое особенно бережное отношение к русской литературе; повсеместно напоминалось о запрете и горькой судьбе выдающихся литераторов при большевиках:
Практически во всех коллаборационистских изданиях, начиная с 1941 года, были рубрики «уголки культуры». В них печатались произведения русских классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского и других. Комментарии обращали внимание читателей на те аспекты их творчества, которые при советской власти замалчивались или принижались: религиозность, великорусский патриотизм или национализм144.
Особенно много повествовалось о тех литераторах, которые были расстреляны или сгинули в эпоху репрессий. Периодика активно рассказывала о судьбах писателей в условиях советского строя145, напоминала о сочинениях запрещенных при большевиках авторов. Порой это были очерки о советской повседневности:
Рядом со мной появляется модно одетая женщина. Она вытаскивает батистовый платочек, пахнущий шипром, и обращается к продавщице:
– Скажите, пожалуйста… Ахматова есть?
– Есть «Четки».
Но дама, не беря в руки книги, тихо спрашивает:
– А… муж Ахматовой… есть?
Она боится просто спросить: есть ли стихи Гумилева? Ибо Гумилев расстрелян большевиками, как белогвардеец. Поэтому она начинает с Ахматовой…
– Нет, гражданка, Гумилева не продаем…
Я совершенно поражен таким способом спрашивать нужную книгу и еще больше поражен эрудицией продавщицы…146
Примером того, как вынуждены были жить отверженные литераторы, была избрана Анна Ахматова, ее имя часто приводилось в прессе, особенно в связи с последними произведениями; например, в газете «Голос народа» (Локотского самоуправления) статья «Как напечатали Анну Ахматову» сообщала, что «под угрозой гибели сына в когтях НКВД Ахматова снова пишет – пишет надутые, фальшивые агитки… Чего не сделаешь для спасения своих детей! Скверно, но понятно»147. Приведем более подробно эту же мысль:
Что бы ни думали советские писатели о власти Сталина, свои сокровенные мысли они держат при себе, для домашнего употребления. В своих книгах и статьях они выступают в застегнутых на все пуговицы вицмундирах казенной идеологии. <…>
А. Ахматова нарушила целомудренное молчание «внутренней эмигрантки», разразившись ура-патриотическими стихами после начала войны СССР с Германией. Возможно, что за два с лишним десятка лет поэтесса, говоря советским языком, «перестроилась» и пошла «по линии» союза с большевиками? <…> Проще и вернее другое объяснение неуместного патриотического зуда, охватившего Ахматову. Дело в том, что во время ежовщины был арестован ее сын. Это дало большевикам удобную возможность непосредственно управлять чувствами и вдохновением поэтессы148.
Констатации не были единственной формой пропаганды: оккупационные администрации активно поощряли знакомство граждан с той литературой, которая в СССР была под запретом, – как по радио, так и всеми иными доступными способами. Можно без преувеличения сказать, что в годы войны центром культурной пропаганды становится Одесса. Начиная с 1 февраля 1943 года на радио долгое время выходила передача артистки О. Селиновой, посвященная русской литературе, представлявшая собой чтения стихов «прославленных русских поэтов», в том числе Ф. Сологуба, А. Ахматовой, Н. Гумилева, С. Есенина, К. Бальмонта, З. Гиппиус149.
Открытый в Одессе решением дирекции культуры при губернаторстве в мае 1943 года Антикоммунистический институт исследований и пропаганды (в октябре переименован в Институт социальных наук) проводил многочисленные лекции; одним из постоянных лекторов в нем был А. Д. Балясный150, профессор университета, завкафедрой украинской литературы, а также Г. П. Сербский, занимавший с конца 1942 года место профессора и завкафедрой русской литературы университета151. А. Д. Балясный выступал со статьями по вопросам литературы152, а также с жизнеописаниями жертв большевизма в романтическом ключе, в том числе о Н. С. Гумилеве, погибшем как воин и поэт в бою с «иудо-большевистскими поработителями родины»153; Г. П. Сербский участвовал в издании книг С. А. Есенина и Н. С. Гумилева.
Все подобные лекции по русской литературе должны были проходить этап согласования с оккупационными властями154, причем не все в результате разрешались; скажем, запланированное выступление поэта и литературного критика О. А. Номикоса «Сказительница Марфа Крюкова», не носившее антисоветского характера, не было разрешено155.
Что касается именно наследия Ф. М. Достоевского, то ему уделялось особое, даже исключительное внимание. Еще до того, как 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, нацистские организации во всем мире вели дискуссии о писателе. Активным пропагандистом идей писателя стал Российский фашистский союз в Харбине: еженедельно проводимые обществом в Центральном русском клубе вечера с красноречивым названием «Встречи фашистов и их друзей» включали и доклады о писателе Иакинфа Васильевича Лавошникова, известного монархиста и культурного деятеля русского Харбина156. 18 февраля 1941 года он выступил с докладом «Достоевский как пророк русской революции»:
Не новая уже тема, неоднократно дебатировавшаяся в эмиграции, была искусно подана докладчиком в свежей своей новизной трактовке творчества великого русского мыслителя, отчего еще более выиграла в своей неостывающей злободневности. И. В. Лавошников нарочито обошел слишком известную аргументацию, построенную на «Бесах», где Достоевский пророчески нарисовал картину большевицкого бунта, оперируя романами «Преступление и Наказание» и «Братья Карамазовы», все острие своей мысли, базирующейся на литературно-психологическом разборе произведений писателя-духовидца, направил к вскрытию тех внутренних социальных язв в дореволюционной России и той страшной душевной бездны в Русском человеке, которые психологически подготовили крушение Российской государственности157.
Наибольший резонанс вызвал следующий доклад, читанный им 4 марта 1941 года, под названием «Смердяковщина в эмиграции»:
Эта необычайная и острая тема привлекла на «чашку чая» фашистов и их друзей многочисленную аудиторию, среди которой присутствовали видные представители эмигрантской общественности <…> Доклад вызвал оживленную дискуссию, затянувшуюся на целых два часа, и лучше всего повествующую о содержании злободневного доклада, нежели трафаретный отчет о нем. Прения открылись следующим интересным выступлением Ю. Ф. фон Зиберг:
«– Копаясь в болоте человеческой души, Достоевский собрал там большую коллекцию всевозможных бесов и чертенят. Эти бесы – суть бесы господства, вольнодумствования, сладострастия, оппортунизма, безбожия, зависти, злобы и т. д.
Достоевский рассадил их по душам своих героев. И самого страшного из бесов – кинематографического Кин-Конга посадил в Смердякова. Тип этого отцеубийцы дан Достоевским в чеканной, психологически завершенной форме. Владеющего Смердяковым беса нельзя спутать с бесами других персонажей – ни в „Братьях Карамазовых“, ни в самих „Бесах“.
Все бесы Достоевского общечеловечны, встречаются на каждом шагу в повседневной жизни, и их легко отыскать среди эмиграции. Но бес смердяковщины проявляется только в стихийной атмосфере, в толпе, обуянной слухами, в бунте, в революции». <…>
Выступивший вслед за Ю. Ф. фон-Зибергом инвалид Епифанов протестовал против клейма «смердяковщины». В эмиграции есть смердяковы, но нет смердяковщины. <…> В заключительном слове докладчик, отвечая своим оппонентам, указал, что он был далек от мысли обвинить всю эмиграцию в смердяковщине, но все же подчеркивал, что психология некоторых элементов значительно напоминает Смердякова158.
Оккупация дала Ф. М. Достоевскому новую жизнь, и нацистская печать постоянно сообщала об освобождении классика от оков большевизма:
Советская цензура постаралась изъять и из библиотек, и из школьного преподавания «Бесов» и остальные произведения Достоевского. <…> Получилось так, что в такой номинально самой «свободной» стране в мире, как СССР, Достоевского тщательно прятали от читающей публики, от аудитории, от школьного класса. Все, учившиеся и оканчивавшие в эти годы советскую школу, выходили в жизнь в совершенном неведении относительно такого мирового явления в области литературы, как Достоевский159.
В разговоре о популярности Ф. М. Достоевского за границей даже приводился подробный рассказ о переводах его сочинений в Японии160. Во Пскове для подготовки программы по «просвещению и воспитанию детей – молодого поколения граждан новой, освобожденной от большевизма России» летом 1943 года были организованы курсы для школьных учителей (120 участников, из них мужчин – 16); среди обзорных лекций были «Философско-исторические взгляды Достоевского», «Русские поэты – жертвы большевизма»161. Некоторые газеты печатали те сочинений Достоевского, которые не издавались в СССР. Например, псковская (издававшаяся в Риге) газета «За Родину» поместила рождественский рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»162. Особенно же часто проводилась параллель между романом «Бесы» и большевизмом163.
Велика была и лекционная активность, особенно в Одессе. Это были и отдельные лекции, как выступление «Духовные искания Достоевского» преподавателя университета А. Ермолаева 5 января 1944 года в Институте социальных наук164. Постоянно упоминал имя классика А. Д. Балясный: «Ленин поощряет издевательство над всем русским. Большевики преследуют творения Ф. М. Достоевского, когда в Америке признают Достоевского мировым гением»165. Произведения писателя читались на мероприятиях: так, 6 сентября 1942 года в Одесском доме ученых в рамках концерта был прочитан отрывок из «Братьев Карамазовых»166.
Оккупационное радио транслировало тексты Ф. М. Достоевского и передачи о писателе. 19 февраля 1943 года по радио передавали получасовое чтение «Братьев Карамазовых» (артисты Викторов и Полетаев)167; 17 мая 1943 года с 15‑30 по 16-30 – «Художественное чтение. Отрывок из романа „Бесы“ Ф. М. Достоевского. Читает артист г-н <Л. С.> Горовой»168; 27 мая с 15-30 до 16‑30 – «Доклад г-на <Н.> Вечерина о романе Достоевского „Бесы“ (окончание)»169.
Нельзя не отметить, что газеты откликнулись на смерть в блокадном Ленинграде В. Л. Комаровича – в берлинском «Новом слове» появился прочувствованный некролог, написанный В. Клыковым. Прежде всего, был отмечен вклад ученого в изучение древнерусской литературы – «это был один из лучших в мире знатоков народной легенды», но отмечались и его труды о Достоевском:
Интересовался Комарович и новейшей литературой. Он страстно ненавидел академическую рутину. Его работы о русской поэзии, хорошо известные тем, кому приходилось знакомиться с «Библиотекой поэта», отличаются отсутствием социологизма, смелостью мысли и глубоким пониманием законов поэтического творчества.
Комарович был другом немецкого народа и германской культуры. Он много лет работал в высших учебных заведениях Германии – в том числе и в Берлинском университете, где читал лекции о творчестве Достоевского.
Погиб большой ученый! Трудно представить, что не увидишь больше его худощавое лицо с бородкой, какую обычно носили разночинцы минувшего века, и потертый старомодный, но тем не менее еще изящный и опрятный костюм.
Гибель Комаровича – тягчайшая, непоправимая утрата для всякого, кто любит и ценит русскую национальную культуру170.
Особенное место в оккупационной культурной жизни занял театр. Наряду с тем, что повсеместно клеймился театр советский и порой даже английский (за переделки произведений Ф. М. Достоевского)171, провозглашался новый свободный русский театр. Театральных трупп было несколько, в том числе русская труппа Крымского государственного театра (Симферополь), которая была в начале 1943 года перевезена в Одессу и вошла в состав Румынского национального театра; ее силами была начата подготовка «Братьев Карамазовых»172.
Однако главным явлением оккупационной театральной культуры стал Русский театр Василия Вронского, который открылся в Одессе 25 апреля 1942 года173. 14 апреля 1943 года на его подмостках состоялась премьера спектакля «Преступление и наказание»174. После пожара осенью 1943 года он открылся снова, и посвященная этому статья дает нам понимание широты деятельности В. М. Вронского:
Вынужденный при большевиках питаться мякиной советских агиток вместо пьес или – чтоб было еще хуже – изуродованной, приспособленной к принципам «социалистического реализма» классикой, подсоветский зритель сразу почувствовал в новом театре дыхание до сих пор ему неведомой или знакомой понаслышке жизни.
За время своего полуторагодичного существования старый русский актер, воспитанный на традициях русского театра и искусства, В. М. Вронский показал одесской публике около ста постановок пьес лучшего классического и иностранного репертуара.
Театр перестал осуществлять принятый в советской системе «производственный план» и стал просто театром, то есть местом показа искусства, свободного от агитационных и тенденциозных налетов, от чего мы почти было отвыкли.
На этом пути дирекция театра и труппа пережила немало серьезных испытаний, и это прежде всего относится к работе, которая была проделана с актером, привыкшим в советское время к штампованным ролям и типам. Театр рос, креп так же, как и все его творческие возможности, но ему пришлось пережить бедствие – возник пожар, который мог задержать представления на неопределенное время. Но тут пришла на помощь румынская администрация в лице Губернаторства Транснистрии, Одесского муниципалитета, местной прессы и широкие круги общественности, которые приняли все необходимые меры для восстановления здания театра и возобновления его деятельности в старом помещении.
Сейчас театр блестит своей красотой. Он капитально отремонтирован как внутри, так и снаружи. Сделаны большие внутренние переделки как на сцене, так и в фойе театра. Значительно улучшено электроосвещение, установлены новые плафоны, фонари и прочее. Кроме материалов, выделенных бесплатно Губернаторством и Муниципалитетом, дирекция затратила на ремонт свыше 120 000 марок.
Для открытия театра, которое состоится сегодня, 30 сентября сего года, после его ремонта Вас. Вронский ставит «Идиота» Ф. М. Достоевского в драматической обработке В. А. Крылова и Плющика-Плющевского. Это серьезнейшее дерзание театра, из которого, мы надеемся, он выйдет несомненным победителем.
То, что господин Вронский обратился к использованию такого изумительного произведения, как «Идиот», говорит о том, что театр идет вперед по пути служения русскому искусству175.
Премьера «Идиота» (в дореволюционной версии В. А. Крылова и Я. А. Плющика-Плющевского) ожидалась с нетерпением: «Публике впервые после освобождения Одессы от большевистского владычества предстоит увидеть в сценическом воплощении творение гениального знатока человеческой души»176, а премьера стала большим событием. В дневнике одесского музыканта и будущего известного педагога В. А. Швеца (1916–1991) описан этот спектакль 10 октября 1943 года:
Был в театре Вронского после ремонта. Потолок нашит из фанеры. Смотрел «Идиот» по Достоевскому. <В. Е.> Маккавеевский в роли Мышкина великолепен. Все в нем было прекрасно: от внешнего застенчивого облика до игры рук, по которым можно было прочесть все его мысли. Он одинаково был силен во всех актах, даже в заключительном, где легко сорваться на мелодраму. Большие успехи, особенно в последнем акте, и у Вронского, который играл Рогожина. Но он по-прежнему не знает роли и импровизирует большую часть текста. Анастасия Филипповна в исполнении <Н. Г.> Мерцаловой тоже весьма хороша. Она была темпераментна и характерна. Неплохо играл Фердыщенко <Н. С.> Фалеев, а генерала в отставке – <А. А.> Савельев. Я смотрел на это все и думал, как бы это превосходно получилось бы в виде оперы! Почему этим не занялся Чайковский?177
Вместе с немецкими войсками В. М. Вронский ушел в Румынию, а там в марте 1944 года был арестован СМЕРШем, этапирован в Одесскую тюрьму, в марте 1945 осужден на 10 лет ИТЛ и умер в заключении в колонии в Николаевской области в феврале 1952 года178.
Наибольшая известность Ф. М. Достоевского того периода связана прежде всего с тем, как использовались антиеврейские настроения русского классика.
Об использовании антисемитских высказываний Ф. М. Достоевского в нацистской пропаганде было известно и ранее, поскольку тому способствовало распространение слухов об антисемитизме писателя даже среди советских солдат: как вспоминал писатель Анатолий Рыбаков, листовки с текстами из «Дневника писателя», направленными против еврейства, регулярно сбрасывались на позиции советских войск с вражеских самолетов179. Вскользь о статьях такого рода в оккупационной прессе можно узнать также из монографии Д. А. Жукова и И. И. Ковтуна180. Однако сложно даже представить, насколько безбрежной и грязной была эта пропаганда.
Нацистская Германия не сразу привлекла Ф. М. Достоевского в ряды пламенных антисемитов: поначалу нацистская пропаганда едва не отправила русского классика в привычный для него лагерь реакционных авторов, заявляя, что писатель получил известность в мире «благодаря своим еврейским переводчикам»181.
Но поскольку даже в России печатно утверждалось, что Ф. М. Достоевский «явился уже откровенным основоположником новейшего антисемитизма»182, то усилиями Министерства пропаганды была сделана попытка сформировать ложную концепцию об антисемитизме Достоевского как истинной причине запрета его произведений в СССР: якобы советское правительство «не могло простить Достоевскому его деятельности, направленной на разоблачение планов еврейства», и именно по этой причине «оно пыталось снизить значение творчества Достоевского, замалчивать его публицистические высказывания, доказать, что между художником и мыслителем был огромный разрыв, что Достоевский вообще не был мыслителем, и что его публицистика устарела и реакционна…»183 Ровно теми же причинами объяснялось исчезновение писателя из школьной программы: «Произведения Достоевского, создавшие писателю мировую славу, в советских школах не изучались. Такая кара постигла писателя за его антисемитизм»184. Так что шквал антисемитизма с начинкой из цитат Ф. М. Достоевского захлестнул оккупационную прессу185.
Даже мемориальные здания или музеи, сохранявшиеся не в лучшем виде при большевиках, как будто подкрепляли позиции нацизма:
Разрушен дом Достоевского в селе Даровом. С эти домом связаны детские годы писателя. Запущен и разрушен дом, где жил Тургенев. Все это было запущено и разрушено еще до войны и подтверждает, что иудо-большевизм был и остался злейшим врагом культуры186.
Еще в 1931 году на доме Ф. М. Достоевского в Старой Руссе была установлена мемориальная доска, но при нацистской оккупации ее заменили:
По распоряжению местной германской комендатуры дом в Старой Руссе, в котором проживал Федор Михайлович Достоевский, получил новую памятную доску, заменившую прежнюю, старую и заржавевшую надпись, по которой германские солдаты и узнали, что в доме с 1872 по 1880 год жил и работал Достоевский.
Дом этот имеет весьма жалкий вид: запущенный, давно не ремонтированный, полный вшей и клопов – он служил убежищем для восьми семейств! Кое-где еще видны следы старых, грязных обоев, двери сорваны с петель, стекла местами выбиты и заменены бумагой187.
Поскольку значительная часть потомков писателя оказалась под оккупацией, это обстоятельство было использовано нацисткой пропагандой максимально и, по-видимому, серьезно повлияло на отношение советской власти к наследию писателя в будущем.
Ранее было известно о том, что Е. А. Достоевская (Щукина) – жена Милия Федоровича Достоевского использовала фамилию Достоевского «для предательских выступлений по радио и в печати»188 и уехала с оккупантами, однако это далеко не все, что можно сказать о потомках писателя в контексте их жизни под немцами.
Еще в 1920‑е годы в эмигрантской прессе сообщалось о нужде, в которой при большевиках живут родственники писателя – «сын Достоевского умер с голоду, жена сына Достоевского живет в Крыму и голодает»189. Однако в ходе войны Германии против СССР этот вопрос приобрел идеологическую окраску: «Потомки Достоевского и Толстого подвергались в СССР преследованиям НКВД. Этот факт символизирует отношение большевиков к культуре»190.
В отечественной науке о Достоевском считается, что внучка писателя Мария Михайловна (1878–1949) «была угнана вместе со своей племянницей М. В. Зеленевой на принудительную работу в Латвию. Последние годы прожила на Рижском взморье», а Мария Васильевна Зеленева (1906–1969) «после освобождения трудилась воспитателем в детских садах Риги»191. Но когда нацистская пресса нашла их в начале 1943 года в латышском Балдоне, то представила их судьбу иначе.
Вблизи Риги, в Балдоне, сейчас живут родственники Ф. М. Достоевского – внучка писателя Мария Михайловна Достоевская и правнучка его родного брата – Мария Васильевна Зеленова, переселившаяся сюда из Царского Села.
Мария Васильевна сообщает об участи некоторых членов семьи писателя. В Советском Союзе скончалась от голода дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Федоровна – тоже писательница.
Большевики не умели чтить память великих русских писателей и не уважали их потомков. Немало испытаний выпало и на долю Марии Васильевны Зеленовой. Ей был закрыт путь к высшему образованию. При поступлении в университет ее прошение было отклонено, и отказ мотивирован тем, что Достоевский, якобы, «являлся помещиком, а дети помещиков не имеют права на высшее образование в СССР». Правнучке великого писателя с большим трудом удалось поступить в педагогический техникум, причем ей было предложено стать комсомолкой, либо учиться на одних отличных отметках. Мария Васильевна напрягала все свои силы для получения отличных отметок, но в комсомольскую организацию не вступила. Немалых трудов стоило ей окончить образование. Из Царского Села М. В. Зеленова добровольно эвакуировалась с германскими войсками в Осьмино, где работала в течение одиннадцати месяцев переводчицей, а оттуда переехала в Балдон192.
Намного более резонансной стала другая публикация – статья румынского литератора Георга Ганя в газете «Viaţă» («Жизнь»). В августе 1942 года он оказался в оккупированном Крыму и познакомился в том же месяце с потомками Ф. М. Достоевского – невесткой Екатериной Петровной (1875–1958), а также ее родной сестрой Ниной Петровной Фальц-Фейн (1870–1958). Вскоре он написал очерк для газеты, и 1 февраля 1943 года материал был отправлен в Бухарест под названием «Трагедия семьи Достоевского», с приложением двух фотографий Екатерины Павловны (одна из них – с немецкими солдатами). После заметного промедления, 28 апреля 1943 года, статья была напечатана193. Приведем ее переложение в оккупационной периодике, озаглавленное «Издевательства большевиков над семьей великого писателя Достоевского»:
Румынская газета «Виаца» опубликовала потрясающую статью о семье великого русского писателя Достоевского. Симферопольский корреспондент этой газеты Ганер <!> нашел в Симферополе невестку Достоевского – жену его единственного сына – Екатерину Достоевскую в состоянии ужасающей нужды. Екатерина Достоевская рассказала, что до большевистской революции вся семья писателя – его жена Анна Григорьевна, сын и она сама проживали в Петербурге и работали над литературным наследством Достоевского. Доходы от издательств и получаемая пенсия давали возможность безбедно существовать. После октябрьской революции настали времена преследования, бедствий и горькой нужды. Семья Достоевского вынуждена была бежать из Петербурга. Анна Григорьевна нашла убежище в небольшом домике, принадлежавшем Достоевскому недалеко от Ливадии, в Крыму. Сын поспешил в Москву в надежде что-нибудь спасти из состояния, находящегося в банках. Екатерина Достоевская поселилась в усадьбе родителей на Кавказе. После разгрома армии Врангеля Анну Григорьевну выбросили из домика, который был сожжен. Она была вынуждена просить милостыню, чтобы не умереть от голода. Старые друзья приняли в ней участие, поселили ее в полуразрушенном доме на чердаке и помогали ей. Но и они долго поддерживать ее не могли, так как сами сильно нуждались. Она умерла от истощения и вместе с другими нищими ее закопали в общей могиле.
Судьба Екатерины Достоевской была не лучше. Дом ее родителей также подожгли большевики. Она кое-как перебивалась, исполняла всякую черную работу. Ее муж, единственный сын Достоевского, подвергался в Москве преследованиям, как «буржуй». Он вынужден был скрываться в окрестностях Москвы у старого кучера, служившего ранее у Достоевских. Три года полуголодного существования подорвали силы Достоевского и он умер от тифа. Старый слуга великого писателя своими руками похоронил его сына194.
Статья эта получила, без всякого преувеличения, всеевропейский резонанс; она была многократно изложена в других периодических изданиях на различных языках195. В целом смысл ее сводился к мысли: «Вот до чего довел большевизм все потомство великого русского писателя, предсказавшего в „Бесах“ тот ужас, который принес его родине большевизм»196.
Когда Е. П. Достоевская и ее сестра в начале 1944 года после несчастного случая лежали в больнице, они поместили в одесской газете объявление следующего содержания:
Екатерина Петровна Достоевская (невестка Федора Михайловича) и ее сестра Нина Петровна Фальц-Фейн находятся в Одессе на Слободке-Романовке, в немецкой больнице шеф д-р Рихо, за грузинской больницей, маршрут трамвая № 15 – просят друзей и знакомых навещать их197.
Георг Ганя, вдохновившись успехом статьи, нашел издателя для будущей книги «Федор Достоевский» – та же газета 13 марта 1944 года сообщила, что эта книга уже готова и скоро появится198, но перелом хода Великой Отечественной войны не позволил ей выйти в свет.
Если можно кого-то из семьи Достоевских назвать настоящим коллаборантом, то Евгению Александровну Достоевскую (Щукину), вторую жену Милия Федоровича Достоевского, которая в 1942 году также оказалась на оккупированной территории. Хотя родственники Достоевского пытались откреститься от «самозванки», утверждая, что брак ее с М. Ф. Достоевским был мимолетным увлечением, а их фамилию та использовала незаконно, но в действительности брак с М. Ф. Достоевским был не только официальным, но даже церковным: 20 августа 1917 года священник церкви Воскресения на Малой Бронной А. П. Сперанский повенчал «потомственного дворянина, окончившего курс специальных классов Лазаревского института Восточных языков Милия Федоровича Достоевского, православного вероисповедания, первым браком, 33‑х лет» с «Тульской губернии, города Белева мещанкой девицей Евгенией Андреевой Щукиной, православного вероисповедания, первым браком, 20-ти лет»199.
Она оказалась на оккупированной территории; работая в театре, ушла с немецкой армией и, оказавшись в Германии, начала активное сотрудничество с немцами. Не зная подлинных обстоятельств жизни своего мужа после революции (даже о том, что он потерял возможность самостоятельно передвигаться), Е. А. Достоевская сочинила его историю, заканчивавшуюся смертью в сибирской тюрьме, многократно повторяла ее, так что эта мифологизированная биография М. Ф. Достоевского впоследствии даже попала в научную литературу200.
Давая интервью нацисткой прессе, она заявляла, что теперь ее целью является борьба с большевизмом, объясняла гонения на нее и на семью Ф. М. Достоевского ненавистью «кремлевских евреев» и вообще пылала антисемитизмом. Уже находясь в Берлине, в марте 1944 года, она дала интервью Герберту Касперсу, с которым встречалась весной 1943 года в Крыму, и заявила: «Большевизм никогда не менялся, как за три тысячи лет своей истории никак не изменились и кровожадные еврейские лица»201. После разгрома нацизма Е. А. Достоевская спасается в Австрии, где ее вербует американская разведка202.
Руководящую роль в австрийской резидентуре ЦРУ в послевоенные годы играл скрывшийся от Нюрнбергского трибунала Отто фон Большвинг – нацистский преступник, активный участник «окончательного решения еврейского вопроса», служивший при Гитлере в СС первым помощником Адольфа Эйхмана. В его материалах, рассекреченных в 2005 году, также имеются сведения об участии Е. А. Достоевской в агентурной деятельности на стороне американской разведки203. И именно фигура Большвинга стала причиной того, что в рамках принятого в 1998 году в США «Закона о раскрытии военных преступлений нацистом» в 2006 году оказались рассекречены и другие документы, в которых можно найти материалы о деятельности Е. А. Достоевской.
Она была завербована бельгийский священником-иезуитом Марселем Ван Куцемом (1909–1973). Это был крупный религиозный деятель, историк-византинист, с отличием окончивший католический университет в Лувене; в годы войны был причислен к Священной конгрегации по делам Восточной церкви и жил в Риме, обретя значительное число знакомств в русской антифашистской среде. В 1945 году кардинал Эжен Тиссеран, секретарь конгрегации, направил Ван Куцема своим представителем в британской зоне оккупации, а затем и во всей Австрии и Германии. В числе девяти языков, которыми Ван Куцем владел, был и русский (его он выучил в студенческие годы, чтобы изучить работы русских византинистов); общение в среде эмигрантов помогало ему быть полезным спецслужбам; наибольшую известность в русской среде он получил, живя в Зальцбурге и издавая бюллетень «Луч» (часть русскоязычного книгоиздания «Ди-Пи», издавался в 1945–1954, Ван Куцем был главным редактором с августа 1952 года)204; связь его с ЦРУ позволила запросить в 1952 году финансовую помощь на издание газеты205. Связав жизнь с одной из завербованных им женщин и нарушив целибат, святой отец обзавелся семейством, в 1954 году эмигрировал в Бразилию, а в 1955‑м оставил служение. Преодолевая материальные и физические трудности (после переезда его разбил паралич), он c женой и четырьмя детьми обосновался в Сан-Паулу, занимался переводами и преподаванием; причем в интервью 1957 года он отдельно упомянул, что начинал изучать русский язык и совершенствовал его в общении «с советскими солдатами, оккупировавшими часть Германии»206; ныне его именем названа улица в этом бразильском городе.
Как в жизни любого представителя духовенства при тоталитаризме, его служение было неразрывно связано с разведывательной деятельностью: в годы войны он вынужденно помогал службам разных стран (английской, французской, американской); в 1948 году был официально завербован ЦРУ и действовал преимущественно в среде русской эмиграции; при этом документы отмечают его приверженность «великорусским идеям», бескорыстие в помощи эмигрантам207. Ван Куцем придерживался убеждения, что православное духовенство в России полностью разрушилось под гнетом НКВД, и видел путь возрождения России в установлении там католичества208. Оценив его способности как агента, но учитывая как тесные связи с Ватиканом, так и сочувствие к императорской России, ЦРУ сочло целесообразным ограничить его деятельность «поиском личностей и талантов» в русской среде209. Причем контрразведка США (CIC) считала его двойным агентом, работавшим в основном на Ватикан, а также предъявляла ему претензии в неразборчивости в его гуманитарной помощи русским, на что был получен следующий ответ Ван Куцема: «Я помогаю всем, кто нуждается в духовной или материальной помощи, будь они русские или нет, советские или нет»210.
Именно Ван Куцем привел Евгению Достоевскую в американскую агентуру. Ее отрывочные анкетные данные в рассекреченной части документов ЦРУ позволяют дополнить портрет этой представительницы рода Достоевских211. Она родилась 24 декабря 1898 года в Москве, по национальности малороссиянка, в начале войны жила в Пятигорске с матерью, работая в музыкальном театре. Оказавшись в 1942 в оккупации, Е. А. Достоевская продолжила работать в театре, одно время жила в Алупке неподалеку от Воронцовского дворца212, а в 1943 году вместе с труппой была поочередно эвакуирована в Симферополь, Запорожье, а затем оказалась в Берлине. Переехав в начале 1944 года в Австрию, она поселилась с матерью в Мариенкирхене и взялась за литературное творчество – как театральный критик и как мемуарист; ее мать умерла летом 1946 года.
Не совсем ясно, когда именно она была завербована, но уже в 1951 году Евгения Достоевская – активный агент в группе Ван Куцема. Она занимается вербовкой в Австрии советских специалистов, активно участвует в конспиративных разведывательных мероприятиях ЦРУ с целью перемещения перебежчиков на Запад213. В документах ЦРУ она характеризуется как сторонница русского национализма, причем ей придается важность («a key figure») для будущих операций в Вене и советской зоне оккупации214.
В 1952 году, практически в памятные дни Ф. М. Достоевского, она в числе других немецких эмигрантов подписывается под воззванием «Ко всей политической эмиграции», которое начинается словами:
Мы, беспартийные антикоммунисты, политические эмигранты беженцы из тоталитарного Советского Союза считаем, что борьба против большевизма до полного его крушения является необходимой предпосылкой избавления наших народов от политического, национального и социального рабства, а всего человечества – от нависшей угрозы коммунистической агрессии215.
Однако о ее карьере в ЦРУ после 1952 года мы ничего не знаем, поскольку соответствующих материалов среди рассекреченных документов ЦРУ нет.
Большие надежды
Победа в Великой Отечественной войне, вырвавшая Ф. М. Достоевского из вражеских рук, казалось, открывала ему широкие перспективы, в том числе и на возобновление научных исследований о писателе. Особенно был активен А. С. Долинин, который, пользуясь приближением юбилейного 1946 года, постарался вернуть писателя в когорту разрешенных авторов. 25 мая 1944 года ученый выступает в Пушкинском Доме с докладом о работе Достоевского над романом «Подросток»216 и готовит обзор «Творчество Достоевского в историко-литературной науке 1918–1945 гг.»217.
О своих грандиозных планах А. С. Долинин решил поставить в известность и тех, от кого зависело их осуществление, – литературоведов в аппарате ЦК ВКП(б). Прежде всего, 14 сентября 1945 года он отправил письмо зам. зав. отделом художественной литературы Управления пропаганды и агитации ЦК Г. И. Владыкину, с которым был давно знаком по Ленинграду:
