Terra nullius. Роман
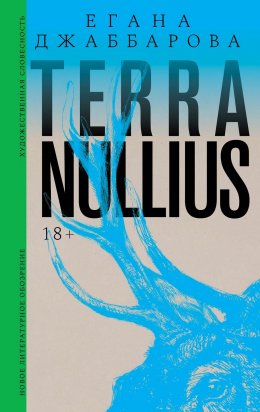
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Д40
Редактор серии – Д. Ларионов
Егана Джаббарова
Terra nullius: Роман / Егана Джаббарова. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
«Каждую ночь мне снится этот момент: я оборачиваюсь – и передо мной книжный шкаф, рядом старинное трюмо с зеркалом, словно изнутри покрывшимся туманом, я не пытаюсь попрощаться с домом, потому что не понимаю, что ухожу навсегда». 1980-е: герой переезжает в Екатеринбург из родового гнезда в грузинском селе и становится на новом месте предприимчивым авантюристом. Наше время: героиня вынуждена уехать из родной страны – там распространяется вирус, который отключает участок мозга, отвечающий за эмпатию. Новый роман Е. Джаббаровой – это ветвящийся текст, где сюжетные линии только поначалу кажутся несвязанными, но в конце концов сходятся воедино. Что значит обрести дом и что значит его потерять? Как складывается семейная история? Что заставляет людей ощущать близость и родство друг с другом? Задаваясь этими вопросами, герои находятся в постоянном интенсивном движении – в отчаянной попытке спастись от тех сил, что стремятся отнять у человека его неповторимость. Егана Джаббарова – прозаик, поэтесса, эссеист, автор книг «Руки женщин моей семьи были не для письма», «Красная кнопка тревоги», «Босфор», «Поза Ромберга» и «Дуа за неверного».
На обложке: фрагмент гравюры «Голова оленя». Б.Х. ван Хавр, 1883. Рейксмузеум, Амстердам / Rijksmuseum Amsterdam.
ISBN 978-5-4448-2888-5
© Е. Джаббарова, 2025
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Т.
Каре
и всем домам, в которых этот текст был написан
…на какой бы точке карты, кроме как на любой – нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке – и будь она целыми прериями – непрочны: нога непрочна, земля непрочна… Потому что малейшая искра – и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо – виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы.
Марина Цветаева. Китаец
Нет же ничейной земли на свете!
Идрис Базоркин Из тьмы веков
Жизнь бессмысленна без дома.
Эссад-бей
Глава 1. Как Фарман покидал дом
Больше всего Фарману хотелось уехать из дома: в маленьком грузинском селе Земо-Кулари, кроме редких домов, кладбища и лошадей, больше ничего не было. В жаркие летние дни он бродил туда-сюда по длинному саду и от нечего делать срывал несозревшие плоды фундука, крыжовника и вишни. Чаще всего он ложился на толстую ветвь тутовника и ел прямо оттуда темно-фиолетовые плоды до тех пор, пока рот совсем не почернеет. Его некогда легкое, мальчишеское тело уже стало другим: он вытянулся, возмужал, окреп, покрылся плотной скорлупой взросления, как грецкий орех. Лишь изредка сельскую тишину нарушали проезжающие машины, после себя они оставляли еле заметное облако пыли, в которое так любил всматриваться Фарман. Это была дымка перемен, которых здесь так не хватало. Смена соседских ворот или очередная свадьба были главными событиями. Уже по привычке он подползал к окнам, услышав, как играют барабаны и сигналят машины – это едет невеста, покрытая фатой и перевязанная красной лентой. Он смотрел, как коровы идут по одному и тому же маршруту, подгоняемые чабаном, и грустно вздыхал: неужели и его жизнь будет такой же предсказуемой и до невозможности скучной. И он, как сонная корова, будет идти по невидимому кругу, пока наконец не выбьется из сил.
Фарман был готов покинуть свой маленький дом, он мечтал об этом все школьные годы. Всякий раз, идя после уроков домой, он представлял, что однажды сядет в автобус и уедет навсегда. Как герои любимых фильмов с билетом в один конец и небольшим рюкзаком. Так и случилось, когда он поступил в уральский университет. Собрать сумку оказалось очень просто, не так-то много вещей нужно тебе в восемнадцать лет: майка, трусы, штаны и рубашка. Он решительно нырнул в нутро серого старого автобуса, как ныряют в глубокий бассейн, готовый не обнаружить дна. Русский город не был даже близко похож на село, он сверкал, как обертки конфет, пах смесью новых, непривычных, неприродных запахов, бросал в лицо огни машин и уличные вывески, блестел, как начищенные к празднику ботинки, хрустел под ногами асфальтовыми дорожками и нависал высокими домами. Альма-матер и вовсе поразила Фармана, он никогда не видел таких величественных зданий, словно сама возможность зайти сюда уже была своего рода привилегией. Длинные пролеты каменных лестниц, бюсты писателей и ученых, словно живые оторванные головы, следили за ним взглядом, ему было неловко в своих поношенных брюках и льняной рубашке: здесь они казались неуместными и смешными, но других вещей у него не было. В общежитии, где он теперь жил, он тоже выделялся дырявой майкой и великоватыми штанами отчима. Комната была маленькой, но она его совсем не смущала: во-первых, он уже привык к небольшим пространствам, во-вторых, и так все детство делил дом с родным братом и сводными сестрами. Когда вас пятеро, быстро привыкаешь довольствоваться малым.
Было время, когда они ютились в курятнике, где вечно пахло пометом, пока мать и новообретенный отчим строили большой дом. С отчимом у Фармана были непростые отношения: у них была совсем небольшая разница в возрасте, всего пару лет. Ахмед был моложе его матери на пятнадцать лет (в деревне, правда, все говорили про семь, наверное, они сами пустили этот слух, чтобы сгладить разницу). Фарман долго привыкал к новому молодому отцу. Хотя он и был добрым, податливым и мягким, всегда шел навстречу и ничего не запрещал, ему было сложно привыкнуть, что теперь в доме есть чужой мужчина, которого придется слушать. Но главной по-прежнему оставалась мать, она всегда все решала: стоило только ее тяжелому, почти физически ощутимому взгляду упасть на сына, как он вставал по струнке и умолкал. В Марал была сила, подобная той, что живет в древних пещерах или горных ледниках, она ловко управляла всем: от строительства дома до шитья, знала, когда и что нужно полить, не умела отдыхать и не позволяла отдыха другим. Она действительно напоминала оленя со своей тяжелой, как величественные рога, судьбой. Даже спала она лежа абсолютно прямо, как по линейке, и открывала глаза при каждом шорохе, готовая встать и быстро решить любую проблему. Украшений или нарядов она не носила, хотя и обшивала практически всю деревню красивыми платьями. Сама она предпочитала белую косынку от солнца и самое простое платье, чтобы копаться в саду. Больше машинки мать любила только сад: она могла провести в нем весь день, поливая цветы, собирая ягоды и зелень, перебирая фасоль. Земля была кормилицей, но что важнее – земля была справедливой. Она не любила ленивых, терпеливо хранила в себе мертвых и давала прорасти каждому правильно посаженному зернышку. Марал точно знала, что каждому ребенку всегда найдется работа, и с самого утра раздавала указания.
Мастерская матери: маленькая комната с швейной машинкой посредине – считалась запретной, вход туда был строго воспрещен. Можно было только слушать, как яростно постукивает механизм, и пытаться подсмотреть сквозь тонкую щелочку света, как переодеваются покупательницы. Периодически дом наполнялся соседками, все они, как маленькие дети, предвкушали долгожданное событие: примерку платья или новой юбки. Много хохотали и сплетничали в редкие минуты отдыха от домашних забот и сада, только Марал оставалась серьезной. Из-под опущенных густых бровей виднелось два почти черных глаза, они были так глубоко внутри глазниц, словно крепко пришитые плотные пуговицы. Быстро проскользнув по всем взглядом, она находила самую шумную покупательницу и смотрела на нее чуть дольше положенного, чтобы дать понять, что тут не место для развлечений.
Были времена, когда они жили только на крохотные заработки матери до тех пор, пока Ахмед не устроился кочегаром. Спустя пару лет родились Фатима , Абдулла и Ситара, и дом стал еще теснее. Теперь Расулу и Фарману приходилось нянчить Абдуллу, а мать возилась с девочками. Может быть, еще поэтому ему так хотелось уехать? В общежитии комнату нужно было делить только с двумя парнями, оба были русские и почти все время отсутствовали. Так что Фарману казалось, что он тут единственный хозяин. Правда, он быстро обнаружил, что совсем не умеет готовить. Добрые однокурсники, к счастью, подсказали ему, что есть макароны, которые нужно просто забросить в кипящую воду. Дома всегда готовила мать, мужчине не полагалось готовить, это Фарман знал еще маленьким. Все ждали, когда их позовут к столу, накрытому лобьёй, кукурузой и овощами со свежим хлебом. По праздникам Ахмед резал курицу или покупал мясо. Готовая еда появлялась сама собой, словно мать, как волшебница, доставала ее из шляпы. В дни учебы Фарман ходил в университетскую столовую, где всегда можно было взять самое дешевое пюре с котлетой. Еда казалась ему непривычно пресной и бесцветной, но это легко уравновешивалось цветами большого города. Всякий раз прошмыгнув мимо консьержки в ночное время, он шел бродить по пульсирующим улицам, здесь всегда были люди и даже в самый скучный день событий собиралось больше, чем в селе за месяц. Родители впервые гордились им и присылали письма с напутствием хорошо заниматься и получить профессию. Учиться Фарману было трудно: он не привык так много читать и периодически скучал на лекциях, поглядывая в окно. Больше уроков ему нравились перерывы и прогулки с одногруппниками. В первый день учебы они отправились в небольшой парк недалеко от университета праздновать начало новой жизни. Самый предприимчивый парень потока вытащил из портфеля стеклянную бутылку и предложил всем выпить. Фарман сначала подумал, что это вода, так казалось на первый взгляд. Он с радостью взял стакан и выпил залпом под изумленные взгляды толпы. Только опустошив содержимое, он понял, что это была не вода, что-то обжигало его изнутри, отдавало горечью и теплом, что-то, чего он не пробовал никогда раньше. В первую секунду ему хотелось выплюнуть странную жидкость, но краем глаза он заметил, как всеобщее изумление сменилось на восхищение. Одногруппники высоко оценили сельского парня, способного с такой легкостью выпить стакан водки. Тогда он узнал это двухсложное слово «водка», отличающееся от воды всего на одну букву. Загадочная жидкость помогала легче знакомиться с людьми и часто объединяла их быстрее, чем что-либо другое. Фарман даже не заметил, когда наступили каникулы и нужно было ехать домой.
Я не хочу ехать домой, мне кажется, что я перестал быть его частью. Прощаться с городом, пусть и ненадолго, гораздо сложнее, чем с родным селом. Тут жизнь идет каждую секунду, и я боюсь, что, даже закрыв глаза на ночь, пропущу что-то важное. Всю дорогу я думаю о том, чем занять себя у родителей. Вновь полоть грядки или собирать фасоль. Какая же тоска. Наверное, Абдулла, Фатима и Ситара будут донимать меня своим детским бредом. Буду уходить в кукурузное поле и лежать там в листве, так они меня не найдут.
Фарман уже приближался к знакомым серым воротам, как вдруг заметил, что все соседи не просто с любопытством рассматривают студента, но и здороваются с небывалым до этого уважением. Кто-то пихает своих юных оболтусов, приговаривая, что, если они будут заниматься, станут как Фарман. Он никогда раньше этого не испытывал, это было уважение. Оно быстро растеклось по всей деревне. Каждый знакомый теперь смотрел на Фармана с нескрываемым пиететом. Он теперь был не просто сын Марал и Ахмеда, он был уважаемым студентом университета. Даже дома встречали его празднично: мать накрыла стол и слегка приобняла сына, совершив над собой усилие. Ахмед радостно махал рукой, неся в руках две бутылки тархуна к столу. Лимонад дома покупали только на знаковые события – ближайший магазин был в часе ходьбы и он стоил один лари. Мать даже не заставила работать, напротив – приготовила его любимые блюда. Расул крепко приобнял брата не просто по-родственному, но как-то особенно, будто бы видел в нем уже не только мальчика, с которым некогда делил комнату. Фатима, Абдулла и Ситара бросились наперебой спрашивать, какой там город, кто там живет и как выглядит университет. Фарман стал событием, и это сладкое чувство впервые окутало его, как утренний туман, оно было таким приятным и праздничным. Он набрал в грудь побольше воздуха и громко (громче обычного) рассказывал про занятия, учителей, городские улицы. Впервые в жизни он чувствовал себя особенным. Героем, которому удалось вытряхнуть из себя сельскую пыль. Мужчиной, способным самостоятельно жить сложную и настоящую жизнь. Вне дома тоже все изменилось: теперь с ним не только здоровались, но и стремились спросить, как городская жизнь и как ему это удалось? И хотя Фарман пересказывал одно и то же, это его совсем не утомляло, напротив – он получал специфическое удовольствие от пересказа и в зависимости от слушателей добавлял разные детали. Словно он участник ток-шоу, где его спрашивают, как он пришел к успеху.
Фарману нравились такие передачи, там всегда был тот, кому все удалось, кто-то вроде него. Мальчик из маленького села, который не только смог уехать, но и состоялся. Он всегда надеялся стать таким. Важным парнем в красивой, отглаженной голубой рубашке, с ровной стрижкой, прямо напротив ведущего; он представлял, с каким трепетом на него будут смотреть женщины и с какой завистью – мужчины. Он сядет расслабленно, немного с вызовом посмотрит в камеру и будет рассказывать, как ему приходилось чистить навоз за местными скакунами на конном заводе, как мать заставляла собирать кукурузу под палящим солнцем, как у них с братом были одни сапоги на двоих в дождливые дни и как до ближайшего магазина приходилось идти пятьдесят семь минут по ужасной дороге. А потому всякий раз, заметив жадные глаза соседей, спрашивающих, как он устроился, он чувствовал, как плечи расправляются сами собой, как позвоночник подобно железному столбу выпрямляется и тянется к солнцу. Он вставал так, чтобы видеть всех слушателей, делал небольшую паузу и приступал к рассказу. Фарман всегда учитывал, кого больше – женщин или мужчин, детей или взрослых, от этого зависела и тональность его истории. Так, общаясь с девушками, особое внимание он уделял витринам магазинов: чистые, почти прозрачные стекла с легкостью пропускали свет и жадные взгляды прохожих, нарядные манекены, вечно готовые к празднику, подмигивали каждой женщине, как бы намекая, что для полного счастья ей непременно нужно это конкретное платье. Витрины всегда были опрятными, в них вместо сменяющихся кадров жизнь представляла собой вылизанный, пахнущий парфюмом стоп-кадр, где все неизменно. Местные жительницы зачарованно замолкали: они уже примеряли городские обновки и крутились перед подругами в небольших примерочных.
Мужской части села Фарман рассказывал о том, как много среди городских девушек красавиц, каким легким и странным становится южное тело после водки, как много подработок можно найти в большом городе и как невозможно там заскучать. Вместо пасущихся коров – большие машины, едущие друг за другом, вместо навозного запаха – машинное масло, кажется, будто мир не ограничен воротами дома, а распускается подобно пиону, стоит только открыть глаза. Местные парни мечтательно замолкали: они уже представляли, как идут по ночному городу в кожаных куртках, как легко ветер обдувает их волосы, а местные девчонки засматриваются им вслед. Фарман дарил им самое главное, что может дарить другой человек, – надежду на будущее, и они еще несколько дней ходили переполненные ею, пытаясь не растратить ни одной капли.
Глава 2. Как появилась мечта о настоящем доме
Больше всего на свете мне хотелось дома: самого простого архитектурного сооружения, предназначенного для жилья и имеющего стены, дверь и крышу. Маленького, пусть даже самого маленького на свете, но своего. Места, где кто-либо живет. Здания, жилплощади, жилища, domus-a. Не обязательно крепости, даже не крепости вовсе, не оборонительного, а сберегательного, поглаживающего, интимного, собственного. Чтобы в нем были свои стены и пол, которые не нужно ни с кем больше делить, чтобы в нем можно было ходить босиком и не закрываться изнутри в маленькой комнате, чтобы в нем можно было распаковать чемоданы и разложить книги. Без металлических стен контейнера и чужих людей, чтобы там не было грязной посуды других людей, чтобы в ванной могли висеть только наши трусы, чтобы в нем было приятно быть, чтобы в него можно было позвать гостей, чтобы в нем можно было постелить ковры, чтобы посуда была не самая дешевая, а самая красивая, чтобы в нем можно было жить с кошкой и гладить ее по вечерам, чтобы в нем можно было стирать, чтобы в нем можно было смотреть кино или повесить картину.
Я смотрела на каждый дом, архитектурное сооружение, здание, жилплощадь, жилище и думала, неужели в нем не будет малюсенького угла для нас. Без всяких изысков, просто чтобы там хотелось жить. Жить хочется далеко не везде. Здесь, например, жить не хочется. Контейнер невольно рождает во мне странные ассоциации, будто я часть индустриального орнамента или товар, который вот-вот отправится по воде. Сжиженный газ, нефть, опасное химическое соединение, кислотная и щелочная жидкость, радиоактивное вещество. Железобетонная конструкция, труба или автомобильная запчасть. Моя рука торчит из окна, как если бы она была контейнерной веткой и держала сигарету. Местные жители любят заглядывать в окна, когда проходят мимо, для них это что-то диковинное, будто человеческий зоопарк. Homo sine domo. Aliena species. Их глаза скользят по поверхности моего ненадежного обиталища, по мне и быстро переключаются. Будто они перебирают одежду в секонд-хенде, которой касаешься осторожно. Помнишь, что у нее были другие хозяева, боишься: вдруг она хранит семейные проклятия и травмы, передает болезни или тяжелую судьбу. Как копировальная бумага ждет легкого нажима пальцев, чтобы навсегда отобразить свой рисунок.
Господи, как же мне хочется дома. Меня раздражают эти глаза – ночные фары случайных автомобилей – соседки вновь приготовили еду, но посчитали лишним прибраться. Я представляю, как собираю все их тарелки и сковородки и кидаю им прямо в комнату на чистые кровати. Мне хочется выучить фарси, только чтобы ругаться. Они совсем не любят говорить и только едят. Может, если бы мы могли говорить, было бы лучше? Я бы спросила, любят ли они фильмы Джафара Панахи? Читали ли стихи Форуг Фаррохзад? Мечтают ли они, чтобы их приютили пылающие очаги?
Больше, чем дом, я хочу только наполнять его изо дня в день содержимым, как долму: вновь обрастать бокалами, панно, тарелками, плакатами, свечами, мебелью, книгами. Пока ничего этого у меня нет – только ежевечерний ритуал по поиску квартиры по заданным ориентирам. Не больше определенной суммы. Есть домашнее животное. Кошка. Мы ждали разрешение на перемещение в безопасную зону, но слышали, что его делают в лучшем случае год, а в худшем и дольше. Пока не нашли квартиру, мы жили в лагере беженцев, который представлял собой несколько контейнерных домов с общими кухнями и туалетами. На семью полагалась только одна комната, маленькая и подозрительно похожая на больничную палату с железными кроватями, узкими шкафами и маленьким холодильником. Уже несколько месяцев я безуспешно рассылала заявки и получала отказы. По-видимому, мы были обречены навечно остаться жителями барака.
Каждое объявление было похоже на предыдущее: голые стены, пол и окна. Редко встречались меблированные варианты. Если это были дома, то я обязательно обращала внимание на дверь. Мне нравились старые двери с заметными ручками. Например, бордовые с почти черной рукояткой или темно-синие с ручкой, похожей на череп. Если это были квартиры, то дольше всего я рассматривала ванные. Вот уже почти год я мечтаю полежать в ванной, предварительно добавив в воду все возможные средства: от соли до пены. Чтобы она была похожа и запахом и формой на цветущий куст гортензий. Отдельный вид удовольствия – кухни. Хотя меня больше интересуют не шкафчики и не размер холодильника, а столы. Я всегда хотела поставить круглый стол без углов, за которым каждый мог бы видеть друг друга. Но пока мечта иметь свои стены и пол казалась недосягаемой, как звезды из глянцевого журнала в десять лет.
Хотя в детстве у меня была только одна звезда – принцесса Диана. С ее взглядом исподлобья, спадающими на лоб короткими прядями золотых волос и состраданием в глазах. Я не знала никого лучше принцессы Уэльской; вот она бежит в растянутом свитере с сыновьями, вот ест гамбургер в парке неподалеку от Букингемского дворца: я так была восхищена ею, что собирала все журналы и газеты с ее изображениями в фиолетовый дневник с замочком, читала все версии ее смерти, включая конспирологические, и собирала всю литературу, которая была ей посвящена. На ее белом, аристократичном, привилегированном лице была печать боли, совсем не характерная, скорее знакомая другим, темная, густая, телесная, подлинная, скрытая, как толстые стебли дубов в густой земляной жиже. Ей полагалось быть беззаботной, богатой, счастливой и беспечной, но вместо этого каждая морщинка на ее фарфоровом лице отдавала солью ночных рыданий от несчастного брака и нелюбви. В день, когда королева людских сердец разбилась в белой машине о тринадцатый столб парижского туннеля, мне исполнилось пять лет. И мне казалось, что нет и не может быть в мире ничего важнее, чем нарастить себе такое же огромное сердце, способное любить всех: чужих и своих, похожих и непохожих, больших и маленьких. Может быть, поэтому я оказалась здесь, чтобы научиться этой любви? Где еще учиться любви, как не в доме контейнерного типа с соседями-беженцами? Здесь каждый дом пахнет разной едой в зависимости от того, кто в нем обитает; перемешиваясь, эти запахи вынужденных переселенцев щекочут ноздри изнутри, я думаю о том, чем пахнет любовь: едой, смертью или тем и другим? Когда Диана умерла, я навсегда запомнила, что умирают все: даже самые хорошие, обладатели больших сердец и хороших зубов, бездомные и владельцы роскошных вил, любители вин и фанаты безалкогольных напитков. Все. Интересно, что происходит с их домами? Кто наследует не имеющим ничего, кроме слов?
Железные стены контейнера, по-видимому, не пропускают сигнал, поэтому интернет практически не работает, так что я придумала себе новое развлечение: хожу по округе в поисках мест с бесплатным вай-фаем, где можно было бы поработать. В лагере вай-фай есть только в одном месте, и к нему стекаются, как антилопы к водопою, все обитатели лагеря: от африканцев и арабов до случайных жителей, решивших сократить дорогу. В первый день я шла почти сорок минут до библиотеки, чтобы обнаружить, что она при местном колледже и просто так в нее не пускают. На второй день нашла торговый центр и решила, что там-то точно смогу немного поработать. Собрав рюкзак и вооружившись картой, пошла. Вначале переходишь дорогу (все машины почему-то тебя пропускают и долго ждут, когда ты пройдешь), потом обходишь ремонт по специально выделенной пешеходной зоне, потом поворачиваешь к опрятным, красивым домам с садиками и медленно-медленно идешь вдоль кажущихся нежилыми пространств. Такие дома я видела только в кино и на картинках: около каждого небольшой сад с цветами: пионами, гортензиями и розами, садовыми гномиками и скульптурами, аккуратная черепица, ухоженные фасады, приятные занавески пастельных тонов. Я останавливалась практически у каждого такого дома и размышляла: неужели в нем не найдется маленькой квартиры для нас? Спустя десять таких остановок я наконец зашла в торговый центр; вход в него оказался совсем не очевидным: вначале нужно было пройти сквозь огромную парковку, чтобы в глубине увидеть вывеску и зайти в раздвигающиеся стеклянные двери. Внутри было шумно, повсюду расслабленные, как и подобает, местные жители с небольшими пакетами и в некоторых случаях с детьми. По левую руку цветы: ромашки, подсолнухи, хризантемы. Здесь вообще почти в любом большом продуктовом магазине можно было увидеть цветы. Я подумала о том, как много это говорит о местной культуре и об отношениях человека с эстетикой, мир вокруг обязан был не просто существовать, а быть приятным. Приносящим удовольствие. Видимо, в этот день проходила какая-то акция, и поэтому буквально каждый лизал мороженое или нес в руках маленький красный стаканчик.
Вай-фай постоянно отпадал, вместо работы мне невольно приходилось заниматься наблюдением за окружающими. В какой-то момент на лавочку рядом села семья: мама с двумя дочками, и я не сдержалась и расплакалась. Я вспомнила это теплое, растекающееся изнутри, как струя подтаявшего рожка, чувство: когда ты сидишь с мамой в торговом центре, вы купили очередную обновку для школы и тебе уже не терпится поскорее надеть на себя все новое на следующий школьный день. В качестве награды за долгое хождение по магазинам мама покупает тебе с сестрой по мороженому, одинаковому, чтобы никто не ссорился. И вы безмятежно поедаете ванильный шарик в вафельном рожке, сидя на скамейке. Мамино тело рядом расслабилось и стало большим и теплым, как бесформенный пуфик, скоро вы пойдете домой и будете хвастаться папе. Дефилировать с важным видом, пока он выносит окончательный вердикт купленному. Мир безопасный, нежный и мягкий: он сочится запахами домашних пирожков, гладит тебя своими длинными пальцами и каждый день приносит новое, будь это воробушек, друг или книга.
Ты еще ничего не знаешь о том, как добываются дома.
И о том, как их покидают.
Что означают строчки британской поэтессы Варсан Шаир: никто не покидает свой дом, пока тот не становится пастью акулы.
Почему Форуг Фаррохзад просит, чтобы ее приютили завораживающие аккорды швейной машинки, а Цветаева советует беречь Гнездо и Дом.
Ничего не знаешь о том, как дома из зданий становятся острыми концами меча, как тьма способна просочиться сквозь самые крепко закрытые двери и плотным газом осесть на купленную мебель, как много вещей образуется за жизнь и как тяжело продавать их вместе с разбитым сердцем, как непросто собрать все нажитое за месяц и оставить лежать в коробке у друзей.
Когда дом распахнет пасть, ты не успеешь даже выдавить помогите, ты упадешь в расщелину железнодорожных путей, прислонившись к тем самым дверям, к которым нельзя прислоняться. Он уже не будет им и станет оно: монстром из-под кровати, который пытается проглотить тебя не пережевывая. Тщетно ты стараешься уклониться от острых зубов и длинного шершавого языка. Эти зубы будут удлиняться по мере твоего отдаления, из абсолютно белых сначала становясь молочными, а затем золотыми. Тяжелыми, не подвластными ни одному живому существу. Аммиачный запах потянется из пасти, сигнализируя то ли о больной печени, то ли об отказывающихся работать почках. Вязкий тягучий аромат опасности, кажущийся острым на ощупь и горьким на вкус. Ты станешь этим запахом ужаса, и всякий прохожий будет чувствовать этот странный аромат от твоего тела. Удивляясь, незнакомцы вопрошающе посмотрят тебе в глаза в надежде, что это им показалось. Но ты знаешь правду: ты впитал этот ужас, на тебе остались крохотные частицы золотых зубов, след дома тянется следом, как грязь с кладбища. Ты свидетель, а значит, тебе никогда не отмыть густую бордовую кровь всех убиенных пастью до тебя. Дом ест не как дети. Он ест много, ест жадно, делает большие куски, вгрызается в самую мясистую часть и сразу глотает. Глотка, как пещера, поглощает всех убитых и полуубитых в себя, как гроб, безразличный к телу, что украсит его в царстве Аида. Но знаешь, что самое странное во всем этом?
Ничто так не болит, как утраченный дом. Он болит, как если бы все конечности разом оказались отрезаны, как вырванные зубы, как спазмы гортани. Стоит тебе немного отвлечься, как эта тоска накатывает словно паническая атака, часто она выжидает ночи, чтобы показывать тебе утраченное как арт-объект. Ты смотришь одно и то же кино, в котором тебе показывают все, что больше никогда не вернется. Детскую комнату, любимую игрушку, сбежавшую кошку, умершего попугая, погибшего брата, собственный дом.
Латиноамериканский художник Кен Гонсалес-Дэй уже создал единственную в мире работу, похожую на такое кино, серию открыток Erased Lynching. В качестве основы он взял исторические изображения со сценами публичных расправ над афроамериканцами и этническими меньшинствами, а затем последовательно стер из них жертв. Так он защитил их субъектность и навечно запечатлел отсутствие как часть эстетического. Их убитые тела наконец оказались скрыты, накрыты пустотой, спасены от чужих глаз, жаждущих глотнуть расплаву. Брешь побуждала посмотреть на тех, кто долгие годы оставался безнаказанным, дать зрителю глотнуть вину. Теперь земля уже не была пейзажем, а стала алтарем жертв, обильно смазанным человеческой кровью. Уничтожение всех их стало саднящей раной каждого американского дуба, исторического здания и мирного пейзажа. Все они: деревья, дома и жители – оказались свидетелями преступления.
Я смотрю на фотографии из прошлой жизни, и там больше нет меня: я отсутствую, как жертва линчевания, как сорванный не созревший до конца плод, вырванный с ветки руками злых мальчиков, ненавидящих красоту. Меня стерли, и остался только пейзаж – свидетель человеческих преступлений. Сколько пройдет лет или столетий, чтобы они, улицы, березы и детские площадки, начали давать показания? Расскажут ли они обо всех жертвах? Не забудут ли ни одну из них? Запомнят ли их имена?
Почти каждую ночь мне снится один и тот же сон: я брожу по старой квартире, я помню каждую деталь и даже запахи. Я захожу в спальню и ложусь на кровать. Я жду, когда кошка запрыгнет на меня и ляжет своим пушистым теплым телом сверху. Она долго мнет меня лапками, пытаясь понять, где самая мягкая часть, и наконец укладывается.
Помнишь, как появилась Кара? В самые страшные, как нам тогда казалось, годы, в пандемию. Я почти перестала выходить из дома и преподавала из домашнего кабинета. В какой-то момент я стала тосковать по живым существам рядом, и тогда появилась Кара. Уличная кошка, спасенная подругой. Помню, как она прислала мне видеоролик запуганной кошачьей мордашки с огромными зелеными глазами и трехцветной шерстью. И я, никогда не любившая кошек, поняла, что мы должны ее забрать. В тот же вечер мы несли ее домой на руках, она с любопытством осматривала наши лица и окружающих. И даже соблазнительный запах шавермы не побудил ее сбежать, она прижалась к рукам и ждала, пока мы принесем ее в дом. Первые два года она никого не подпускала, часто кусалась, не давала себя погладить, а потом что-то изменилось. Может, она впитала нашу любовь? Стала подходить и тереться о ноги мягкой шерсткой, ложиться и подставлять ту часть, которую разрешает гладить, слизывать духи с шеи: она стала нежнее к нам, начала привыкать, что мы те, кто ее любит. Стала спать только с нами и почему-то только на мне: может, мое увеличившееся с годами тело напоминало ей большую мягкую подушку? Она научила меня любить кошек и сама преобразовалась в нежность дома и его обитателей. Кара итог нашей преданности друг другу, лежит свернувшись в клубок и доверительно сопит на кошачьем языке, где-то в другом доме. Пока мы не найдем новый дом. Знает ли она, что мы ее не бросили? Что мы любим ее все так же, как и раньше? Узнает ли она нас, когда мы наконец придем забирать ее?
Когда я родилась, Марал, как и подобает приличной семье, начала ткать ковер. В нем она желала внучке главного, поместив в центр гялин джехизи1, обрамленный гялин дувахы2. Ее крепкие руки, приученные к труду, уверенно переплетали грубые нити между собой. Узор традиционно начинался с тяги3, состоящей преимущественно из разных типов буты. Длинные вытянутые капли, хоть и похожи на слезы, призваны были сделать жизнь красивой. Каждую деталь Марал выводила, как первоклашка выводит буквы алфавита в прописи, с искренним усилием. Это не было единственным наследием, к ковру прилагались ажурные салфетки, постельное белье и даже одежда. Марал знала, что только сделанное своими руками способно говорить. Любимым предметом в доме была швейная машинка «Зингер» с ножным приводом: она была достаточно шумной, поэтому все домочадцы знали, что Марал нельзя тревожить, если за белой дверью слышен гул, похожий на звук производственного станка или звук бьющихся друг от друга металлических карточек в библиотеке, где картографию ведут на тонких железных пластинках. Что-то похожее Фарман слышал на вокзале, впервые увидев автоматическую справочную установку. Мое рождение позволило ей простить никудышную дочь, сбежавшую со странным лысеющим парнем, который ей не нравился. Я стала прощением для матери и отца, родившись раньше положенного срока в уральском роддоме.
Первые годы своей жизни я прожила в медицинском общежитии, где нам полагалось две небольших комнаты. Конечно, нам сказочно повезло: большинству приходилось делить секцию с пятью-шестью людьми или многодетными семьями. Мы делили пространство с длинным, похожим на железнодорожную шпалу соседом, он часто что-то готовил у себя в комнате, брезгуя общей кухней. Маму это устраивало: она хозяйничала там часами, готовила еду, убирала, не нужно было терпеть чужую нечистоплотность или грязную посуду в раковине. Единственное, что безумно ее раздражало, – необходимость мыться в общей ванной, где сосед беззаботно оставлял грязные носки или трусы, из-за чего мать начинала ворчать, она специально говорила нарочито громко, когда проходила мимо его комнаты, чтобы он наверняка услышал, как она недовольна. Периодически сосед выходил в общую зону и очень удивлялся, обнаружив двух маленьких девочек в коридоре, словно он забывал, закрывая дверь своей небольшой обители, что это общее место. Ничейная земля, в которой у всех прав с корочку хлеба.
Земля, которую никто по-настоящему не любит, не чистит, не заботится о ней в надежде, что это сделает кто-то другой. Необходимость жить с чужими, с одной стороны, напоминала сцену. Нельзя, к примеру, выйти в трусах или голым, потому что чужие глаза навсегда украдут вместе с фрагментом тела право на него. С другой – гасила чувствительность к миру и его убранству, понемногу толерантность к грязи повышалась, окружающее больше не должно было быть красивым, скорее функциональным. Это случилось и со мной, когда я оказалась в контейнерном доме. Дом ощущался как спальный мешок, нужный лишь для того, чтобы пережить холодную ночевку в лесу, выжить. Больше всего мне хотелось наконец отбросить эти две буквы «вы» и просто начать жить. Как только мы появились здесь, у нас началась холодная война с соседями. Наши представления о чистоте сильно отличались: для них было нормой оставить кучу грязной посуды в раковине или не почистить после себя плиту, на которую было страшно просто посмотреть. Тогда я вооружилась своим любимым средством – словом – и стала оставлять небольшие записки с напоминаниями. И очень удивилась, когда обнаружила, что они на них отвечают. Обмен сообщений, как правило, был коротким и пассивно-агрессивным. Каждой стороне казалось, что виноват другой. Никто не хотел отмывать ванную со следами ржавчины или волос, чистить раковину, блестящую от жирного налета, мыть плиту, похожую на кусок полиэтилена после покраски стен, только вместо краски на ней виднелись пятна от соуса или капли масла после жарки. Мы не могли договориться, и поэтому дом напоминал игровое поле для твистера: наши зоны, как правило, всегда были прибраны и очищены, их – напротив. Общий полигон сражений – кухонная плита периодически все-таки чистилась мной в минуты отчаяния, когда я уже не могла иначе. На фоне происходящей в мире катастрофы это, конечно, казалось глупым, но мне хотелось хоть ненадолго вернуть нормальность в свое существование, даже если она выражалась в чистой плите или пустой раковине.
Когда сосед по медицинскому общежитию съехал – это было счастье. Однажды он случайно забыл на включенной плите кастрюлю, в тот день только мы с сестрой были дома. Нам повезло, что мать рано вернулась с работы и увидела дым из-под его двери. После этого инцидента ей удалось добиться выселения соседа, а спустя пару месяцев стала возможной приватизация. Так у нас появился настоящий дом, который не нужно было делить с чужими. Место, которое можно наполнить собой: любимыми предметами, книгами и мебелью. Место, о котором ты заботишься, как о близком друге. Место, которое ты любишь. Особенно любишь в минуты снегопада или проливного дождя. Спустя пару лет наш дом купила местная сеть аптек: я приходила туда проверить, не видно ли ростков бывшего дома или его следов между стеллажами и полками. С тех пор у меня только единожды было подобие настоящего дома: наша бывшая квартира. Хотя нельзя назвать ее нашей: она была съемной, но в ней имелось все, что подобало дому. Я не успела с ним попрощаться, наверное, поэтому он постоянно мне снится. Снится, как стояли предметы в последний раз, когда я его видела. Во сне я хожу по пустому дому, вначале по прихожей, потом по маленькой кухне, наконец захожу в свой кабинет, где всегда пахнет сыростью. Контейнерный дом такой маленький, что по нему ходить не получается, – комната-спальник, комната-точка в повествовательном предложении.
Глава 3. Как Фарман начинал свое дело
Соседские парни, поначалу наблюдавшие за Фарманом как осторожные антилопы, начали забрасывать его вопросами о поступлении. Пока самый предприимчивый из них в конце разговора не всучил ему конверт и не убежал. В конверте лежала немаленькая сумма денег и записка. Фарману впервые предложили деловую сделку: он любой ценой пристраивает незнакомца (назовем его так) в университет и получает процент за работу. Поначалу Фарман опешил, ему казалось, что самым правильным будет вернуть чужие деньги, правда, на десятой минуте своей прогулки он вдруг осознал, что сумма эта равняется нескольким походам в ресторан, новой одежде и даже аудиокассете любимой группы. И тут с Фарманом произошло то, что и происходит с героями авантюр, – он понял, что сможет разбогатеть. Осталась сущая мелочь: придумать схему.
Отъезд Фармана был стремительным: под предлогом скорого начала семестра он собрал сумку и уехал. Дорога, которая в первый раз показалась ему долгим витиеватым лабиринтом, теперь распрямилась в пущенную стрелу. Доехав до общежития, он встретил соседей и осторожно поделился новостями. В ограниченном круге света от небольшой лампочки, вкрученной в общежитии, их лица, казалось, светились, как лики святых. Поочередно каждый перебирал языком, как змеиным хвостом: а что, если; а ты знаешь Катю, которая работает в приемной комиссии; у кого содержатся бланки итоговых экзаменов? Мелкие крапинки пота стекали по их нахмуренным лбам: спустя несколько часов интенсивного обсуждения с перерывами на перекуры они придумали ПЛАН. Правда, он подразумевал, что сумма, уплаченная Фарману, будет дробиться на нескольких человек: проблему эту легко можно было решить установлением единой таксы. Главное: обкатать план и проверить, что все механизмы работают. Вначале Фарману предстоял первый шаг – познакомиться, а может, и соблазнить Катю. Конечно, ему было неловко за будущую подлость, но, с другой стороны, эта была реальная возможность помочь таким же, как он, оказаться в мире, где есть не только конский навоз. В тот вечер нашему герою не спалось: он лежал, положив руки под голову, и представлял, как его будет встречать родная деревня в следующий приезд, скольким он поможет и навсегда станет героем, авантюристом, способным не только вырваться из зыбучего песка необратимой судьбы, но и вырвать из него других. Про финансы Фарман тоже думал: ему так нравился запах денежных купюр, что, если бы существовал парфюм с таким ароматом, он бы без промедлений обрызгал бы всего себя. Ему нравилось, когда Ахмед давал ему денег, чтобы тот сходил в местный магазин. В такие минуты Фарман чувствовал силу этих гладких купюр не только на кончиках пальцев, но и всем телом. Их можно было обменять на все что угодно, на все, что он хочет, на все, что может себе представить. Купить всю любимую еду и есть ее одному, ни с кем не делясь. Единственное, что омрачало, – необходимость искать и зарабатывать эти странные бумажки: в деревне обмен не казался справедливым: три-четыре купюры зарабатывались тяжело. Вначале посадить, потом прополоть, потом вырастить, потом собрать, потом закинуть огромный холщовый мешок на плечи и нести до соседской машины, вытащить и стоять под палящим солнцем по несколько часов в ожидании, когда кто-то наконец захочет купить фасоль. Наконец, после удачной продажи тащить уже свое тело, похожее на пустой мешок, домой. Плечи продолжали нести в себе тяжесть груза, как матка – плаценту после рожденного ребенка. Мать всегда говорила Фарману, что деньги зарабатываются по́том, что они не растут на деревьях. Будучи маленьким, он даже мечтал однажды найти такое место, где вместо листвы будут купюры с разной валютой, о, эти мешки Фарман собирал бы значительно быстрее. Сможет ли он заработать деньги языком и хитростью? Не будет ли от этого навсегда проклят Аллахом?
Наутро он протер глаза, а затем провел ревизию внутренних размышлений: готов ли он начать эту авантюру? Фарману казалось, что он стоит на краю пропасти, мелкие камушки уже проваливались туда, в темноту задуманного. Фарман попросил у соседа пиджак, надушился, посмотрел на себя в маленькое зеркало общажного туалета и пошел искать Катю. Девочки жили в другом здании, поэтому он вышел из общежития, прошел мимо вахтерши, ищущей к чему бы прицепиться. Обычно она всегда сопровождала каждое его появление колким замечанием: то рубашка мятая, то пришел поздно, то на учебу опаздывает. В этот раз она не нашла что сказать, только удивилась его вежливости и опрятному виду.
Фарман спустился вниз и двинулся по улице, попутно думая, правильно ли он поступает. Катя вряд ли согласится помогать ему за процент, Фарман уже разузнал о ней все, что мог. Она была слишком идейной, хранила экзаменационные бланки, как некоторые хранят первые волосы ребенка. Верила, что причастна к большому делу – взращиванию будущих интеллектуалов, и точно не стала бы участвовать в подделке документов. А еще – она была одинока и жаждала любви, как прохлады в жаркий день. Выход был один – получить доступ к бланкам и подделать их так, чтобы нужные абитуриенты стали студентами почетного университета. А что, если Катя заметит его интерес к бланкам, расскажет руководству и его отчислят? Конечно, в таком случае он будет все отрицать, скажет, что заболел или много выпил.
Недавно прошел дождь, и влажный асфальт блестел под его ногами. А что, если все получится? Он представил, как толпа его односельчан вместе с ним щеголяет по проспекту, как громко они смеются, как весело проводят время, как он становится местной легендой и примером для подражания. Вынырнув из сада размышлений, он понимает, что столкнулся с кем-то. С Катей. Это судьба, решил Фарман, как говорит его мать, kismet4. Сам Аллах столкнул его с ней, значит, все верно. Привет – выдавил он из себя, сглотнув от волнения. Столкновение было как никогда кстати, теперь это был повод извиниться и пригласить ее в кафе неподалеку. Фарман решил, что вначале они должны сблизиться, прежде чем он приступит к самой ответственной фазе. Катя не была красавицей в его понимании: тонкие и редкие волосы странного цвета, что-то между серым и русым, голубые глаза. Но не такие, о каких пишут в романах, не глаза-океаны, не глаза-озера, глаза – застоявшаяся вода в кувшине для полива домашних растений. Покрытые дымкой, как молочной пленкой. Ей было приятно его внимание: он, конечно, славился любовью к веселью и водке, но был молодым и интересным. Он рассказывал ей, как красиво блестит кожа местных скакунов в лучах закатного солнца, как приятно скользит рука по шерсти гордых грузинских коней. Они стали часто проводить время вместе: ходили на премьеры, гуляли по набережной, наконец Фарман стал помогать ей с бюллетенями будущих студентов. Рук не хватало, заявок было слишком много: заполнить все данные, вписать итоговые баллы за экзамен, рассортировать, подготовить таблицы для жаждущих абитуриентов, подходящих к дверям университета с опаской. Катя впервые в жизни ощущала рядом мужчину, вовлеченного в то, что она делает. Он всегда был готов помочь, брал на себя излишки работы, приносил еду, чтобы она поужинала, расспрашивал о том, как прошел ее день, и всегда смотрел в глаза.
Все удалось: Фарман быстро наловчился подделывать результаты, он вписывал в пустое тело бланка имя клиента, и тот магическим образом попадал в таблицу с поступившими, в некоторых случаях он искал вариант отличника и переделывал тест провалившегося односельчанина. План работал, а вместе с ним пришли первые шальные деньги. Они были легкими, от них не ныли плечи и спина, Фарман чувствовал себя счастливым, молва по селу разнеслась быстро, и желающих с каждым днем становилось все больше. Единственная проблема – сессия, нужно было сделать так, чтобы новоприбывшие не вылетали из университета тут же, но, к счастью, и тут нашлось решение. Васильков был профессором факультета, хорошо известный своей любовью к деньгам и нелюбовью к студентам: пять стопок не самого дорогого коньяка, и они ударили по рукам. Процент в обмен на гарантию. Фарман чувствовал в себе силу, до этого ему неизвестную. Он не просто наладил собственную жизнь: наконец купил приличной одежды, обустроил комнату, регулярно высылал матери деньги, объясняя их подработкой, но и влиял на жизни других. Он шел по коридору уверенно, как насытившийся добычей лев. Как это обычно и бывает, наш герой еще не представляет, что вся эта жизнь совсем скоро окажется смыта голубизной Катиных глаз.
Катя терпеливо ждала, когда же их отношения получат развитие, она стала покупать себе яркие платья, подкрашивать губы помадой цвета «алая роза», зачесывала волосы назад, как в модных журналах, но все равно оставалась для него только подругой. Периодически казалось, что Фарман заигрывает, иногда он звонил, чтобы попросить о помощи, и тогда она летела через полгорода, чтобы встретиться. Больше всего ей нравились приветствия, так она могла незаметно прижаться к его телу, пахнущему вареной кукурузой и ирисками. Ей казалось, что рука юноши намеренно задерживается на талии, а внутри его смуглого тела бурлит то же еле скрываемое желание, что и в ее фарфоровой груди. В каждом слове Кате чудился подтекст, всякий раз, когда он предлагал помочь ей с работой, она надеялась, что Фарман останется на ночь. И она увидит, как родинки на его груди подсвечиваются лунным светом. Всякий раз, когда его взгляд падал на нее, она ощущала, как дрожат коленки, как меняется голос, ей хотелось красиво встать или повернуться лучшей своей стороной. Она стала как бы невзначай приходить к мужскому общежитию, прогуливаться там часами в ожидании, когда покажется его силуэт. Постоянно ходила по факультету, где учился Фарман, чтобы случайно встретить его и обнять. Вдохнуть запах его тела и носить с собой по несколько дней. Однажды она даже украла его шарф, чтобы периодически подносить ткань к носу по вечерам, представляя, как его длинные руки обнимают ее со спины. Это было похоже на безумие, все ее мысли были заняты Фарманом, она была готова исполнить любое его желание в обмен на теплые карие глаза, в которые ей хотелось смотреть, как смотрят в пламя. Фарман часто подмигивал ей или улыбался при встрече, и она хранила каждую его улыбку, как сокровенное, как хранят первые волосы детей или их молочные зубы. Она была очень внимательной, всегда обращала внимание на то, что ему нравится, чтобы затем купить такую же книгу или точно такую же аудиокассету. Ей казалось, что, только вобрав в себя все, что любит Фарман, она сама станет тем, кого он любит. Но однажды все изменилось.
Это был важный день, может, самый важный, которого она ждала. Университетская вечеринка в честь новогодних праздников и окончания первого семестра, на которой все соберутся. И Фарман тоже. Катя купила дорогое платье, сделала прическу у подружки-парикмахерши, накрасилась: она готовилась к этому дню. Если что-то и случится, то сегодня. Он увидит, как она заходит в зал для торжеств, как ее тонкие запястья, украшенные браслетами, тянутся к лицу, чтобы поправить прядку выбившихся от волнения волос, заметит ее оголенную длинную шею, почувствует запах парфюма (мамины духи). Она зашла туда, оглушенная странной танцевальной музыкой и лучами диско-шара, и увидела его. Его с другой женщиной. С другой красивой женщиной, что еще хуже. Она увидела, как он смотрит на эту женщину. Он смотрел на нее так, как она смотрела на него, – с жаждой, обожанием и интересом. Всем телом он тянулся к ней, пытаясь быть ближе. Незнакомка совсем не была похожа на Катю: тугой пучок черных волос, длинные черные ресницы, черные аккуратные полумесяцы бровей, пухлые губы. Четкие скулы придавали ее лицу строгость и благородство, она держалась отстраненно, пока Фарман что-то говорил ей на ухо. В какой-то момент он повернулся и, увидев Катю, дежурно кивнул. Теперь она ясно видела: он никогда не любил ее, она была просто другом, а может быть, и не другом, а знакомой. Он смотрел на нее, как смотрел на местную библиотекаршу, продавщицу и преподавательницу. Как смотрят на всякую женщину.
Глава 4. Сказание о потерянном доме
Мы нашли квартиру совершенно случайно. И как никогда вовремя: нам повысили арендную плату в канун Нового года. Двадцать шестое декабря, мы несем в маленькую старую машину коробки с вещами и посудой. С трудом запихиваем белый книжный шкаф в полуоткрытый багажник. Снег метит каждую коробку стремительно, не успеваю я открыть железную входную дверь, как обнаруживаю, что практически все предметы уже покрылись зимней пудрой. В детстве меня поражало, что дом нужно искать, что он может быть общим, не целиком твоим, а частично. Кусочек, который всегда кажется слишком маленьким, особенно отрезанный на чужом торжестве. Когда мы с сестрой впервые увидели фильм «Один дома», больше всего нас поразил не Кевин и не грабители, и даже не ловушки, а дом. Большой, сверкающий гирляндами дом. Он был таким чистым, стерильным, аккуратным, нарядным, в отличие от нашего (комнаты, двух, впоследствии трех комнат), он был цельным. Манил, как чизкейк «Нью-Йорк» в кулинарии, который очень хочешь купить, но жалеешь денег. Дом моего детства не был таким: он не был домом, он был общежитием, общее житие, жить в обществе, и далеко не самом приятном. Когда мы оказались на улице в канун новогодней ночи, я весь день вспоминала, как впервые с сестрой увидела «Один дома», как мы завидовали мальчику с голубыми глазами и его дому.
Вариантов было немного, и мы почти отчаялись, как вдруг нам написал знакомый. Его бабушка недавно умерла, и он решил сдать квартиру. Нас сразу предупредили, что из квартиры еще не вывезли вещи: мягкие игрушки, странная и сумбурная библиотека, большие персиковые диван и кресло, которые занимали все место. Мебель была прямиком из девяностых: весь комплект, огромный диван и два пухлых кресла, не только откусывали от комнаты большой кусок, но и странно пахли. Оказалось, что диван пропитался кошачьей мочой, его мы выбросили сразу. Первая ночь в доме была ужасной: все в пыли, захламленный балкон, грязные шкафы. К счастью, хозяин квартиры, а по совместительству наш друг, пошел навстречу и активно помогал вывезти старые вещи. Мы вместе разбирали залежи чужой и, по-видимому, среднестатистической жизни: выбрасывали пустые стеклянные банки, разбирали мешки с землей и старой одеждой, красили комнату в бежевый и бордовый. Одну стену мы сделали моего любимого цвета – бордо, остальные три – белыми. Выбросили все ненужное, вывезли ценное и поехали в «Икею».
Первым, что я взяла, были свечи. Мне чудился запах чужой хозяйки, а может быть, и ее смерти, его хотелось накрыть, как накрывают телевизор от пыли. Чем-то тонким и кружевным. Запах хвои скандинавского леса. Запах черничного пирога. Из всех бытовых предметов я всегда предпочитала красивые или приятно пахнущие, нефункциональные. Ни для чего не нужные. Моя мама, передавшая мне по наследству любовь к «Икее», напротив, любила мелкие и функциональные вещи. Например, крючки. Она могла часами перебирать их в руках и разглядывать, один крючок она выбирала после тщательного отбора.
В маленькой комнате контейнерного дома очень не хватает крючков: большую часть комнаты заняли наши нераспакованные чемоданы. Распаковывать их не было смысла, все равно не хватало места в шкафу. Кроме того, мы еще тешили себя надеждой, что мы здесь ненадолго и совсем скоро найдем настоящий дом. Правда, с каждым днем эта надежда истончалась, как много раз окрашенный волос.
«Икея» напоминала симулятор идеальной жизни, каждый желающий мог пожить в скандинавских интерьерах, где вещи не только практичны, но красивы. Полежать в большой кровати, представить себя готовящим еду на новой кухне или принимающим ванную с видом на абстрактную картину. Обособленные комнаты создавали иллюзию принадлежности только тебе; украшенные картинами и фотографиями, они притворялись живыми и застигнутыми врасплох. Я стояла напротив большого синего кресла для чтения книг и не могла оторвать от него взгляд, мне нужно было это кресло прямо сегодня и сейчас. Мне хотелось читать в нем по вечерам, поставить рядом с книжным шкафом и знать, что теперь у меня, как в настоящих домах, есть место для чтения книг. Мы купили его и в придачу самую простую деревянную кровать, дешевый матрас, книжный шкаф и всякие мелочи, из которых на самом деле и состоит дом: плотные шторы, свечи, бокалы, ковры разной формы и фактуры. Сколько дней мы красили комнату? Наверное, достаточно, чтобы запомнить, какая на ощупь стена, породниться с запахом краски и нарастить пуповину с этим местом. В отличие от пуповины при рождении связь с пространством появлялась только как следствие усталости и пота. Когда мы закончили ремонт, мне почти не хотелось выходить из дома, мне нравилось находиться в нем. Вытянутое тело лоджии, напоминающее по форме выброшенного на берег кита, существенно преобразовалось: вместо бесконечной череды разных предметов там теперь стоял старый диван, на котором можно было лежать и читать летом. Чемоданы прижимались друг к другу в белом самодельном шкафу. На стену мы повесили часы с маятником и чеканную картину. В окна стучались тяжелые ветви яблони, от них приятно пахло летом и становилось тревожно осенью, когда длинные пальцы деревьев пустели и покрывались инеем. Голуби и воробьи тщетно пытались раскусить деревянное нутро, их клювы застревали в льду и примерзали к ним на долю секунды. Когда приходили гости, мы часто сидели на этом балконе, сжимаясь от холода или спасаясь от жары. Лоджия была соединена со спальней – моей любимой комнатой. Большая двуспальная кровать с тумбочками вместо прикроватных комодов, в углу справа я поставила любимое синее кресло, рядом с ним стоял белый книжный стеллаж и серая напольная лампа с длинной пружинистой шеей. Я любила читать там книги, периодически на меня усаживалась Кара, и мы читали вместе. Над кроватью я повесила две вещи: картину и четки.
Картину я нарисовала во время депрессивного эпизода: периодически куда-то пропадало желание жить, словно его высасывало пылесосом, становилось трудно перемещаться и делать что-либо, хотелось только лежать отвернувшись к стене. Например, сейчас, в железном брюхе оранжевого контейнера, мне хочется отвернуться к стене и лежать, пока сон не вытеснит пустоту внутри. Всякий раз засыпая, я надеюсь, что, когда открою глаза, окажусь в другом месте, но этого, конечно, не происходит. Я просыпаюсь и вижу все те же белые стены с холодным отливом голубого. Но не голубого освежающего, чистого, глубокого, а голубого – остаточного, размытого, грязноватого, холодного, напоминающего больничные пространства. И мне хочется плакать, но я не плачу. Я просто беззвучно кричу у себя внутри; внутри моего тела, как в старинной пещере, обрушиваются горные породы, падают камни, исчезают проходы. Я понимаю, что, если не встану, останусь здесь насовсем, и наконец опускаю ногу вниз на ковер цвета безоблачного неба, купленный в райский период жизни.
Там же, над кроватью, висят четки из необработанного янтаря. Их я купила, когда мы были в Калининграде. Я собирала коллекцию из разных мусульманских четок: куда бы ни ездила, я искала их. Они завораживали меня, мне нравилось перебирать четки в тревожные минуты, сравнивать, как по-разному они стучат, как лежат в руке или висят на шее. Периодически я любила повесить четки на шею и носить так. Эти были особенные – грубые бусины, где каждая разной формы, совсем не блестели на солнце, занимали своим плотным телом ладонь и оставляли на ней следы от острых углов. Раз в неделю я доставала все книги и украшения из белого икеевского шкафа справа от кресла и протирала пыль: мне нравилось начинять шкаф заново, аккуратно раскладывая книгу к книге, располагая все по своим местам. На шкаф я постелила длинную синюю салфетку, такие обычно покупали для больших дубовых столов или важных приемов, чтобы постелить вдоль стола и поставить сверху вазу с цветами. У нас не было ни стола, ни приемов, поэтому я расположила ее на белом книжном шкафу и поставила сверху свечи, рамки с фотографиями семьи и значимых событий. Мне никогда не нравились цифровые фотографии: только распечатанные. Их можно было держать в руках, вклеивать в альбом, дарить. У мамы было много старых фотоальбомов, и я любила пересматривать их время от времени, особенно долго разглядывая молодых родителей.
Рядом с книжным шкафом располагался старый виниловый проигрыватель «Мелодия» 103В-стерео, который мне отдала подруга. Он стоял слева от двери, на большом деревянном комоде прямо напротив кресла. Мне нравилось протирать влажной салфеткой пластмассу, притворяющуюся стеклом, представлять, чьи еще руки гладили крышку проигрывателя и по какому поводу его включали. У нас была большая коллекция пластинок: от концертов Аллы Пугачевой до Луи Армстронга. В дни уборки я вынимала случайную пластинку и нажимала пуск. Меня успокаивала уборка: чем-то она напоминала обход своей территории, я стала понимать, зачем люди покупают дачи и копаются в земле. Это очень ритуальное действие: перебирать предметы, растения, вещи, которые принадлежат тебе. В этом столько власти и колониальности: желать, чтобы все отныне несло твое имя, чтобы все отныне было только твоим и умерло сразу после твоей смерти. Наверное, я относилась к дому как к продолжению себя самой, своего тела, сна и письма. Из всех мест, где я бывала, я обязательно привозила что-то домой: ковры, магниты, плакаты. И тогда они получали клеймо моего имени, становились моим продолжением, несли мой опыт и частички моего тела на себе.
Сейчас мне ничто не принадлежит. С моим уходом мир не распался, вещи не растворились, они просто нашли новых хозяев. Но я расскажу об этом позже, не сейчас.
Мы выходим из спальни и сразу видим главного действующего героя этой квартиры – большой книжный шкаф прямо напротив входной двери. На нем помимо книг уживались японский веер, дизайнерская кружка с украшениями и светильник, купленный в тот год, когда мы неожиданно решили праздновать Хеллоуин, естественно в виде тыквы. Наша объединенная библиотека из твоих и моих книг, в которой уже невозможно разобрать, кому и какая книга принадлежит. Половину прихожей занимает массивный шкаф-купе, на открытых полках которого мирно лежит тайваньская шляпа, ключи и кошачий корм. Почему мы решили, что предметы должны лежать так, а не иначе? Почему расположили так и туда? Когда мы только переехали, я дольше всего отмывала этот шкаф-купе, он весь был в грязи и паутине: по-видимому, бабушке не хватало сил взбираться наверх и протирать там. Это делала я, два дня подряд, в растянутой футболке набирала воду и вставала на стул, чтобы добраться до самых скрытых углов. Поначалу мне казалось, что мы никогда не наполним этот шкаф содержимым, но очень скоро он весь, сверху донизу, оказался забит нашей жизнью.
Напротив шкафа-купе две маленькие комнаты: ванная и туалет. Ванная – мое второе любимое место после спальни, по выходным мне нравилось набрать горячей воды, бросить шарик и лечь в воду, наблюдая за тем, как на теле воды образуется цветастая пленка, которую, в отличие от молочной, совсем не хотелось убирать чайной ложечкой. Периодически я зажигала свечи и ставила их по краям, свечи я выбирала разные, чтобы запахи смешивались друг с другом, как в парфюмерном магазине. Первым делом, когда я вернулась из Тайваня, я сняла одежду и легла в ванную. В наследство от умершей здесь бабушки в ванной остался металлический поручень: это было очень удобно, частенько он помогал мне встать и напоминал об ограниченности тела. Нам предлагали убрать его, но я оставила. Дверь справа, прямо напротив шкафа купе, узкий туалет. Похожие на вздутые вены страшные трубы были ничем не прикрыты, и мы решили скрыть их старыми деревянными жалюзи, так туалет казался более опрятным.
Прямо по коридору располагалась кухня. Здесь мы часто принимали гостей: все плотно прижимались друг к другу, пытаясь уместиться на угловой скамейке, как слипшиеся от жары драже. В ней остались все наши вечера: от радостных и полных смеха до горьких и грустных, от празднеств и дружеских ужинов до тревожных и страшных встреч, когда никто не может есть от ужаса и только сглатывает слюну. На полу рядом со скамейкой стоял фонтан для кошки, часто гости пугались, услышав журчание воды, но со временем привыкали. Оно больше не отпугивало, скорее успокаивало, словно ты оказался в саду, в глубине которого прячется водопад. В зимнем холодильнике, маленьком белом шкафу под окном, на черный день хранились абсент, турецкая ракия и текила. Мы доставали их только в самые плохие дни, например когда праздновали мое увольнение. Как и полагалось азербайджанскому дому, в прихожей висел гёзмунджук: он оберегал нас от злых глаз и покрывал прихожую невидимой защитной сеткой, мелкие тканевые ячейки не пропускали дурные умыслы.
В доме был кабинет, в нем я проводила почти все время. Там мы поставили длинный старый стол, который разделили на две рабочие зоны: одну – мою, вторую – твою. По стенам висели французские плакаты, привезенные из Тайваня, первая обложка моей поэтической книжки. Книга вышла плохой, но обложку я очень полюбила. Разные сертификаты и дипломы об участии, фотографии, открытки. Мне нравилось, когда стены разговаривали, в любом доме я дольше всего разглядывала книжные шкафы и стены. Мы совсем недавно купили модный ортопедический коленный стул, и я только привыкала к нему. Пахнет сыростью. Нежно-голубые стены предчувствуют беду и сбрасывают краску. Твой подарок – деревянная подставка под ноутбук лежит на столе, она так и осталась лежать там в ту ночь, когда я в последний раз видела наш дом.
Каждую ночь мне снится этот момент: я оборачиваюсь – и передо мной книжный шкаф, рядом старинное трюмо с зеркалом, словно изнутри покрывшимся туманом, я не пытаюсь попрощаться с домом, потому что не понимаю, что ухожу навсегда. Наверное, так бывает, когда человек умирает, – он не знает, что нужно прощаться, лишь делает вдох перед предложением, обнаружив уже в мире ином, что рот его так и остался приоткрытым.
Глава 5. Как Фарман разбил чужое сердце
Катя не могла заснуть, все ее тело зудело от осколков разбитого сердца, она долго плакала, пытаясь убедить себя, что все это ей приснилось. Катя перебирала каждую секунду, проведенную с Фарманом, как одежду, пытаясь-таки отыскать его любовь. Правда, теперь она ясно видела, что все, что притворялось ею, было на деле густым дегтем притворства. Сурьмой ее ожиданий. Зачем он тогда постоянно ошивается рядом? Уже какой год подряд он кружил вокруг, как навязчивая муха, заходя в ее комнату без стука, как отец или муж.
Последние месяцы он стал захаживать реже: в город переехали Ситара и Фатима, периодически он навещал и контролировал сестер. Обе девочки поступали в медицинский университет, и, как старший сын, Фарман был обязан блюсти честь семьи. Правда, они не поступили, им пришлось довольствоваться медицинским колледжем. В тот же город должен был приехать и Абдулла. Он недавно женился и собирался поступать на врача-хирурга. Все село бурно отмечало его свадьбу: казалось, что даже домашние курицы пляшут под свадебную зурну. Дом не только пропах ашом5, но и уподобился ему: белый, нарядный, украшенный изюмом – семейными фотографиями созревших плодов. Марал по случаю свадьбы надела платье для торжеств и сняла с головы белый платок для работы в саду. На шею она повесила неровные жемчужные зубы. В этот день ее руки, как и всегда, не знали покоя: раскладывали шах-плов, доставали соленья, раскладывали в хрустальные розетки варенье из белой черешни, начиненной молодыми грецкими орехами, разливали в кувшины компот из фейхоа. Ахмед тщательно отмыл черную пудру угля из-под ногтей, надел единственный свой костюм для торжеств с выразительными подплечниками, из-за чего он казался мальчиком в отцовском костюме, а не главой семьи. Ахмед плыл по двору их дома, вскинув руки, как крылья, пыль из-под его ботинок не успевала осесть, так быстро он двигал ногами. Ворота были открыты, через металлическую щель уже протиснулась гялин6 с фатой на голове, она растерянно озиралась из стороны в сторону, пытаясь найти жениха. Абдулла, высокий, крепко сложенный как гора, плотный, уже выходил из дверей родительского дома. Невесте казалось, что он больше дома и больше местной горы, его тело было красивым и могучим, как известняк. Ей нравилось его суровое, серьезное лицо, редко озаряемое улыбкой, его брови, похожие на сражающиеся войска. Она не волновалась: готовая отдать ему свое тело и свою судьбу, как дают садаку7 нуждающимся во время Рамадана. Марал, его мать, молча оглядывала новоприбывшую невесту тяжелым, как засов на воротах, взглядом.
Абдулла подошел к матери и повел танцевать: Марал, похожая на горного оленя, еле заметно раскачивалась из стороны в сторону, вскинув по сторонам длинные руки, покрытые шрамами от иголок. Вот она и дождалась свадьбы сына, невеста ей не очень нравилась: во-первых, не то чтобы она была красавицей, во-вторых, в ней чувствовалась настораживающая Марал дерзость. Но быть может, именно она и не даст слабину мужу. Абдулла всегда был слишком мягким, только сильная женщина, подобная Марал, смогла бы руководить его жизнью. К тому же совсем скоро и этот сын отправится в чужую землю: в Уральские горы, не знающие тандырного дыма и жаркого солнца. Единственное, что успокаивало Марал, – теперь все ее дети были в одном городе. Абдулле и Фарману было велено присматривать за Ситарой и Фатимой, им было велено не доверять свое тело мужчинам и получить образование. В конце концов, дети должны были получить образование. Абдулла должен был забрать вещи, новообретенную жену и домашнюю выпечку в жаркое тело тяжело вздыхающего поезда. Они едут в настоящий город, в котором, по словам Фармана, есть снег.
