Все хорошие люди, или Рыльце в пушку
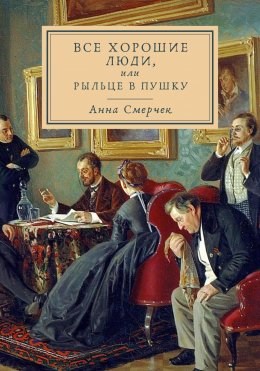
Глава 1,
в которой совершается преступление
29 мая 1907 года Иван Никитич Купря – полноватый, среднего роста господин сорока трех лет от роду – крался вдоль забора дома отставного полковника Вайскопфа и чувствовал, как волнение, точно пузырьки шампанского, поднимается от желудка вверх, к самой голове. Этот дом Купря выбрал еще два месяца назад, но обстоятельства сложились удачно только сегодня. На взгляд человека, недостаточно знакомого с географией города Золотоболотинска, двухэтажный каменный дом полковника Вайскопфа для затеи Ивана Купри подходил наименьшим образом: своим фасадом он смотрел на широкую, проезжую Александровскую улицу. Тут же сидел у хозяев на цепи их большой черный лохматый пес. Пес был злой и бестолковый, и всем было известно, что с цепи его никогда не спускают. Но Иван Никитич, проживший в городишке уже без малого семь лет, любивший пешие прогулки и изучивший все местные закоулки, знал, что непарадной своей частью полковничий дом повернут к безлюдной живописной местности, которая раскинулась позади него. После зеленеющего майской свежестью луга там вставал негустой лесок, который скрывал от глаз обитателей дома те самые болота, что дали название городу. Ожидать тут встречи с кем-либо из жителей Золотоболотинска не приходилось. Сейчас, вечером, даже мальчишки не стали бы здесь играть, опасаясь встречи с болотной нечистью, рассказы о которой так любили обыватели. Сам же полковник Вайскопф вместе со своим слугой – это было достоверно известно Купре – отбыл накануне по делам в Санкт-Петербург. Его жена Амалия Витальевна должна была этим вечером непременно быть в Общественном собрании по случаю приезда итальянского тенора. Мужик, работавший у Вайскопфов по хозяйству, бывший одновременно конюхом и извозчиком, ясное дело, отбыл вместе с хозяйкой и оставался при экипаже, чтобы после концерта отвезти ее домой. Горничная была отпущена до утра в дом своей дальней родственницы, где отмечались именины, и куда девушку пригласили не столько гостьей, сколько помощницей на праздник. Эти на первый взгляд совершенно излишние сведения, были господину Купре сегодня необходимы, и он накануне озаботился тем, чтобы все проверить. В доме могла оставаться только кухарка, но Иван Никитич надеялся, что она уже ушла спать, да и не будет она показываться на хозяйской половине.
Купря, никем не замеченный, благополучно, если не считать промокших во влажной траве ботинок, достиг, наконец, владений Вайскопфов. Забор здесь, на задах, был не то что с проезжей улицы, а довольно шаткий. Иван Никитич уцепился двумя руками за подгнившую доску, потянул вбок, и без особого труда вырвал её нижнюю часть. Примерился к образовавшемуся отверстию. Нет, голубчик, в этакую щель ни за что не пролезть. Тогда он, немного смущаясь и воровато оглядев раскинувшийся за спиной лужок с парой разволновавшихся под вечерним ветерком осинок, достал припрятанный под полой фланелевого пиджака металлический крюк. Крюк он тоже приглядел давно в собственном своем сарае. Поначалу крюк этот пробудил его любознательность совершенно не меркантильного толка.
– А что это, скажи-ка ты мне, Трофим, за штуковина такая у нас в сарае? – спросил тогда Иван Никитич дворника, помогавшему ему разобрать вещи после переезда.
– Это-то? – Трофим бросил хмурый взгляд из-под мохнатой шапки. – Сами и сказали: штуковина. Лучше и не скажешь.
– Я, брат, не столько названием, сколько назначением интересуюсь, – уточнил Иван Никитич.
Трофим почесал в затылке, так низко сдвинув шапку на лоб, что его глаз стало вовсе не видно:
– А кто ж его разберет? От старой хозяйки осталось, видать. Кочерга, не кочерга. Ломик, не ломик. Это, видать для того, чтобы… того. Или чтобы это… ну, этого самого. Да вы сами знаете!
Иван Никитич, выслушав объяснение старожила, хмыкнул, взвесил в руке металлический гладкий прут в пол локтя длиной с цепким ухватистым крюком на конце и решил:
– Глядишь и пригодится.
Вот и пригодилась штуковина. Купря поддел крюком доску забора, потянул на себя. Она легко подалась, наружу полезли длинные ржавые нити гвоздей. Теперь, когда отверстие стало пошире, Иван Никитич нагнулся и бойко нырнул за забор.
По ту сторону забора даже сам воздух показался Купре другим. Сад дышал особым запахом ухоженной земли, заботливо высаженных цветов, полнился уютными, нестрашными шелестами и шорохами. Под яблонями, которые готовились уже вот-вот зацвести, было сумрачно и влажно. На скамейке лежала, покрываясь вечерней росой, забытая и неприбранная служанкой светлая шаль хозяйки дома.
«Вот ведь что я удумал!» – подивился Купря собственному решению и, чуть пригнувшись, быстрыми мелкими шажками побежал к дому, глядевшему сквозь прозрачные вечерние сумерки темными прямоугольниками окон. Света нигде не было, значит, расчет был верный. На эту удаленную часть сада выходило семь окон первого этажа, и Купря, не веря своей удаче, сразу увидел, что одно из них приоткрыто. Он присел прямо под ним, позади цветочной клумбы со сложно и сладко пахнущими нарциссами, прислонился спиной к прохладной каменной стене и прислушался. В саду посвистывали какие-то мелкие птахи, радуясь весне и цветению, под легким ветром шелестела свежая майская листва, где-то в городе гавкали собаки, что-то скрипело, слышны были даже далекие, невнятные голоса, а вот в доме было тихо. Дом безмолвствовал так, как безмолвствует жилище, оставшееся без хозяев.
Иван Никитич приподнялся, отворил пошире окно и заглянул внутрь. Никого. Тогда он весело подпрыгнул, чтобы ловчее уцепиться, подтянулся на руках и лег животом на подоконник.
«Да что ж такое, право слово, – посетовал он мысленно. – Летом регулярно катаюсь на велосипеде, зимой имею привычку бегать на лыжах, а вот извольте видеть: живот-с!»
На животе лежать было мягко, но несподручно оказалось перелезать через подоконник в комнату.
«Хорошо хоть цветов в горшках на окне не понаставили!» – порадовался Купря, стараясь заглушить нарастающее нехорошее чувство, которое, стоило оказаться в чужом доме, моментально пришло на смену давешней веселости.
Комнатенка была маленькая, нежилая. Здесь помещались только трехдверный деревянный одежный шкаф, стул да стол с утюгом, какими-то щетками и ворохом не глаженных ещё юбок и рубашек. Купря огляделся, сделал пару шагов к двери, приоткрыл её, выглянул в темный коридор. Все здесь было незнакомым, половицы скрипели непонятно, в воздухе висел запах чужого жилища.
«Нет, дальше, пожалуй, не пойду. Я уже в доме – и будет!» – строго сказал себе Иван Никитич, шагнул назад и затворил дверь. Прислушался к своим ощущениям. Весь его азарт куда-то разом улетучился. Он вдруг понял, что ощущения у него препоганые, потому что теперь ему сделалось страшно и стыдно. Но дело не было ещё доведено до конца.
Он выудил из кармана припасенный заранее холщовый мешок и снова оглядел скромную комнатенку. Взялся было за утюг, но тут же вернул чугунного тяжеловеса на место. Потянул из вороха белья что-то воздушное, кружевное, явно женское, усмехнулся в усы, но тут же устыдился и сунул это непонятное обратно поглубже под юбки и оборки. На третий раз, наконец, ухватил подходящую вещь: мужскую плотную рубаху, и ещё одну, и ещё, а затем и кальсоны. Начал запихивать находки в мешок. Заметил задвинутую к стене синюю коробочку с пол-ладони величиной, и сунул ее, не открывая, в карман. Потом решил посмотреть в шкафу. На полках высокими крахмальными стопками лежало белье. Иван Никитич хотел заглянуть было, что лежит в другом отделении шкафа, и вдруг мельком выхватил из полутьмы свое круглое, искаженное азартным воодушевлением и вместе с тем откровенно испуганное лицо, отразившееся на миг в зеркале, закрепленном на створке шкафа.
«Господи прости, что я делаю!» – спохватился он, отшатнулся сам от себя, шагнул назад и опустился на подвернувшийся кстати колченогий стул.
«Да ведь это грех! А если сейчас придут? Который час? Поди полдесятого уже. Что же это у них тут и часов нет? Что я здесь делаю?!»
Он кинулся выкладывать из мешка обратно на стол только что украденные вещи. Как они лежали раньше? Ведь заметят, что иначе сложено! Кинутся догонять и ведь догонят непременно, и поймут сразу, что это он: он и в дом влез и вещи покрал. Где-то совсем рядом заполошно залаяла собака, заскрипели ворота.
«Стыд-то какой!» – взвыло все в душе у Ивана Никитича. Он отбросил мешок с нелепо торчащими рукавами и штанинами прочь от себя, прямо на пол, и кинулся к окну. Перебросил одну ногу через подоконник и остановился. Прислушался. В саду было тихо, если не считать щелкающего где-то совсем рядом соловья.
«Э нет, брат, а как же все-таки…?»
Он быстро вернулся, поворошил кучу одежды. Взгляд его упал на жилет благородного серого оттенка, матово блеснувший в сумерках плотной, дорогой шелковой тканью. Жилет понравился Ивану Никитичу тем, что по сравнению с рубахами и кальсонами, не занял бы много места, будучи спрятан. Купря только теперь подумал, что прилично одетый господин, идущий по улице с мешком одежды в руках, выглядел бы подозрительно – чай, на прачку-то не похож. Нет, покраденное следовало спрятать на себе так, чтобы не привлекать внимания. Неловко сложив жилет, он сунул его под ремень брюк и прикрыл полой пиджака. Левый бок Ивана Никитича при этом несколько оттопырился, придав его и без того плотной фигуре нездоровую кривизну. Несмотря на это, Купря плотно запахнул пиджак и теперь уже без промедлений бросился к окну. Он быстро перелез через подоконник и побежал, все так же мелко переступая и пригибаясь, но теперь уже не разбирая пути через сад к лазу через забор.
По прошествии двадцати минут Иван Никитич был уже на привокзальной площади и сидел в трактире. Первым его намерением после удачной кражи было немедленно воротиться домой, забиться в кабинет, запрятать там покраденный полковничий жилет в самый дальний угол ящика письменного стола, запереть его непременно, чтобы никто не мог эту улику обнаружить, и затем тщательно записать все произошедшее. Записать, конечно, от третьего лица, изменив, само собой, имя и звание обворованного полковника. Иван Никитич уже и придумал даже, что изобразит дом богатого и скаредного купца, и положил себе выдумать для него какую-нибудь неудобную, даже немного стыдную фамилию. Обворованный нынче отставной полковник носил гордую фамилию Вайскопф, что в переводе с немецкого означало «белая голова». Полковник был, и правда, белоголов – Купря был с ним шапочно знаком, и находил, что седина добавляла образу полковника солидности. Задуманный же купец должен был быть поименован от противного: Чернозадов? Нет, звучит неприлично, дамам не понравится. Крутопузов? Ладно, над именем можно было подумать и после, а вот ощущения стоило записать как можно скорее, пока они были так живы ещё в душе. Однако, направившись к себе на Рождественскую, оставив дом полковника уже далеко позади и вполне уверившись в том, что теперь едва ли кто-то будет преследовать его, чтобы уличить в совершенном преступлении, Иван Никитич вдруг почувствовал, что никак не может сейчас прийти домой. Он живо представил себе, как Сонечка и Лизонька, уже, вероятно, умытые на ночь, в светлых ночных рубашечках выскочат ему навстречу, обовьют ручонками шею. Ему сразу нарисовалась картина, как одна из дочерей, скорее всего младшая, резвая Лизонька, тут же запустит ладошки под его пиджак, заметив, что там что-то спрятано, и надеясь получить гостинец. А какие глаза будут у Лидии Прокофьевны, когда жилет будет извлечен на свет, и она сразу же, конечно, своим женским хозяйским чутьем распознает в нем чужую, да к тому же еще и недешевую вещь! И Ивану Никитичу придется тогда, не подав виду, объяснять жене, почему он прячет у себя под пиджаком предмет чужого гардероба. Тут же без всякого напряжения, как будто сама собой в голове Ивана Никитича составилась презабавная история, как будто он сговорился помогать заезжему фокуснику: интересно ведь посмотреть на скрытую сторону таких выступлений. Заранее спрятанный под полой пиджака жилет должен был неожиданно явиться перед публикой. Да вот незадача: фокусник оказался неловок, публика освистала его и он, схватив извозчика, умчался на вокзал, позабыв про свой реквизит. И, конечно, Лидушка бы не поверила. По его лицу и по глазам сразу бы поняла, что он все это сочинил, что все было как-то иначе, да только скорее всего смолчала бы, и смотрела бы на него долгим укоризненным взглядом. Иван Никитич почувствовал, что ему тогда было бы совестно вдвойне: и за покражу, и за обман. Поэтому домой он не пошел, а пришел прямо сюда, в трактир на привокзальной площади.
Купря заказал графинчик водки с соответствующей позднему вечернему времени легкой закусочкой в виде соленых грибков и квашеной капусты. Также он попросил подать бумаги и чернил и, выпив первую рюмку, стал торопливо записывать произошедшее, стараясь ухватить в себе и выразить словами все обуревавшие его чувства. После второй рюмки его не на шутку стал занимать и отвлекать от писания вопрос о том, куда деть украденный шелковый жилет. А после третьей он понял, что ему настоятельно нужно обсудить все случившее с кем-то понимающим. Он черкнул записку, подозвал мальчика и велел ему бежать на Луговую.
– Это к художнику, что ли? – переспросил мальчишка.
– К художнику, к художнику, да поторапливайся! – Ивану Никитичу не понравилась этакая нерасторопность. Его вообще уже все начинало раздражать в трактирном зале: и то, что хозяин явно экономил на освещении, и то, что водка в графинчике стала противно теплой и заканчивалась, и захотелось уже есть, и скучно стало, и мешал засунутый под ремень украденный жилет, и было душно. Он знал, что домой придет поздно, и Лидушка, скорее всего, станет его этим попрекать, а он даже не сможет ей рассказать, что совершил сегодня. Она ни за что не поймет, что это нужно было для дела. Почувствует только, что он пил, и будет огорчена или вовсе разозлится.
Вопреки опасениям Купри, что его товарищ не пожелает в такой поздний час выходить из дома, скоро на пороге трактира появилась знакомая фигура. Художник Тойво Виртанен был ростом несколько выше Ивана Никитича. По его неторопливым, уверенным движениям можно было признать в нем человека сильного, сдержанного, хорошо знающего, что он сделает в следующую минуту и никому не позволяющего сбить себя с толку. Поверх простой льняной рубахи у него была накинута широкая синяя блуза, местами испачканная краской – это означало, что, хоть он и откликнулся на приглашение приятеля, но засиживаться за праздным разговором не будет, а собирается как можно скорее вернуться к работе. Тойво молча уселся напротив Купри и стал смотреть на него укоризненно. Иван Никитич тоже сидел сначала молча, не зная с чего начать и обуреваемый чувствами: он и гордился своей смелостью, позволившей залезть в чужой дом, и стыдился кражи, и радовался приходу друга, и совестился того, что выпил.
– И давно ты тут сидишь? – спросил, наконец, Тойво, который не мог долго пребывать в бездействии и постоянно ставил себе множество малых и больших целей, чтобы, никогда не останавливаясь, двигаться от одной к другой. – Сколько ты выпил уже? Не дают тебе больше в долг?
– Бог с тобой, Тойво! Я и выпил-то всего пару стопок. И деньги у меня есть, – Иван Никитич хотел замахать на друга руками, но вспомнил о припрятанном жилете полковника и только прижал локти плотнее к бокам, чтобы полы пиджака не разошлись.
– Что это ты там прячешь, Иван Никитич? – Тойво острым глазом художника сразу отметил нездоровую дисгармонию в костюме приятеля. – Если щенка, то и не думай, не возьму больше ни одного! Отдай вон трактирщику, а мне моих двух собак хватает. И где ты их только находишь?
– Нет-нет, – с облегчением замотал головой Купря. – Никакого щенка у меня нет. Я, друг мой, о другом совсем. Я ведь сегодня – ты не поверишь – решился!
Тойво смотрел на Ивана с выражением полного непонимания на лице, и тогда тот, нагнувшись пониже над столом и приглушив голос почти до шепота, торопливо заговорил:
– Помнишь, мы давеча с тобой поспорили? Ну как давеча? С месяц тому уже будет, наверное. Я просил тебя подарить мне сюжетец. Ты же знаешь, мой издатель Свирин наседает, желает поскорее чего-нибудь занимательного. И я просил тебя припомнить какой-нибудь забавный случай из твоих путешествий. Я мог бы положить его в основу рассказа. Но ты мне отказал: сказал, что из этой затеи все равно ничего не выйдет. Потому что нужно самому пережить подобные события, чтобы правдиво написать историю. Ну же, помнишь, мы тогда ещё сидели у тебя в мастерской? И ты доканчивал тот пейзаж с березой и завалившимся забором. А потом угощал меня булочками из ржаной муки с брусничным вареньем. Как же они называются? Да ты сам знаешь! Твоя Зина их печет иногда, такие продолговатые, а посередке…
– Не припоминаю этого разговора, – нетерпеливо перебил Тойво. – Хотя, пожалуй, соглашусь, определенный опыт для писателя чрезвычайно важен.
– Как же не припоминаешь? – взвился Купря, отирая пот со лба. – Я тебя умоляю, давай возьмем ещё графинчик и чего-нибудь, хоть картошечки что ли. Так есть хочется! Грибы вот остались еще. Они очень даже приличные, попробуй!
Иван Никитич подтолкнул к художнику глиняную глубокую тарелочку, на дне которой, пересыпанные зеленым луком, словно ещё не собранные в траве, лежали маленькие крепенькие грибные шляпки. Тойво вытащил из кармана часы, хотел было сказать, что уже поздно и ему нужно домой, но, посмотрев в умоляющие и растерянные глаза Ивана Никитича, понял, что дело на этот раз вовсе не в выпивке, что тот, видимо, попал в историю, и ему нужно выговориться. Заказали ещё графин и пирожков с рыбой.
– Как же ты не припоминаешь, Тойво! – повторил Иван Никитич, с удовольствием опустошив рюмку и закусив свежим, теплым ещё пирожком. – М-м-м! А недурные пирожки! И что это они на ночь глядя напекли? А, это, верно, чтобы к проходящему поезду отнести и продать. Попробуй непременно! Что это за рыба такая у них в начинке? Не разберу. Надо бы потом спросить у полового. Да, так о чем это я? Как же ты не помнишь, что сказал мне тогда? Я твои слова принял так близко к сердцу! Да не просто к сердцу. А как прямое руководство к действию. Я запомнил буквально. Ты сказал: «Если хочешь описать, как твой герой скачет на лошади, сначала сам сядь на неё и проскачи хотя бы полверсты, чтобы почувствовать, каково это на самом деле. Если твой герой должен утонуть, то зайди на глубину, нырни и почувствуй себя лишенным воздуха и опоры под ногами. Хочешь писать о полете птиц, отправляйся в воздухоплавательную школу и не бойся подняться в воздух. Поверяй слово действием!» Ты сказал это точно такими словами, и мне эта твоя мысль показалось очень правильной и важной.
– И что же ты придумал? – с тревогой спросил Тойво, вглядываясь в растерянного Купрю. Тот наклонился ещё ниже, зажмурился и шепотом признался:
– Я, друг мой, нынче залез в дом полковника Вайскопфа и обокрал его!
– Господи, да зачем же ты это сделал? – Ивану Никитичу показалось, что Виртанен сейчас вскочит и выбежит в дверь. Но тот только выпрямился на стуле и в полном непонимании уставился на друга.
– Скажи, Тойво, ты читал рассказы о похождениях английского сыщика Шерлока Гольмса? Я вот прочел несколько новых переводов недавно. Ты знаешь, у Свирина в редакции все говорят, что истории, в которых описывалось бы раскрытие какого-нибудь преступления, чрезвычайно популярны среди читателей. Вот я и решил попробовать сам написать что-то в таком роде. Убийство мне описывать не хотелось – это все-таки крайность и, слава Богу, не так часто случается. Хотя мне, как ты знаешь, прежде приходилось сталкиваться с разного рода прискорбными случаями, но я решил все же первый опыт писания такого рассказа посвятить не очень страшному преступлению. И такому, чтобы каждый читатель мог легко себе вообразить эти события и чувства моих героев. Вот я и подумал, что краж происходит сколько угодно, хоть каждый день. Это может быть даже забавным. А если сделать так, что грабитель выступал бы в роли этакого Робина Гуда, который наказывал бы за скаредность и алчность, то сюжетец мог бы выйти неординарный и даже поучительный.
– И ты решил обокрасть Вайскопфа? Чтобы узнать, что чувствует грабитель?
– И чтобы в целом понять, как это делается. Только ты говорил бы потише, а то еще кто услышит ненароком. Да, обокрал. А что мне оставалось? Ты же не позволил мне описать какой-нибудь занятный эпизод из твоих путешествий. А ведь я мог бы протащить в печать и твои иллюстрации, конечно, если бы ты их нарисовал. И если бы Свирин согласился их оплатить и напечатать.
– То есть я ещё и виноват во всей этой истории? – опешил Тойво. – Вот уж воистину «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»! И как же ты проделал все это, позволь узнать?
– Дело, как оказалось, нехитрое. Я всего-то отогнул доску в заборе и был уже у них в саду. Не с улицы, конечно. Там бы непременно кто-нибудь заметил. Я сзади дом обошел и влез с той стороны, где позади дома луг. Ты ведь помнишь, как у них дом стоит? Одно окно было открыто, я через него и влез. Собака меня не услышала, видно, была на переднем дворе. Она у них злая, все время на цепи сидит. В доме никого не было. Я нарочно загодя узнал. Но я у них там по комнатам не разгуливал, хотя, получается, мог взять что угодно.
– Но ты ведь ничего не взял?
Иван Никитич нахмурился, открыл и закрыл рот. Потом вытащил потихоньку из-под полы пиджака полковничий жилет и под столом показал его Тойво.
– Вот. Взял для чистоты эксперимента. Как бы я иначе узнал чувства грабителя, если бы ничего не вынес из дома?
– Это что, жилет? Жилет Вайскопфа? И что ты думаешь теперь с ним делать?
– Ума не приложу! Может, ты его у меня заберешь?
– Я? С какой это стати? И не надейся! Не думай даже делать меня соучастником твоих глупостей! Хватит с меня и того, что я обо всем этом теперь знаю.
– Так что же мне делать? Домой я отнести его не могу. Лида сразу найдет. – Иван Никитич в отчаянии разлил по стопкам прозрачную жидкость. – Бросить где-нибудь незаметно в мусорную кучу? Закопать в саду? Отдать нищему? Подбросить кому-нибудь на задний двор?
– Верни его Вайскопфу, Иван! И кстати, я вовсе не нахожу полковника дурным человеком. Твой благородный разбойник напрасно выбрал его своей жертвой.
– Да это я предположил просто для сюжета, что у вора будут благородные побуждения. Подумал, что для читающей публики было бы занимательнее, если бы можно было проникнуться сочувствием к преступнику. Сам-то я полковничий дом выбрал только потому, что понимал, как туда можно незаметно влезть. Так ты считаешь, что я должен вернуть жилет? Но как же я объясню Вайскопфу, откуда я его взял?
– Так же, как мне только что объяснял.
– Нет, нет. Признаться полковнику, что побывал без спросу в его доме и буквально копался в его белье – нет, это невозможно. Он влиятельный в городе человек. К тому же немолодой уже. Да ещё и бывший военный. Да к тому же немец. Он не оценит такой шутки. Нет, исключено!
Они посидели в молчании. Половой открыл заднюю дверь, чтобы вымести наружу сор, в зал полилась весенняя ночь, совсем не темная, прохладная, полная аромата цветущей сирени и соловьиных трелей.
– Ладно, Иван, мне, пожалуй, пора идти. Зина будет волноваться. Я сказал ей, что на полчаса выйду.
– Постой, так а что же мне делать с жилетом?
Тойво, который уже было поднялся, чтобы уйти, снова присел к столу.
– Я тебе сказал мое мнение. Верни его полковнику и объясни, что проделывал эксперимент. Хотел узнать, что чувствует человек, забравшийся в чужой дом и взявший что-то из вещей хозяина. Ох, Иван, ты хоть понимаешь, насколько эта твоя творческая любознательность бывает чрезмерна и неуместна? И что, к слову сказать, чувствует этот самый человек? Воришка, если называть вещи своими именами. Теперь ты знаешь?
Иван Никитич тяжко вздохнул:
– Поначалу, возможно, некоторый азарт. Но тут неточно. Я ведь действовал не из нужды или корысти, а из исследовательского, или точнее сказать, литературного интереса. И знал к тому же, что это никогда не повторится, что я всего-навсего проделываю такой опыт. А потом я почувствовал стыд. И страх быть застуканным и пойманным. И снова стыд, что, возможно, поселил в хороших людях беспокойство за безопасность в их собственном доме, если они заметят следы моего там пребывания. А ведь могут подумать и на кого-то другого. Могут обвинить прислугу, если узнают о пропавших вещах. Ох, Тойво, не вышел бы из меня грабитель. Слишком много думаю.
– Думать, Иван, надо было раньше. И знай: я тебя к таким экспериментам не побуждал. Так что верни жилет хозяину. Иначе так и будешь жить с нечистой совестью.
С этими словами Виртанен решительно распрощался, бросил на стол несколько монет и пошел к дверям. Время было уже позднее, Иван Никитич расплатился и тоже направился домой. Глядя, как половой ловко составляет к себе на поднос опустевший графин и стопки, он как-то сразу, очень легко придумал, что сделает с украденным жилетом. Тойво, наверняка, прав, и взятое без спроса необходимо вернуть. Но сейчас для этого уже слишком поздно. Будет подозрительно, если кто-нибудь заметит его, шатающимся в такой час далеко от дома. Бог знает, что могут подумать. Жилет он, без сомнения, вернет. Но только нужно как следует обдумать, как это можно ловчее сделать. А заодно появится у него материал и для какой-нибудь шпионской истории, в которой герою предстоит подкинуть злодеям некий, например, компромат, и поэтому он вынужден таиться от близких, скрывать свои подлинные намерения и лгать. Окрыленный этой новой идеей, Купря сразу вспомнил, что в дровяном сарае у него есть одно местечко, где он временами скрывал от своей жены, Лидии Прокофьевны, припасенную по случаю не для гостей, а для самого себя бутылочку коньячку. Там и для краденого жилета место найдется!
Выходя из трактира, Купря плотнее запахнул пиджак, стал застегивать его и не досчитался одной пуговицы. Где он умудрился потерять ее? С утра все пуговицы – это совершенно точно – были на месте. Это был довольно еще новый, удобный фланелевый пиджак с хорошими накладными карманами и медными пуговицами.
«Я ведь мог оборвать её, когда лез через окно к полковнику!» – похолодел Купря и нервными движениями стал охлопывать пиджак, словно надеясь обнаружить пуговицу где-то в другой его части. Но вместо пуговицы он наткнулся на что-то маленькое, позабытое, что лежало в кармане пиджака. Иван Никитич опустил руку в карман и достал коробочку в пол ладони величиной, обтянутую синей тканью. Он уже и не помнил, как заметил её на столе в бельевой у Вайскопфа и, почти не думая, сунул в карман. Иван Никитич открыл коробочку и увидел в ней две запонки, украшенные изящной монограммой «JW». Яков Вайскопф. Запонки полковника.
«Ещё и это!» – Ивану Никитичу захотелось даже заплакать. Он сразу понял, что украсть жилет – дело стыдное и неприятное, но вот такая – хоть и маленькая, но ценная вещица, лежавшая у него на ладони, – это уже более серьезная кража. Если жилет он смог бы, помучавшись совестью, просто выбросить, то избавиться от запонок с монограммой владельца у него не поднимется рука.
«Надо бы все это надежно припрятать до поры, – молниеносно решил Купря. – А потом напроситься к Вайскопфу в гости и уронить коробочку куда-нибудь под диван. Прислуга скоро ее найдет, спишут все на недоразумение».
Он почти бегом бросился по пустым улицам к своему дому. Жители Золотоболотинска уже спали, и только собаки провожали его сонным лаем из-за заборов.
Глава 2,
в которой весь город узнает о преступлении
На утро вся семья Купря самым чинным образом завтракала на веранде. Их кухарка Маланья по случаю выходного дня нажарила оладий, они лежали высокой золотистой горкой на большом фарфоровом блюде на середине стола, источая пар и аромат печи. К оладьям Маланья подала клубничного варенья – последнего из сваренного в том году, о чем кухарка напомнила хозяевам дома за последние полчаса уже никак не менее четырех раз. Лизонька хитренько переглядывалась с Сонечкой, и было понятно, что, если Маланья и в пятый раз скажет, что запасы клубничного варенья в доме исчерпаны, они прыснут от хохота. Иван Никитич снисходительно наблюдал за расшалившимися дочками, не делая им замечания. Он знал, что если Маланья заподозрит, что смеются над ней, то обидится и до вечера не покажет носа из кухни. Всех бы это наилучшим образом устроило, потому что шумная, чрезмерно словоохотливая кухарка имела обыкновение не по делу болтаться по дому, отвлекая всех его обитателей пересказом сплетен и домыслов города Золотоболотинска.
– Совсем скоро уже новая клубника пойдет. Так что это очень даже удачно, что прошлогоднее варенье как раз и доели, – примирительно говорила Лидия Прокофьевна, глядя в сад через белую кружевную занавеску. Там цвела сирень, пышной пеной заливая все пространство под окнами и выплескиваясь даже поверх забора на Рождественскую улицу. Стукнула калитка, и горничная Глаша, неслышно скользнув за спиной у хозяйки, положила рядом с тарелкой главы семейства свежую газету.
Газета была свернута вдоль в тугую полоску, так что Иван Никитич мог видеть только верхний край первой полосы «Золотоболотинского листка». «Неслыханная дерзость!» – гласил заголовок, и ниже буквами помельче: «Полковник Вайскопф рассказал о пропаже…» дальнейшее пояснение пряталось за сгибом газетного листка, но и этих сведений Ивану Никитичу хватило, чтобы сердце у него ушло в пятки.
«Прознали! – понял он немедленно. – А чего я ожидал? Полковник все-таки немец, знает порядок в своем доме. Как вернулись они вчера: он из Петербурга, а его жена после концерта, так сразу, должно быть, и поняли, что в доме побывал чужой человек. И тут же, конечно, послали за городовым. Ох, и как же мне теперь…? Опыта в подобных делах я не имею, так что наверняка оставил улики. Вот пуговица… где я ее оборвал? А что если кто-нибудь видел меня, когда я через забор лез? А что если в трактире приметили, как я Тойво жилет показывал?»
– Что там пишут сегодня в газете, Ваня? – как на грех решила спросить Лидия Прокофьевна. И когда её только это интересовало? Раньше ведь, стоило ему взяться за пересказ прочитанных последних известий, как она тут же начинала зевать, отмахивалась, говорила, что противной политикой не интересуется, а тем более светскими сплетнями. А сегодня вот вдруг спрашивает! Иван Никитич с сомнением посмотрел на жену. Уж не подозревает ли она чего? Или это он сам выдал себя испуганным выражением лица? Но ее серые глаза смотрели спокойно, на губах играла безмятежная улыбка и светилась веселая капелька варенья.
Да и с чего бы Лидии Прокофьевне подозревать мужа в чем-то? Вчера вечером, кажется, все прошло гладко. Он добрался до дома ближе к полуночи. Скрипнул калиткой. Дом у Ивана Никитича был, конечно, не так велик, как у отставного полковника Вайскопфа. Это был обыкновенный, окруженный небольшим садом, просторный деревянный дом о пяти комнатах, не считая веранды, кухни и комнаты прислуги: кухарки и горничной. Купре удалось быстро утихомирить обрадованного Самсона, своего верного великана, который приветствовал хозяина радостным гавканьем и прыжками, незаметно шмыгнуть в дровяной сарай и ловко припрятать украденный жилет и завернутую в него коробочку с запонками позади поленницы. Хорошо, что ночи стояли уже белые, и света из двери было достаточно, чтобы не расшибиться в потемках. Девочки уже спали: свет у них был погашен. Освещено было только окно гостиной. Иван Никитич заглянул через него в дом: Лидия Прокофьевна сидела у стола над книгой. На ней был легкий халат, светлые длинные волосы заплетены на ночь в простую косу. Иван Никитич на минуту залюбовался ее милыми, так хорошо знакомыми ему чертами. Потом он быстро прошел в дом. Скинул на веранде пиджак, который напоминал ему о сегодняшнем происшествии, пригладил волосы и усы, и вошел в гостиную. Здесь он наклонился, чтобы поцеловать жену, но она тут же почувствовала запах спиртного и прогнала его спать в кабинет. У них это называлось «отправляйся к коту!», потому что их состарившегося мохнатого кота с гордым именем Лев чаще всего можно было найти уже не на дворе, а среди подушек на оттоманке в кабинете хозяина дома, где его никто не донимал.
– Ваня? Ты здоров? Ты как-то побледнел. – заметила Лидия Прокофьевна.
– Да что-то тут сквозит, – пожаловался Иван Никитич, и правда, чувствуя некоторый озноб. – Я, Лидушка, пожалуй, пойду пройдусь немного, подышу. А то что-то мне, действительно, как-то не по себе.
– Ах, вот как, – сказала Лидия Прокофьевна и поглядела на Ивана Никитича долгим взглядом, лишенным всякого сочувствия. Больше она ничего говорить не стала, но он и сам знал, что она могла бы ему сказать о вчерашнем позднем возращении и запахе, уличающем его в посещении трактира, и о неизбежном после всего этого дурном самочувствии.
Иван Никитич для вида немного покашлял. Взял со стола газету, небрежно сунул её в карман. Приложил ладонь ко лбу, вздохнул, оглядел свое семейство, все ещё занятое оладьями с вареньем, и вышел в сад. Там он полюбовался сиреневым кустом, потом начал не спеша продвигаться в сторону дровяного сарая, попутно делая хозяйственные наблюдения: подергал за ветки зацветающую яблоню, копнул носком ботинка грядочку с будущей клубникой, проверил, прочно ли врыта новая скамеечка. Приблизившись достаточно к сараю, он огляделся и, отбросив нарочитую неспешность, шмыгнул в дверь. Жилет и коробочка были на месте. Он плотно и аккуратно заложил их дополнительными чурками дров и даже пошаркал ногами по земляному полу, чтобы скрыть все возможные следы своего пребывания здесь. Выйдя из сарая, Купря быстро обошел дом с другой стороны, отворил калитку и вышел на улицу.
Ивану Никитичу нужно было срочно узнать, что стало известно полиции. Есть ли уже подозреваемые, найдены ли улики? А что, если кто-нибудь уже арестован? Что следует тогда предпринять?
«В таком крайнем случае придется, ясное дело, повиниться, – понимал Иван Никитич. – В полицейский участок не пойду. Лучше сразу к полковнику. Упаду ему в ноги, буду просить, чтобы понял метания творческого человека в поисках вдохновения. Неужели не простит? Взял-то я всего-ничего, сущую ерунду. Да ведь и верну все незамедлительно в целости и сохранности. Стыдно-то как! А ведь и девочки мои чего доброго узнают. Нет, этого уж точно допустить никак нельзя! Буду просить полковника, чтобы вся эта история осталась между нами. Да только согласиться ли?»
Читать газету, стоя посреди улицы, показалось Ивану Никитичу странным, и он, погрузившись в тягостные раздумья, побрел по улице куда глаза глядят. Ноги сами понесли его в сторону дома полковника Якова Вайскопфа.
День выдался солнечный и яркий, утро стояло ещё чистое, и все же уже не такое прозрачное, видимо, день обещал быть по-настоящему теплым. Несмотря на это, Купря все ещё чувствовал, что его пробивает озноб. Свернув на Александровскую улицу, на которой проживал Вайскопф, Иван Никитич тут же нос к носу столкнулся с одетым по всей форме полицейским приставом Василием Никандровичем Шмыгом. Тот козырнул и поприветствовал Ивана Никитича. Надо заметить, что писатель Купря был в Золотоболотинске довольно приметной личностью, ведь население городка составляло от силы тысяч семь, хотя в летние месяцы наезжало на дачи чуть ли не вдвое больше.
– Доброго вам здравия, Иван Никитич! Пришли поглядеть на место преступления? – полюбопытствовал пристав и бодрым жестом направил кончики своих знатных усов вверх – в безоблачное майское небо.
– И вам доброго утра, Василий Никандрович! – откликнулся Купря, и собственный голос ему не понравился: он звучал как-то ненатурально и сипло. – А что за преступление такое?
– Да как же вы не знаете? Вы что же, утреннюю газету еще не читали? – голос полицейского зычно разносился по всей Александровской улице.
– Нет, знаете ли, не читал ещё. Горничная наша, Глаша, сегодня утром помогала на кухне. А кухарка, Маланья-то наша, так вот она оладьи печь затеяла. С клубничным вареньем. Мы как раз сегодня его и доели-то, то есть варенье. Не то, чтобы все, а именно клубничное доели. Другое-то какое-нибудь, надо полагать, осталось еще … – Иван Никитич все говорил и говорил, потихоньку пятясь назад и пытаясь придумать, как бы улизнуть от пристава. – Так вот, это я к тому, что Глаша, наша горничная, она не приносила еще газеты.
– Да как же вы говорите, что не приносила, Иван Никитич, если газета у вас вон она, из кармана торчит! – удивился пристав.
– Ох, и правда! – спохватился Купря. – Что-то я, знаете ли, в последнее время так рассеян стал! Задумался. И когда это я только успел сунуть её в карман?
Купря поспешно вытащил газету из кармана и хотел было её развернуть и наконец прочесть, но Василий Никандрович, подойдя совсем близко, положил тяжелую ладонь на газетные листки и, склонившись к Ивану Никитичу, предложил доверительно:
– Да что уж теперь читать-то, раз вы сами тут. Хотите, Иван Никитич, я вам самое место преступления покажу? Зевак пускать было не велено, но вы-то – совсем другое дело.
– Почему это я – другое дело? – пискнул Купря.
– Кому, как ни вам и стоило бы посмотреть на место преступления! – Василий Никандрович подмигнул, опять подкрутил ус и оправил ремень.
– Что это вы такое говорите, любезный Василий Никандрович? – Купря чувствовал, что в ушах у него стоит какой-то гул, а улица вокруг странным образом покачивается. – С чего это мне смотреть на это самое место? Как будто у меня других дел нет!
– Да вы не пужайтесь так! Чай не на убийство идем смотреть, – подмигнул пристав, цепко ухватил Купрю под локоть и повлек по Александровской улице прямо в сторону полковничьего дома. Иван Никитич изо всех сил старался придумать какой-то повод, чтобы отцепиться от полицейского, броситься бегом домой за паспортом, а потом сразу – на вокзал и в Петербург, а там раствориться в толпе, залечь на дно. Взять у Свирина гонорар на написание будущего какого-нибудь романа, купить на эти деньги смену белья и билет на пароход, скажем, до… – Иван Никитич вспомнил свой гимназический глобус и ткнул воображаемым пальцем в другое полушарие – до Буэнос-Айреса! Ах, как горько будет расставаться с семьей! Да, может, так и лучше будет для Лиды, для девочек: не позорить их, а скрыться. Билет надо взять непременно в третий класс, чтобы в дороге собирать истории простых людей. Потом можно будет написать на этой основе серию очерков и предложить их Свирину. Путевые заметки – популярное чтение, а деньги на чужбине будут ох как нужны. А еще непременно надо будет выходить почаще на палубу и примерять на себя труд матросов, и обязательно записывать все их особенные словечки, чтобы по прибытии…
– Что это вы, Иван Никитич, еле идете? – заметил пристав, возвращая Купрю на пыльную Александровскую. – Никак, давеча опять засиделись в трактире? Ох, не доведет это вас до добра. И Лидию Прокофьевну расстраиваете. Вам полагается не прохлаждаться, а правдивые сведения собирать. А там, глядишь, и нас добрым словом помянете в каком-нибудь вашем рассказе. Будет что детям показать. Вот, мол, прямо о нас в журнале написано. И про Золотоболотинск, и про нашу службу. Мы ведь, простые золотоболотинцы, все ждем, когда вы о нашем городе напишите. Да, не обиняками, как обычно, а чтобы прозвучало на всю империю: живут в славном городе Золотоболотинске вот какие хорошие люди!
– Непременно напишу, голубчик, непременно, – едва слушая его, отвечал Купря и тут же стал сам себя презирать за угодливую интонацию, с которой это прозвучало. Тем временем Александровская улица слегка повернула в правую сторону, открыв глазам Ивана Никитича небольшую толпу собравшихся зевак. Что-то в этой толпе сразу показалось ему неправильным, и только через мгновение он понял, что стоят они не у дома полковника Вайскопфа, в котором накануне побывал воришка, а чуть подальше, и смотрят не на окна полковничьего дома, а на украшенный портиком с колоннами вход в соседнее здание местного музея.
– Постойте-ка, Василий Никандрович! – Купря остановился и решительно высвободил руку из цепкой хватки пристава. – Не возьму в толк, к чему эти ваши нотации и куда вы меня тащите. Скажите уж толком, что случилось.
Что-то в тоне известного местного писателя теперь вдруг изменилось и заставило полицейского пристава выпустить его руку и доложить по форме:
– Нынче ночью ограблен наш исторический музей, Иван Никитич. Дерзко похищены золотые античные реликвии числом три штуки, если считать две серьги за один предмет. Также пропали из витрины новгородские монеты вместе с глиняным кувшинчиком, в котором они были найдены при раскопках. Наш знаменитый клад монет.
– Клод Моне?
– Никак нет. Клад монет.
– Ах вот оно что! Да как же так? – ахнул Иван Никитич, от изумления смешно повторив частый жест своей жены: прикрыв ладонью рот. – Да неужто тот самый клад?!
– Тот самый, Иван Никитич! – горестно подтвердил Василий Никандрович.
– Так что ж вы, голубчик, сразу-то не сказали? Я-то уж было подумал… невесть что!
Огромное облегчение захлестнуло Купрю, осознавшего, что сам он пока не уличен в краже полковничьих запонок и шелкового жилета и не пойман. Да и что за мелкое такое воровство: подумаешь, жилетка да пара старых запонок. Вайскопф, небось, и не заметит. Особенно теперь, после такого дерзкого, неслыханного ограбления музея! Иван Никитич почувствовал вдруг, как распрямилась его спина, напружинились руки и ноги, заострился взгляд и память приготовилась запечатлеть все детали события, свидетелем которому он становился в эти минуты.
– Да что же мы копаемся, Василий Никандрыч! Тут такое приключилось, а я ни сном, ни духом! – вскричал Купря. – Ведите, голубчик, скорее, да расскажите мне, как это все произошло!
Не дожидаясь пристава, Иван Никитич устремился к зданию музея. Этот дом стоял по соседству с домом полковника, непосредственно даже на купленном им участке земли. Действительно, музей создавался при живейшем участии Вайскопфа. Здание для музея было выкуплено у бездетного купца, отправившегося на старости лет доживать к дальним родственникам в Москву. Градоначальник выделил средства на то, чтобы пристроить к деревянному двухэтажному дому полагающееся музею по статусу крыльцо с колоннами, но все в городе по праву считали музей детищем отставного полковника, увлекавшегося историческими науками и даже археологическими раскопками. Именно он выхлопотал для быстро растущей коллекции разнообразных экспонатов стеклянные шкафы, позаботился, чтобы была учреждена должность директора, нанят смотритель, приглашен для работы реставратор, а также работник для исполнения прочих нужд, как то: протапливание печей, метение полов и починка вышедшего из строя музейного хозяйства.
В толпе собравшихся у крыльца зевак Купря, несмотря на то, что был потрясен дерзостью ограбления, сразу заметил двух знакомых: одетого по-народному обычаю в перетянутую широким ремнем холщовую рубаху и высокие сапоги Виртанена и щеголявшего в не по погоде легкой светлой брючной паре журналиста местной газеты Ивлина. К неудовольствию Купри, журналист тут же вывинтился из толпы и подскочил к полицейскому приставу.
– Василий Никандрович! Я тут с раннего утра стою, а вы все никаких сведений мне не даете! Вы же знаете: я уполномочен от «Золотоболотинского листка» освещать все этапы следствия. Извольте распорядиться этому вашему… чтобы пропустил!
Ивлин мотнул головой в сторону грузной фигуры городового, застывшей у входа в музей.
– Можете осмотреть место преступления. Но исключительно в моем присутствии, – коротко, едва взглянув на журналиста, кивнул Василий Никандрович. Ивлина в городе многие не любили и звали за глаза «угрем»: он был молодым, высокомерным, скользким и пронырливым. По улицам Золотоболотинска он шнырял не для того, чтобы описать прелести провинциальной жизни с её уютными радостями, а лишь для того, чтобы выловить в мутных омутах маленького городишки что-нибудь стыдное, подлое – одним словом, такое, чего обыватели предпочли бы вовсе не замечать. Всем, в первую очередь и самому Ивлину, хотелось, чтобы его разоблачительные статейки заметил бы уже редактор какого-нибудь из петербургских изданий и забрал бы к себе этого злого на язык и гоняющегося за скандалезными историями щелкопера.
– Василий Никандрович, – теперь уже Купря сам взял пристава под локоть и попросил вкрадчиво:
– Дозвольте, и господин Виртанен пройдет с нами в музей. У художника, знаете ли, взгляд острый, может заметить такое, чего мы с вами и не приметим. Опять же зарисовку может сделать для нужд следствия.
Василий Никандрович хмыкнул, строго глянул в сторону финского художника. Тот, не дожидаясь приглашения, решительно и уверенно двинулся к ним. Пристав, не выразив возражений, самим своим молчанием дал добро на его присутствие в странной компании.
Полицейский пристав, журналист, писатель и художник прошли в двери музея. Городовой остался снаружи, не пуская зевак.
Бывший когда-то купеческим, дом был выстроен с размахом: с высокими потолками и просторными комнатами. В помещениях первого этажа демонстрировались естественно-научные коллекции: чучела зверей и птиц, образцы почвы и камня, засушенные примеры местной флоры. В этих залах часто можно было встретить мальчиков из местного училища: их приводили сюда на занятия. Некоторые обучались рисованию, перенося на листы альбомов поднявшегося на задние лапы навсегда застывшего медведя, притаившегося среди сухой травы зайца, раскинувшую крылья сову. Так же здесь можно было видеть старинный костюм крестьянки, жившей на этих землях сто лет назад, и снасти древнего рыбака. Старшие посетители музея и гости городка неизменно проявляли больше интереса к экспонатам, выставленным на втором этаже. Здесь привлекало внимание весьма интересное, хоть и небольшое собрание старинных украшений и утвари, найденных в местных курганах. Кроме этого стены украшала отнюдь недурная коллекция портретов и пейзажей, написанных современными художниками. Самым знаменитым в собрании картин был, безусловно, небольшой пейзаж, написанный Клодом Моне1. В центральном же зале, у отдельной стены, торжественно задрапированной бордовым бархатом, экспонировалось главное сокровище Золотоболтинска: золотой клад.
Пока вся компания вслед за приставом поднималась по широкой скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, Иван Никитич вдруг с удивлением осознал, что, когда он с Лидой, Сонечкой и тогда еще новорожденной Лизонькой семь лет назад переехал сюда, получив в наследство от умершей тетки дом на Рождественской улице, тогда ни о каком сокровище и речи не было. Да и сам городишко звался в ту пору скромно: Черезболотинском. И только на следующий год случилась небывалая находка. В одном из курганов, что стоят посреди местных болот, группа ученых из Петербурга открыла захоронение какого-то эксцентричного древнего путешественника, любителя ценных вещиц. В глиняном кувшине, лежавшем подле скелета, археологи нашли клад монет, среди которых было и несколько золотых, а под черепом усопшего в древности богача ученые с удивлением и восторгом обнаружили невиданные в этих северных землях образцы настоящего античного искусства: браслет, пару серег и фигурку лошади. И все это из чистого золота! Ну и шум поднялся тогда в Черезболотинске! Жители городка день и ночь дежурили то на курганах, то у дома градоначальника, требуя явить им найденный клад, причем мнения обывателей разделились: одни считали, что находка повлечет за собой и прочие блага, другие же, наоборот, страшились проклятия, которое могли наслать на Черезболотинск потревоженные души захороненных здесь в незапамятные времена язычников.
– Только что полковник Вайскопф телефонировал, – говорил, отпечатывая тяжелые шаги на ступенях, Василий Никандрович. – Разрешил его не дожидаться, осмотреть место происшествия и самим учинить прочие следственные действия.
– Господин Вайскопф, вероятно, опасается, как бы в отсутствии древнего золота, нашему городишке не вернули его прежнее неблагозвучное название, – ядовито заметил журналист. – В простом Черезболотинске жить теперь уже не comme il faut.
– Без заступничества полковника золотые предметы были бы отобраны у города, – напомнил Виртанен. – Если бы не господин Вайскопф, они хранилось бы, вероятно, где-нибудь в Петербурге: в Эрмитаже, или в Этнографическом музее.
– Вы хотите сказать, что там они были бы под более надежной охраной? – с обидой уточнил пристав.
– Я просто предполагаю, что полковник как попечитель музея мог бы ускорить ход расследования. Например, назвал бы нам имена тех, кто особенно интересовался золотоболотинским кладом или тех, кому такие ценности можно было бы продать.
– Вы не находите странным, что полковника нет сейчас с нами? – не унимался Ивлин. – Не подозрительно ли это?
– Полковник Вайскопф первым был уведомлен, не извольте сомневаться, – пристав бросил недовольный взгляд на журналиста. – Мы и сами во всем разберемся. Кража – будь она хоть из музея, хоть из трактира – это дело полиции, любезнейший. А Яков Александрович хоть и числится в попечителях, но, однако же, лицо частное. На утренний поезд он не поспевал, приедет дневным, не сомневайтесь.
Все двинулись дальше, в центральный зал. Пока шли мимо витрин с серебряными фибулами и монистами, глиняными черепками, орудиями труда и нехитрым оружием древних людей, Ивлин пристроился на полшага позади Ивана Никитича и, понизив голос, зачастил ему на ухо:
– А вы что, Иван Никитич, тоже писать об этом событии вознамерились? И вы, вероятно, как и все прочие, верите в дутые заслуги Вайскопфа? Напрасно, напрасно! Он же вояка, да ещё и немец, разве же он разбирается? Я вам скажу, чья заслуга этот музей и вся его коллекция! Это исключительно его супруга, Амалия Витальевна! Мне доподлинно известно, что у Вайскопфа не было никакой беседы с государем императором по вопросу золотых находок. Да! Весь вечер он просто-напросто играл в карты в компании придворных лиц, а до дела так и не дошло. Решение о музее было принято только на следующий день, когда Амалию Витальевну принимала у себя государыня императрица.
Купря невольно повел плечом, сделав такой жест, словно хочет стряхнуть с себя приставшего Ивлина с его сплетнями и пустыми домыслами. Тот едва слышно захихикал. Иван Никитич обернулся, собираясь сообщить газетному писаке, что не намерен терпеть его насмешки, но обнаружил, что Ивлин смеется вовсе не над ним. Взгляд журналиста был направлен на стоящую перед бархатной драпировкой витрину. Деревянный её корпус был не поврежден, равно как и накладной изящный медный замок на передней панели. А сверху, прямо по центру в стеклянной крышке зияла пробитая дыра, от которой лучами по всей поверхности стекла расходилась сеть трещин.
– Что вы находите здесь смешного, господин Ивлин? – с раздражением окоротил журналиста пристав.
– Простоту исполнения! – журналист аж взвизгнул от восторга. – Бесценное сокровище нашего города оказалось украдено! И каким, позвольте спросить, способом? Да проще простого! Я заметил разбитое стекло на первом этаже, прямо рядом с дверью, за колонной. Надо полагать, ни дворник, мирно проспавший всю ночь, ни городовой, которому вменяется в обязанности присматривать за порядком, делая обходы, так и не приметили до самого утра этого разбитого окна. Что ж, никем не остановленный, злоумышленник, прокрался на второй этаж по столь музыкально скрипящей лестнице, со звоном разбил стекло витрины и, вытащив все до единого золотые предметы, отбыл восвояси тем же, надо полагать, путем. Где же был, позволю себе спросить, ночной сторож? Где же был городовой? Где был дворник? Неужели никто ничего не слышал и не видел? Это же просто скандал!
– Да, удивительно, как легко оказывается организовать и провернуть кражу… – задумчиво проговорил Иван Никитич и тут же спохватился, не сказал ли лишнего. Но из всех присутствующих только Тойво посмотрел на него долгим задумчивым взглядом. Василий Никандрович медленно развернулся, сделал пару шагов и встал прямо перед журналистом. Ивлин был на полголовы выше пристава, но выглядел сейчас довольно слабо, стоя перед этим крепко сбитым, широким в кости, наделенном множеством серьезных полномочий полицейским чином. Иван Никитич зачем-то без всякого удовольствия представил себе, как пристав уверенным движением поднимает тяжелую руку и коротким точным движением бьет журналиста по лицу. Но вместо этого Василий Никандрович вдруг обернулся к стоящим чуть в стороне Ивану Никитичу и Тойво и подмигнул им. Потом он снова обернулся к журналисту и сухо уточнил:
– Так вы полагаете, господин Ивлин, что полиция бездействовала? Собираетесь поместить в «Золотоболотинском листке» сенсационное разоблачение: музей-де простоял с выбитыми стеклами до утра, а грабитель добежал уже, должно быть, до самой границы?
Ивлин слушал полицейского пристава с настороженным лицом, выражение самоуверенности слетело с него, он уже чуял здесь какой-то подвох. Василий Никандрович ещё несколько мгновений смотрел, прищурившись, на журналиста, потом развернулся и заговорил, теперь уже подчеркнуто не обращая на него внимания и вышагивая по залу:
– Окно первого этажа позади колонны, надо признать, было выбрано с умыслом: таким образом, чтобы с улицы было неприметно. Но несмотря на это, ночной сторож – вопреки предположениям господина журналиста – выполняя предписанный инструкцией ночной обход, заметил непорядок. Он ясно показал, что в два часа пополуночи все окна были целы и заперты, а в четыре утра одно стекло на первом этаже оказалось разбито. Преступник выбрал, надо понимать, самое темное время суток для своего преступления. Сторож принялся свистеть в свисток, вызывая городового, а по прибытии оного, отправил его уведомить меня, сам же в соответствии с инструкцией остался караулить на улице. Никого подозрительного он за это время не увидел. Прибыв незамедлительно и убедившись, что окно выбито таким образом, что через получившееся отверстие в музей мог бы проникнуть злоумышленник, я счел своим долгом осмотреть здание изнутри. Послали городового к Вайскопфам: их дом прямо по соседству, но ключа от музейных дверей у них не оказалось. Пришлось бежать к директору музея, а он довольно далеко живет. Времени терять не хотелось, но музейную дверь ломать не решились. Стерегли только окна: вдруг воры еще оставались в здании и попытались бы бежать. Когда городовой прибыл в сопровождении директора, мы тотчас отперли двери и, оставив городового дежурить на улице, осмотрели все залы. Мы обнаружили вот эту витрину разбитой, других следов грабежа нами обнаружено не было.
Пристав остановился на середине зала, оглядел всех присутствующих и, выдержав торжественную паузу, продолжил:
– Уведомив о похищении золотых предметов всех, кого должен был, я безотлагательно приступил к опросу свидетелей. И к тому времени, как вы, господа, проснулись и позавтракали, я уже установил личность грабителя.
– Как?! Уже?! – воскликнули хором писатель, художник и журналист.
– Задачка оказалась из простых, – лицо Василия Никандровича светилось от удовольствия. – Не забывайте, господа, что в полиции работают профессионалы. У нас наметанный глаз и присутствует некоторый опыт. Преступник, особенно вор – он, в отличие от разбойника-грабителя или от душегуба – как правило, человек слабый, трусливый…
– Нет, отчего же? Чтобы проникнуть в чужие владения определенно требуется некоторая смелость! – вскинулся Купря, но тут же прикусил себе язык.
– А вы, Иван Никитич, стало быть, полагаете, будто для того, чтобы среди ночи тайно влезть в чужой дом, требуется много мужества? – Василий Никандрович не спеша прохаживался по музейному залу, заложив руки за спину и поскрипывая на паркете до блеска начищенными сапогами. – Нет, господин писатель, отнюдь не отвага тут потребна, а глупость и недальновидность. Воры – это люди мелкого нрава, обманщики, себялюбцы.
Иван Никитич стоял, потупив глаза. Мельком взглянув в поисках поддержки на Тойво, он увидел на сдержанном спокойном лице друга легкую ухмылку.
Глава 3,
в которой появляется первый подозреваемый
На лестнице раздались торопливые шаги и взволнованные голоса, и вот уже в центральный музейный зал вошли несколько человек. Двое городовых, причем один незнакомый, видимо, присланный уже из Петербурга, удерживали за руки молодого человека, которого Купря тоже раньше никогда не видел. Вокруг них, забегая то справа, то слева возмущенно суетилась невысокая, подвижная шатенка – дама лет сорока, одетая по последней моде. Пышные выше локтя рукава её элегантного платья трепетали при каждом порывистом движении, напоминая крылья птицы, согнанной с гнезда. Тонкая талия гнулась, как камыш под порывами злого ветра. Невесомая шляпка на высоко взбитых волосах держалась просто каким-то чудом. Купря даже поймал себя на непроизвольном движении, которым хотел подхватить подвижную даму, чтобы не дать ей то ли упасть, то ли напротив взлететь к потолку.
– Амалия Витальевна, позвольте, не волнуйтесь так! – проговорил пристав таким тоном, как будто они продолжали недавно начатый разговор. Впрочем, тут же выяснилось, что так оно и было, потому что супруга отставного полковника Вайскопфа резко развернулась на своих маленьких каблучках к полицейскому приставу, гневно посмотрела на него широко распахнутыми глазами и горячо заговорила:
– Василий Никандрович, я просто не нахожу слов! Неужели кому-то пришло в голову столь нелепое предположение, будто Ипполит Григорьевич может быть в чем-то виновен! В каком свете вы заставляете его видеть Золотоболотинск! Я повторяю вам: это педагог с громким именем! Это дарование!
Иван Никитич принялся с интересом разглядывать «дарование». Это был молодой человек лет тридцати трех, может, тридцати пяти. Полноватая, рыхлая фигура, легкая сутулость и очки с тяжелыми линзами выдавали в нем человека малоподвижного образа жизни, а новый, с иголочки, впрочем, совсем не щегольской, а просто добротный костюм, позволяли думать, что молодой человек, действительно, достиг некоторых успехов на избранном им поприще. Что это за поприще было нетрудно догадаться: Амалия Вайскопф по приезде в Золотоболтинск возглавила попечительский совет города по делам образования. Под её чуткой рукой и гимназия, и училище засияли небывалым до той поры блеском. Благодаря петербургским связям, Амалия Витальевна отремонтировала учебные классы, приобрела новейшее оборудование, приглашала каждый год хороших учителей и неустанно хлопотала о том, чтобы им выплачивалось достойное содержание. Очевидно, новоприбывший Ипполит Григорьевич был одним из ее последних трофеев, молодым светилом педагогической науки, привезенным ею в Золотоболотинск. Теперь он стоял посреди музейного зала с выражением чрезвычайной растерянности на лице и, кажется, не отваживался даже оглядеться по сторонам.
– Да не держите вы его, – проворчал Василий Никандрович. – Ишь вцепились, как будто он тут куда побежит.
Городовые выпустили руки молодого человека, и они повисли вдоль его тела так, как будто больше не принадлежали ему.
– Велите подать стулья, изверг! Да принесите воды! – потребовала Амалия Витальевна.
Пристав коротко распорядился. Скоро вся компания расселась в зале вокруг разбитой витрины. Только Ивлин стоял ближе к окну, то ли, чтобы свет падал на его блокнот, в котором он уже вовсю строчил материал для будущей статьи о громком преступлении, то ли чтобы никто не мог заглянуть ему через плечо и прочесть написанное. В отличие от прочих, принявших подобающий ситуации удрученный вид, журналист выглядел радостно возбужденным: кража золотых древностей – хорошая, заметная тема.
«Глядишь, и вывезет его эта кража в столичные репортеры, – с легкой завистью отметил про себя Иван Никитич, и тут же встряхнулся: – Да ведь и я не лыком шит. Вот ведь как оно бывает в жизни. Только я загадал, что хорошо бы придумать полицейскую историю, раз нашей публике такое нравится, так вот вам, пожалуйте. Из местного музея похищено древнее золото! Смотри, Купря, смотри и запоминай. Вот тебе и готовый сюжетец! Да не мелкая провинциальная ерунда, а громкое красивое происшествие! И то сказать: изящное преступление! Теперь, право, и неловко уже вспоминать, что хотел описать кражу каких-то там запонок».
Тойво, сохраняя озабоченное выражение лица, живо включился в происходящее: он достал из кармана небольшой альбомчик, который всегда имел при себе, остро отточенный карандаш и принялся набрасывать взволнованные лица и позы собравшихся.
– Господин Купря и вы, господин Виртанен, – обратилась к ним Амалия Витальевна, – я так рада видеть вас здесь. Вы – культурные люди, не то что эти… эти служаки. Я утром уже телефонировала в Петербург, и мой муж обещал, отложив все дела, незамедлительно явиться. Но он приедет только дневным поездом. А пока, прошу вас, если обстоятельства позволяют вам, не уходите, будьте моими свидетелями, не дайте им бросить бедного учителя в застенки!
«Бедный учитель» сидел, понурившись и как будто слабо интересуясь происходящим. Заступничество госпожи Вайскопф должно было бы ободрить его, но пока производило, кажется, прямо обратное действие. Молодой педагог явно уже нарисовал самую мрачную картину своего будущего и заранее смирился с ним.
– Да полноте, Амалия Витальевна! Вам, право, не следует так переживать. Я уверен, здесь скорее всего произошла какая-то ошибка. Василий Никандрович скоро во всем разберется! – горячо заверил её Купря, обернулся за поддержкой к Тойво, но тот только молча и серьезно кивнул, перенося быстрыми штрихами угрюмый профиль учителя на лист своего альбома. Тогда Иван Никитич обратился к приставу:
– Разъясните нам, Василий Никандрович, в чем собственно обвиняют этого молодого человека?
– Да, кстати, господа, я должна вам представить, – спохватилась госпожа Вайскопф. – Это Ипполит Григорьевич Носович. Вы наверняка слышали о нем. Он признан лучшим учителем истории в прошлом году в Петербурге. Он имеет напечатанные в научных журналах статьи по педагогике и по истории нашего края. И вот, вообразите, мне удалось заручиться поддержкой попечительского совета и выписать его на целых три месяца к нам, в Золотоболотинск!
– Но позвольте, Амалия Витальевна, – перед ней выросла крепкая фигура пристава, – Разрешите поинтересоваться: разве учебный год не подходит к концу? На что нам в Золотоболотинске новый учитель, если вскорости все дети будут отпущены на отдых?
– Ах, ну какой же вы бесчеловечный человек! – воскликнула Амалия Витальевна и всплеснула руками, глядя снизу-вверх на пристава. – Во-первых, до начала вакаций есть еще достаточно времени, чтобы провести несколько показательных уроков и встреч с коллегами. Во-вторых, как я вам уже не раз повторила, господин Носович питает к нашим местам в первую очередь научный, исследовательский интерес историка. А в-третьих, это что же, по-вашему выходит, что учитель не имеет права на отдых, на лечение, а должен только трудиться, должен всего себя отдать детям без остатка?
– Нет, отчего же, можно иногда и отдохнуть, – согласился Василий Никандрович. – Но только подозрительно как-то все это выходит! Приезжает в город новый человек, а на утро – глядь! – ценности пропали. Что тут можно подумать? К слову об отдыхе. Вы позволите мне присесть, Амалия Витальевна? Я с четырех утра на ногах.
Она махнула на него рукой с зажатым в ладони кружевным платком. Жест этот скорее можно было понять, как её желание, чтобы пристав лучше вышел бы из зала вон, но он с шумом придвинул один из стульев, опустился на него прямо напротив приезжего учителя и обстоятельно заговорил:
– Так вот как оно у нас с вами получается. Молодой учитель – а нам всем достаточно хорошо известно, что учителя получают небольшое жалование – сводит полезное знакомство с провинциальной дамой…
– Что? – взвилась Амалия Витальевна. – Вы смеете называть меня провинциалкой? Да если бы не Яков Александрович, я никогда бы не уехала из Петербурга! Да я хоть сейчас могла бы вернуться в свою квартиру на Васильевском! Это я-то «провинциальная дама»?!
– Неверно выразился, приношу свои извинения, – спохватился Василий Никандрович, и Купря заметил, что его щеки даже немного порозовели от неловкости. – Имел в виду только нынешнее место вашего проживания и исполняемую вами, уважаемая госпожа Вайскопф, почетную роль попечительницы наших учебных заведений, местоположением также находящихся на некотором удалении от столичного Петербурга. Так вот, господин Носович прибыл сюда накануне, так что не был пока даже никому ещё представлен из местной интеллигенции. Не так ли, господа?
Купря и Виртанен покивали в ответ, Ивлин не отрываясь записывал что-то в блокнот. Пристав немного пришел в себя после неловкости и заговорил увереннее:
– Господин Носович никому ещё не представился, но первым делом направил свои стопы в наш музей и попросил показать ему историческую коллекцию Золотоболотинска. Об этом свидетельствуют смотритель и сторож, которые видели его вчера здесь.
– Зачем вы нам это рассказываете? – перебила Амалия Витальевна, обмахиваясь надушенным платком и всем видом выражая скуку и усталость. – Как будто нам это неизвестно. Я же сама и проводила господина Носовича в музей, и сама показывала нашу коллекцию. Могу вам дать полный отчет о вчерашнем дне моего гостя. Нет, не моего, а нашего! Ведь этот выдающийся педагог приехал не ко мне с частным визитом, а в наш город как официально приглашенное попечительским советом лицо. Так вот, если угодно, я могу вам рассказать подробно. Ипполит Григорьевич приехал вчера с утренним поездом. Время его прибытия вам, полагаю, известно. Затем он позавтракал вместе со мной в «Парадизе». Спросите там, вам любой официант подтвердит это, если вы мне не верите. Затем ему была показана нанятая для него здесь квартира на Зеленой улице. Хозяйка вам подтвердит. Уже тогда Ипполит Григорьевич выразил желание первым делом осмотреть музей. Что же в этом подозрительного, Василий Никандрович? Мы подробно обсуждали нашу историческую коллекцию в переписке на протяжении последнего полугодия. Скажу больше: интерес к золотоболотинскому кладу стал одной из причин, почему столь блистательный педагог решился на три месяца покинуть столицу и переехать к нам, в это захолустье.
Василий Никандрович многозначительно хмыкнул и поднял палец, но Амалия Витальевна в ответ только громко ахнула и махнула платочком прямо у него перед носом:
– Да что вы за человек! Какое, позвольте спросить, вы получили образование? Вы можете представить себе, что ученым, историком может двигать не меркантильный, а чистый научный интерес? Ведь наши коллекции еще толком даже не описаны. Я имею в виду не инвентарную какую-то там простую перепись, чего и сколько тут хранится, а подробное научное описание экспонатов. В особенности же конечно именно золотых предметов, ценность которых представляет прежде всего их древность и уникальность.
Амалия Витальевна оглядела всех собравшихся. Лицо её светилось возмущением.
– Ипполит Григорьевич, дорогой мой! – воскликнула она. – Ну что же вы отмалчиваетесь? Защищайтесь, в конце концов! Что же вы бросили меня одну на амбразуру этого невежества?
Носович медленно поднял голову, поправил очки и впервые со времени своего появления в музейном зале, заговорил:
– Простите, Амалия Витальевна, я несколько сбит с толку всем происходящим, – голос у него оказался на удивление тихим и мягким для учителя. – Признаться, меня ни разу в жизни не брали под арест, и я не знаю, как мне следует себя вести. Смею лишь уверить вас, что совершенно не имею никакого касательства к произошедшей краже…
Голос учителя заметно задрожал, Купре даже на мгновение показалось, что молодой человек сейчас расплачется, но тот взял себя в руки. Вместо него вдруг разрыдалась Амалия Витальевна, закрыв лицо ладонями с зажатым в них кружевным платком:
– О, Господи! Как часто я представляла себе, что Ипполит Григорьевич, с которым мы стали уже настоящими друзьями, станет рассказывать всем по возвращении в Петербург, что Золотоболотинск – это наша маленькая Швейцария, городок мечты, лишенный пороков, стремящийся к культуре и образованности. И вот… и вот извольте полюбоваться! Все мои мечты втоптаны в грязь грубым сапогом! И Якова Александровича, как на грех, нет рядом! И юный учитель будет брошен в застенки!
– Амалия Витальевна, я попросил бы вас! Эй, кто там есть, принесите воды! – Василий Никандрович вскочил и заметался по залу. Иван Никитич понял: пристав совершенно не знал, как следует вести себя с дамой высокого положения. Ему привычнее было разнимать пьяную драку в кабаке или ловить мелкого воришку на базаре. Тут же нужно было принимать какие-то совсем другие, дипломатические решения.
– Иван Никитич, прошу вас, да скажите же ей!
– В застенки! – всхлипывала Амалия. Ее плечи взлетали и опускались и вместе с ними трогательно трепетала тонкая ткань пышных рукавов и дрожали выбившиеся из-под шляпки легкие кудри.
– Да какие застенки? – вскричал Василий Никандрович. – Забирайте вы вашего педагога! Только обещайте мне, что он останется до выяснения всех обстоятельств в городе и никуда не съедет с нанятой попечительским советом квартиры.
– А вы тогда обещайте мне, что вот он… – Амалия Витальевна отняла ладони от лица, и Иван Никитич, пораженный вспышкой её чувствительности, с удивлением отметил, что лицо госпожи Вайскопф совершенно сухо после этаких бурных рыданий, и даже глаза её не покраснели. Дрожащей рукой Амалия указала на стоявшего у окна Ивлина.
– Обещайте, что вот он не посмеет опубликовать ни строчки о нашем госте в связи с этим чудовищным преступлением!
Василий Никандрович перевел тяжелый взгляд на журналиста, медленно подошел к нему, поднял увесистый кулак и поднес к самому его носу. Ивлин поморщился и двумя пальцами отвел кулак полицейского от своего лица. Затем, натянув улыбку, поклонился даме:
– Только ради вас, драгоценная Амалия Витальевна. Исключительно из уважения к вам и вашему супругу готов пока умолчать. До выяснения обстоятельств не стану упоминать ни строчкой. Но если полиция установит причастность, то тогда уж не взыщите.
– Хорошо, в таком случае – до выяснения обстоятельств – мы уходим, – неожиданно примирительным тоном проговорила госпожа Вайскопф, по-деловому засобиралась, приводя в порядок костюм и прическу, нетерпеливо протянула руку Носовичу. Тот захлопал глазами за толстыми линзами очков, неловко поднялся, но не решался двинуться с места, пока пристав не кивнул ему. Уже в дверях Амалия Витальевна обернулась:
– Господин Виртанен, и вы, господин Купря! Прошу вас, господа, не откажите, непременно приходите сегодня вечером к нам. Яков Александрович приедет дневным поездом и, наверняка, сразу отправится в полицейский участок. Его, конечно, введут в курс дела, и все же… Как представлю себе, что должна буду пересказывать весь ужас сегодняшнего дня, то просто теряю дар речи. Вы обещали быть моими свидетелями. Приходите, прошу вас, к вечернему чаю поддержать меня. Одна я этого не выдержу! И мне так хочется обсудить, что вы думаете об этом!
– Непременно, непременно будем, госпожа Вайскопф! – заверил ее Иван Никитич, а Тойво по своему обыкновению, только молча поклонился, выражая всем своим видом сочувствие и готовность прийти на помощь.
Когда шаги на лестнице стихли, Василий Никандрович рухнул на стул и закрыл глаза рукой.
– Я с четырех утра на ногах! И хоть бы кто мне чаю предложил. Так нет. А у вас вот уже есть приглашение на чай. Хорошо быть ни к какой ответственности не пристегнутым. Знай себе рисуй картинки да придумывай всякие побасенки!
Купря и Виртанен переглянулись и дружно сочли, что сейчас самое время, чтобы откланяться. Ивлин пошел следом, и Иван Никитич уже не на шутку забеспокоился, что он увяжется за ними, но выйдя из музея, журналист наспех попрощался и повернул в сторону редакции.
Глава 4,
в которой художник замечает то, чего не видят все остальные
Оказавшись на улице, где все ещё болталось несколько зевак и стоял у входа в музей городовой, Тойво с облегчением вздохнул и предложил:
– Мне, Иван Никитич, хотелось бы сейчас с тобой переговорить об этом деле до того, как мы придем на вечер к полковнику.
– Ну так пойдем в «Парадиз», выпьем по чашке кофе, да по рюмочке Шустовского коньячку. После этаких потрясений, я думаю, можно себе позволить…
– Нет, только не туда, там может быть кто-то из знакомых, – Тойво понизил голос. – Пойдем лучше в трактир, где были вчера. Навряд ли там сейчас много народу. Там можно обсудить наши наблюдения и соображения, не опасаясь, что кто-то подслушает и донесет.
– Донесет? – не понял Купря. Тойво в свою очередь с удивлением посмотрел на приятеля:
– Или ты забыл в чьем доме тебя угораздило вчера провести вечер? И откуда в тебе только такая беспечность?
– Ты прав! – спохватился Купря. – Вот ведь какое невероятное совпадение!
– Действительно, невероятное, – покачал головой Тойво, беря друга под руку и увлекая в сторону привокзальной площади. – Знаешь, вчера я никак не мог взять в толк, почему ты выбрал для своей дурной затеи дом Вайскопфа. Еще эти твои разговоры про благородных разбойников и алчных стяжателей. Яков Александрович, насколько мне известно, отнюдь не дурной человек: не злой и не жадный. Но потом я подумал… не так много состоятельных домов в нашем городке. А даже и небедные дома все в семь-десять комнат, и всегда кто-то там есть: дети, бабки, тетки, прислуга… А у полковника дом большой, народу в нем мало. И расположен он удобно, в самом центре: если увидят тебя рядом, то никто не удивится, не спросит, зачем тебя туда понесло. Словом, если бы я задумал сделать такую глупость, как ты вчера, то, пожалуй, тоже залез бы к Вайскопфу. К тому же, человек он неглупый и благородный. Может, шутку бы и не оценил, но в полицию из-за одного жилета, пусть и шелкового, вряд ли стал бы заявлять, если бы ты, скажем, все-таки попался с поличным.
– Вот ведь как ты обстоятельно рассуждаешь, – задумался Иван Никитич. – А ведь и то правда. Я-то при выборе дома исходил только из того, как туда сподручнее и незаметнее можно было бы влезть. А за домом Вайскопфа как раз подходящая местность: пустой лужок, где вечером вряд ли кого-то встретишь – да ты сам знаешь.
В трактире в этот час, как и ожидалось, было совсем малолюдно, только у двери сидели, низко склонившись над тарелками с супом два каких-то мимоезжих мужика, чья нагруженная товаром телега стояла на площади. Иван Никитич и Тойво выбрали столик в самом конце зала, взяли по тарелке щей и мясной пирог.
– Поговорить нам надо бы на трезвую голову, – строго сказал Тойво, и Иван Никитич, вздохнув, не стал спорить. Когда половой принес все заказанное, Купря, низко склонившись над столом, горячо, но как можно тише заговорил:
– Как все-таки это удачно, что Амалия Витальевна нас сегодня пригласила в гости! Как по заказу! Как раз не откладывая и подброшу назад все, что вынес у них давеча из дому.
– Только на мою помощь не рассчитывай! – сердито откликнулся Тойво, протирая салфеткой трактирную ложку и придирчиво осматривая ее, прежде чем приступить к еде. Потом они некоторое время молчали, занятые трапезой.
– А неплохие щи у них, – заметил, наконец, Иван Никитич. – Для привокзального трактира весьма недурные. Не то, что ожидаешь встретить в заведении такого пошиба, где, небось, и напитки разбавляют. Можно было бы подумать, что подадут одну воду с капустой, ан нет. Настоящие наваристые щи. Даже вот мясо со всей очевидностью есть в тарелке. За этакие деньги весьма недурно. Или это оттого, что хозяин признал нас? Может быть, незнакомым, тем, кто здесь только проездом, он что похуже предлагает, как ты думаешь?
– Я, Иван Никитич, вообще о еде столько не думаю, – отрезал Тойво. – И я даже не понимаю, почему сейчас твои мысли заняты щами, а не похищенным золотом.
– И что же ты думаешь по поводу похищенного золота? – несколько обиженно спросил Купря, отодвигая пустую тарелку и принимаясь за пирог.
– Ну, во-первых, совершенно очевидно, что арестовали они невиновного.
– Это почему ты так решил? – удивился Иван Никитич с полным ртом, дожевал и спросил снова, потому что Тойво смотрел на него удивленно и молчал:
– Почему тебе так очевидно, что это педагогическое светило не причастно к краже?
– То есть мясо в щах ты заметил, а явную несуразицу в решениях пристава – нет? – саркастически уточнил Виртанен, вытирая рот салфеткой. – Решение пристава мне вполне понятно, он должен как можно скорее отрапортовать о принятых мерах. В таком громком деле у него нет времени на размышления. Но ты-то ведь можешь держать глаза открытыми. Ты же видел разбитое окно на первом этаже музея? Стекло там не целиком выбито, а только нижняя его часть. Я сразу обратил на это внимание и подумал, что пролезть внутрь через образовавшееся отверстие мог бы только худощавый, некрупный человек. Или ребенок, скажем, подросток. Во всяком случае, человек с комплекцией этого учителя, Носовича, никак не протиснулся бы. Пролезая, он непременно задел бы оставшееся в раме стекло, и оно выпало бы из рамы.
– Нда-а, – отвечал Купря, которого неприятно удивило то, что он совершенно ничего не придумал по поводу ограбления музея, тогда как его друг сделал такие точные наблюдения. – Так знаешь что? Это ведь тогда очень даже логично получается! Этот учитель был в сговоре с кем-то из своих учеников. Ты сам сказал, что подросток вполне мог бы пролезть в разбитое окно.
Тойво обдумал этот вариант и покачал головой:
– Носович – не брат милосердия из приюта для бедных. Ученики такого уважаемого учителя, насколько я понимаю, – это дети из хороших семей. Зачем бы им идти на преступление ради учителя?
– Ну, не знаю. Может, это какой-нибудь ученик, который совершенно не успевает по учебе, или такой, которому грозило наказание за серьезный проступок. И Носович согласился закрыть глаза на этот проступок или пообещал отличные оценки в обмен на услугу и подбил мальчишку совершить кражу.
– Ты, братец, очень невысокого мнения об умственных способностях этого педагога, – хмыкнул Тойво. – Будь все так, как ты тут говоришь, Носович попал бы в вечную зависимость от шантажиста. Представь себе: иметь ученика, который и так уже плохо зарекомендовал себя, и в добавок дать ему в руки ключ к раскрытию громкого преступления. Да любые гимназические проступки будут прощены тому, кто откроет полиции или газетчикам личность злоумышленника, похитившего наш золотой клад.
– Да, пожалуй… – неохотно согласился Купря.
– И главного ты не учитываешь, – спокойно продолжал Тойво.
– Главного? Это чего же, позволь спросить?
Тойво махнул рукой половому, тот расторопно убрал со стола пустые тарелки, смахнул тряпкой крошки. На освободившейся столешнице художник развернул свой альбом с сегодняшними зарисовками.
– Посмотри внимательно на разбитую витрину.
– Смотрю, – Купря послушно склонился над рисунком.
– И что ты видишь?
– Ничего. Все украдено.
– А ты хоть примерно помнишь, что и как тут было выставлено?
– Помню ли я наше золотоболотинское золото? Да конечно же помню! Коник был с поджатыми ножками и гривой колечками. Небольшой, вершка два в длину. Широкий браслет с узором. Две серёжки, увесистые с виду, каждая составлена из узорной дуги и прицепленных к ней колечек. И монеты, которые были в витрине расположены так, будто высыпаются из глиняного кувшина, в котором их нашли. Монеты частью золотые, частью медные или из какого-то другого металла, я уж не помню. А кувшин был расколотый надвое, и с отбитым куском.
– И вывод? – Тойво старался быть терпеливым, но в его голосе явно слышались нотки удивления. Он никак не мог понять, как окружающие пропустили настолько очевидное обстоятельство.
– Ты только посмотри, Иван, я постарался зарисовать витрину точно, с учетом масштаба. Ну как – скажи ты мне! – можно через такое небольшое отверстие вытащить все эти предметы? Стекло все в трещинах, только задень его и расколется. Что это за рука такая, которая мало того, что настолько длинная и тонкая, так ещё и изгибается так хорошо, и просовывается так далеко?
– Так все-таки это был ребенок?! – воскликнул Иван Никитич. Тойво некоторое время грустно смотрел на своего друга, потом захлопнул альбом и подвел итог:
– Думай, Иван Никитич. Думай до вечера. Тебе придется обо всем этом доложить Вайскопфу.
– Если ты уже знаешь разгадку, то почему бы тебе самому не рассказать?
– Нет, уволь, – вздохнул Тойво. – Ты меня знаешь, я не лезу в чужие дела. И к Вайкопфам сегодня не пошел бы, сказался бы больным или сослался бы на охватившее меня творческое вдохновение, которое заставило забыть о времени. Я так уже делал, и не раз. Да ты знаешь. Но мне не нравится, что обвиняют этого приезжего молодого учителя. Мне он показался серьезным, честным человеком. Как представлю, что у него на душе сейчас творится!
– Так что же ты сразу-то не сказал ничего?
– Я, Иван Никитич, ты знаешь меня, хотел сначала все обдумать, убедиться, что не ошибаюсь. Кроме того, не хотел говорить при Ивлине. И врагом себе наживать полицейского пристава тоже не имею ни малейшего желания. Пусть полковник ему все эти соображения донесет, так оно солиднее будет.
– Пожалуй, ты и прав, – согласился Купря.
– Ладно, пора бы идти. Надо еще переодеться перед светским визитом, – Тойво решительно поднялся, сложил альбом и достал деньги, чтобы расплатиться. – Скажи-ка, Иван, ты бывал уже у Вайскопфов? Надеюсь, они не ждут, что я надену фрак?
– Фрак? Вот уж не представляю тебя во фраке, – хмыкнул Купря. – Дома у них я не бывал. Ой, нет, что же это я говорю? Ведь однажды побывал. Но вот только хозяев не было дома. Да ты понял, ты знаешь ведь. Как бы то ни было, я наряжаться тоже не собираюсь, просто в пиджаке пойду. Ненавижу эти церемонии. В конце концов, мы идем по делу, а не на прием.
Тойво взглянул на Купрю и напомнил заговорщицким тоном:
– Да смотри, жилет не забудь! Предвкушаю отдельное удовольствие понаблюдать за тобой этим вечером!
– И жилет, и запонки… – задумчиво покивал Иван Никитич, отсчитывая причитающиеся с него монетки.
– Запонки? Какие запонки? – не понял Тойво. – Что ты имеешь в виду?
– Да вот, брат Тойво, я же еще и коробочку с запонками полковника прихватил вчера. Сунул в карман, считай, что машинально, и забыл. Потом уже думаю: что это у меня такое в кармане?
– Ну Иван… – Тойво только махнул рукой и, в сердцах хлопнув дверью, покинул трактир.
Глава 5,
в которой герои отправляются в гости
К полковнику Вайскопфу Иван Никитич немного опоздал, потому что поругался с Лидией Прокофьевной. Она сердилась на него из-за испорченного пиджака – того самого, фланелевого, в котором Купря лазал в дом полковника. Оказалось, что он не только оборвал где-то пуговицу, но и протер рукав чуть не до дырки, да ещё и испачкал спину. Лида говорила, что пиджак этот был новый, очень приличный. Кроме того, она сокрушалась, что не знает, в чем Иван Никитич должен отправиться в гости к Вайскопфам. Наконец, сошлись на темно-сером костюме-тройке, не новом, но вполне подходящем для визита в приличный дом. Этот костюм Ивана Никитича вполне устраивал: он сразу прикинул, что под пиджаком из плотной ткани легко будет спрятать полковничий жилет, который нужно было сегодня непременно пронести обратно в дом его владельца, как и коробочку с похищенными запонками. Лида еще какое-то время переживала о том, что этот костюм слишком плотный для теплого весеннего вечера, что Ивану Никитичу в нем будет жарко и неудобно. Кроме этого, как на грех, Соня и Лиза затеяли беготню во дворе, их фигурки мелькали то тут, то там, и Иван Никитич никак не мог улучить минуту, чтобы незаметно зайти в дровяной сарай и вытащить спрятанные там жилет и запонки. Когда же это ему, наконец, удалось, то тут разволновался Самсон. Пес решил, что перекладывание дров – это веселая игра, стал лаять и напрыгивать на хозяина, выдавая всем его местоположение. Уже стоя у калитки, Купря чуть не погорел, когда Лида взялась поправлять на нем галстук и пиджак. Иван Никитич вырвался из ее заботливых рук, справедливо опасаясь, что через мгновение она обнаружит запрятанный под пиджаком чужой шелковый жилет.
Так что, когда Купря прибыл к полковнику, Тойво был уже на месте. Все собрались в гостиной. Иван Никитич с некоторым смущением и даже стыдом переступил порог этого дома, вспоминая о том, как намедни влезал сюда через окно. Однако, смущение не помешало ему с интересом разглядывать изящную обстановку комнат. Видно было, что Амалия Вайскопф уделила много внимания своему интерьеру, продумав сочетание цветов и форм. Разговор, похоже, шел как раз об этом.
– Мне очень приятно, господин Виртанен, что вы как художник отметили мой скромный модерн, – говорила хозяйка гостиной. – Я без ума от этого стиля. Старая тяжеловесная мебель буквально не давала мне дышать, так что я полностью сменила здесь все, каждую полочку и каждый стул.
Иван Никитич нашел обстановку гостиной весьма подходящей для своей задумки: в комнате было много полочек и этажерок, украшенных изящными фарфоровыми вазочками и безделушками, на креслах и стульях живописно лежали вышитые подушки – одним словом, здесь наблюдалось достаточное количество укромных мест, куда можно было бы незаметно подбросить похищенные запонки и жилет.
– Но давайте же перейдем к нашему ограблению, раз Иван Никитич уже здесь.
– К ограблению? – вздрогнул Иван Никитич, и тут же спохватился:
– Ах, да, конечно! К ограблению музея!
Тойво, не теряя времени, разложил на столе свои зарисовки, на которых была запечатлена разбитая витрина и предложил Купре и Вайскопфам сравнить их со своим старым наброском, сделанным, когда черезболотинское золото было впервые выставлено на обозрение публики.
– Сегодня днем я уже предлагал Ивану Никитичу разгадать эту загадку, – рассказывал художник. – Несоответствие, на мой взгляд, очевидное. Как можно через такое небольшое отверстие вытащить из-под хрупкого стекла, не повредив его еще больше, все эти предметы, находившиеся в том числе не только непосредственно под отверстием, но и на некотором расстоянии справа и слева от него, как вы видите на моем старом рисунке?
– И что же, Иван Никитич, вы решили эту задачу? – спросила Амалия Витальевна, которая заметно волновалась, вздыхала, сжимала на груди руки и поминутно поглядывала на своего хранившего серьезное молчание мужа. Отставной полковник Вайскопф был высоким, сухопарым мужчиной уже далеко за пятьдесят, со скупыми уверенными движениями человека, привыкшего отдавать приказы. Выправка и подчеркнутая аккуратность с первого взгляда выдавали в нем бывшего военного. Он был значительно старше своей жены и выше её на голову, что еще больше подчеркивало различие в их возрасте и характерах. Иван Никитич вздохнул, развел руками и сказал:
– Господин Виртанен, оценивая отверстие взглядом художника, уверяет, что злоумышленник должен был обладать нечеловечески тонкой и длинной рукой, чтобы выудить все золотые предметы, не разбив стекла ещё больше, чем оно было разбито так, как он зарисовал сегодня. Мне в связи с этим вспомнился рассказ одного английского писателя по фамилии По. Да, вот такая необычная фамилия. А тот его рассказ – это довольно жуткая история о загадочном убийстве, совершенном в Париже, где убитая женщина оказалась спрятанной в дымоходе.
– О Господи, спаси и сохрани! – ахнула госпожа Вайскопф, широко распахнула глаза и прижала руки к груди.
– Ах нет, не тревожьтесь, любезная Амалия Витальевна, ничего такого на самом деле не происходило, это всего лишь вымышленная история, – Иван Никитич беспечно махнул рукой и пояснил:
– С точки зрения построения сюжета этот рассказ примечателен тем, что в нем писатель решил показать нам нить логических рассуждений, которая приводит героев к раскрытию преступления. Для того времени это было ново, хотя теперь-то многие авторы пользуются этим приемом. Рассказ был написан, думается, более полувека назад. Впрочем, я должен попросить прощения: вам, должно быть, вся эта писательская кухня неинтересна. Так что вернемся к сюжету. В том рассказе один из главных героев обладает большой начитанностью и свежестью воображения, что позволяет ему по незначительным приметам выстраивать цепь верных умозаключений.
– Так героям все же удается изобличить преступника? – полковник прервал, наконец, свое молчание, чтобы вернуть Ивана Никитича к золотоболотинскому происшествию. – И тут кроется, по вашему мнению, некая подсказка к нашему делу?
– Ну конечно же, в финале преступление оказывается раскрыто! В противном случае рассказ не имел бы успеха. Разум торжествует, причем полиция оказывается не у дел. Развязка этой истории совершенно непредсказуемая. Как вы думаете, кто оказался убийцей? – Иван Никитич не на шутку увлекся литературной аналогией. – Этот некто, обладавший нечеловеческой силой и ловкостью, оказался и в самом деле вовсе не человеком! Вообразите, убийцей была гигантская обезьяна, орангутанг!
– Позвольте, но откуда же в Париже взялась гигантская африканская обезьяна? – засомневалась Амалия Витальевна и вдруг порывисто обратилась к мужу. – Яков Александрович, дорогой, обещай мне, что когда эта ужасная история с кражей золота закончится, мы непременно на пару недель поедем в Париж! И остановимся опять в том отеле. Ты помнишь?..
Полковник Вайскопф отвлекся от рассматривания зарисовок Виртанена, посмотрел на жену и улыбнулся неожиданно теплой и ласковой улыбкой, совершенно преобразившей его строгое лицо. Глядя на них, Иван Никитич вдруг понял, что эти двое сейчас на несколько мгновений совершенно забыли о разбитой витрине, золоте, полицейском расследовании…
«Как мило, – подумал Иван Никитич. – Они, похоже, все еще влюблены друг в друга».
– А гигантская обезьяна, насколько я помню, в том рассказе сбежала от моряка, прибывшего в город как раз накануне злодеяния, – припомнил он. – Он привез ее в Париж в надежде выгодно продать, да только получил от нее одни неприятности.
– Писательская фантазия неистощима, как и твои познания в этой области, Иван Никитич! – сухо заметил Тойво. – Уж не предполагаешь ли ты участие цирковых обезьян или каких других зверей в ограблении нашего Болотинского музея?
– Не ты ли сам предположил, что человеческая рука такой длинной и тонкой быть не может? – обиделся Купря.
– Так, может быть, злоумышленник использовал какой-то инструмент, какой-нибудь крючок? – предположил Яков Александрович.
– Все это представляется мне слишком сложным, – покачал головой Тойво. – Вор и так разбил витрину. Почему было не ударить по ней ещё раз, сделав отверстие более удобным и не ускорить тем самым весь процесс? Он ведь должен был поминутно ждать, что разбитое внизу окно обнаружат и кинутся выяснять, что случилось.
– Что ж, – подытожил полковник. – Если воришка не воспользовался помощью дрессированной обезьяны и не имел при себе хитроумного приспособления для выуживания золотых вещиц из-под стекла, то у нас, пожалуй, остается только одно, причем самое простое объяснение.
Все посмотрели на Якова Александровича, а он, словно выдерживая театральную паузу, ещё раз внимательно изучил разложенные на столе рисунки Виртанена.
– Нам остается только заключить, что у вора был ключ от витрины, – подытожил он, наконец.
– Как был ключ? – не поверила Амалия Витальевна.
– Он отпер витрину, достал золотые предметы, потом снова запер её и уже только потом разбил стекло.
– Но зачем было бить стекло после кражи? – не понял Купря.
– Преступник, видимо, хотел отвести от себя подозрение, – подал голос Тойво, который, очевидно, уже давно пришел к тому же выводу, что и Яков Александрович.
– Ах как хитро задумано! – восхитился Иван Никитич, и не удержался, полез в карман за блокнотом, чтобы записать весь ход рассуждений. Но в кармане его пальцы наткнулись на коробочку с запонками, которые предстояло каким-то образом подбросить Вайскопфам, и настроение его мигом испортилось. Он тут же ощутил припрятанный под пиджаком туго свернутый жилет, о котором на время совершенно забыл, и стал беспокоиться о том, не слишком ли заметно, что он что-то прячет, и как бы поскорее провернуть всю эту историю с возвратом вещей полковнику.
– Остается выяснить, кто имел доступ к ключам от витрины с золотом. Насколько я помню, таких ключей было сделано всего три, – продолжал рассуждать Яков Александрович. – Первый, само собой, хранится у меня. Ещё один ключ есть у директора музея, Романа Гавриловича Морозова. А третий был, кажется, в распоряжении смотрителя.
– Ах, это все так неприятно и так утомительно, – вздохнула Амалия Витальевна. – Пойдемте, господа, лучше чай пить!
– Да-да, прошу вас пройти в столовую, – подхватил Яков Александрович. – Вы не поверите, но у нас есть сегодня рассказ об еще одном загадочном происшествии.
Тойво бросил быстрый взгляд на Купрю, и тот понял: его друг догадывается, каким неудобным и тяжелым грузом были припрятанный под пиджаком жилет и лежавшая в кармане коробочка с запонками. Им двоим со всей очевидностью было известно, о каком «загадочном происшествии» сейчас пойдет речь. Иван Никитич сделал вид, что замешкался, изучая разложенные на столе рисунки Виртанена. Всего-то и нужно было чуть отстать от хозяев дома и остаться в комнате одному хоть на минуту. Он уже присмотрел изящное кресло, стоявшее по пути к двери. Жилет можно было запихнуть под разложенные на нем подушки, покрытые вышитыми ирисами, туда же бросить и запонки. Но Яков Александрович как на грех оказался очень любезным хозяином. Терпеливо улыбаясь, он стоял, заботливо придерживая дверь для замешкавшегося гостя.
– Прошу вас, Иван Никитич, уверен, вы не откажетесь немного закусить. Я успел на обратном пути из Петербурга зайти к «Жоржу Борману». Впрочем, стоит признать, что я при любой оказии захожу к нему на Невский: Амалия обожает его конфеты. Я и сегодня привез кое-что к столу. Таких бисквитов в нашем Золотоболотинске не купишь.
В столовой уже было накрыто, но, как ни странно, вид бисквитов, конфет и пастилы ничуть не поднял настроение Ивану Никитичу, что было на него совершенно не похоже. На вопросительный взгляд Тойво он только понуро опустил голову.
– Вообразите себе, что ещё приключилось вчера, – заговорила Амалия Витальевна, едва дождавшись, когда все рассядутся за столом. – Это просто что-то невероятное, видимо, на небе в ту ночь каким-то особым образом сошлись звезды. В это с трудом можно поверить, но ведь и нас вчера чуть не ограбили!
– Как?! Вас?! – с чувством воскликнул Иван Никитич.
– Не может быть, – серьезно проговорил Тойво, глядя при этом не на взволнованную хозяйку дома, а исключительно на Купрю.
– История вышла, надо сказать, какая-то нелепая. Вчера, как вы знаете, Яков Александрович был в Петербурге, а я поехала слушать этого итальянца. Кстати, голос у него слабоват, я бы сказала. В большом зале он бы совсем потерялся, но для нас тут, в нашей провинции, это хоть какое-то развлечение, – Амалия с упреком взглянула на мужа и продолжала:
– Так вот, дом оставался на пару часов совсем пуст. Горничная отпросилась навестить свою родню, Степан был со мной, точнее, при экипаже, а Федор – с Яковом Александровичем. Кухарка не в счет, она ночует при кухне и не бывает в этой части дома. И вот, видимо, прознав об этом, вор и влез к нам. Мы не сразу это обнаружили, а только уже по утру. Воришка пролез в окно комнаты, где моя Авдотья обычно приводит в порядок одежду: гладит, чинит.
Яков Александрович вдруг порывисто поднялся на ноги.
– Простите меня, господа, но я совершенно внезапно подумал, что… я должен сейчас же незамедлительно отлучиться буквально на минуту и проверить одно обстоятельство!
Он стремительно покинул комнату. Над столом повисло недоуменное молчание, гостям оставалось только обмениваться растерянными улыбками с хозяйкой дома. Полковник, впрочем, действительно, скоро вернулся и объявил:
– Простите меня, господа, и ты, Амалия! Сейчас, когда мы заговорили об этом курьезном ночном происшествии в моем доме, я вдруг связал его с кражей в музее. Что если это не было простым совпадением? Что если наш вчерашний воришка залезал сюда для того, чтобы взять ключи от музея? Ведь теперь мы логическим путем установили, что музейный вор воспользовался ключом от витрины. Выходит, он мог к нам как раз за ним и приходить. Мне просто раньше такое и в голову не приходило. Да я, признаться, почти и не вспоминал до сегодняшнего дня, что этот ключ хранится у меня.
– И что же? Ваш ключ на месте? – спросил Тойво, бросив очередной странный взгляд на Ивана Никитича. Тот только с непониманием поднял брови. Не думает же Виртанен, что он, Купря, причастен еще и к ограблению музея?
– Слава Богу, все в порядке, – доложил полковник. – Я проверил сейчас. Ключ на месте, в запертом ящике письменного стола. Я положил его туда несколько лет назад и, кажется, с тех пор так ни разу им и не воспользовался.
– Ах, Яшенька, ты меня так напугал! – Амалия принялась обмахиваться платочком, распространяя над столом тонкий запах духов.
– Прости, душа моя, я не хотел тебя волновать, – Яков Александрович посмотрел на жену взглядом, полным раскаяния и, протянув руку через стол, пожал ее ладонь.
«Да, похоже, они по-настоящему любят друг друга! – снова невольно отметил про себя Иван Никитич. – Вот бы не подумал. Всегда считал, что он сухарь, а она пустышка. Да нет, стыдно было так думать о малознакомых людях. Недаром, все-таки они пользуются уважением в городе!»
– Теперь я уже не в состоянии говорить дальше. Пусть Авдотья сама расскажет. Дуня! – позвала хозяйка. – Да где она? Дуня! Из уст свидетельницы рассказ живее получится. Боже мой, как это все, однако, неприятно!
Прислуга тут же явилась. Это была совсем молодая девушка, почти ребенок. Иван Никитич нашел, что она вырастет, вероятно, в довольно миловидную девицу, разве что глаза были посажены слишком близко и как будто слегка бегали. Впрочем, подумал Купря, Амалия Витальевна была, очевидно, вздорной и переменчивой в своих решениях хозяйкой, так что слуги при ней не знали, чего ожидать, и нервничали.
– Дуня, расскажи-ка господам, как ты обнаружила, что к нам в дом наведался воришка! – потребовала Амалия Витальевна. Иван Никитич застыл на своем стуле, потом поспешно схватил чашку и постарался спрятаться за ней.
– Про воришку-то? Извольте, барыня! Да вот, как я и говорила вам давеча, – охотно заговорила девушка, – я утром вошла в бельевую комнату, глядь, а на полу, прям посередке, мешок лежит. Мешок не нашинский, у нас такого я отродясь не видала. И из него вещи торчат. Как будто похватал кто, а потом бросил. Окно настежь. А вокруг на полу натоптано. Видно, что ходил кто-то в грязной обуви, землей напачкано. Так-то у меня полы всегда чисто вымыты, а тут вдруг смотрю: кто-то грязи нанес. И шкаф открытый стоял. Я-то сначала не подумала, что разбойник этот мог там прятаться. Это я потом уже поняла, что он мог в шкафу-то сидеть и выскочить на меня, как я вошла. Уж я бы тогда ему показала! Не ушел бы так!
– Ишь смелая какая! – удивился Яков Александрович.
– А что ж? Я такая! Я в обиду себя не дам! – девица дерзко вскинула голову. – Да только его, видать, раньше спугнули. Убег, почти ничего с собой и не успел прихватить.
– Так он все-таки что-то вынес из дома? – уточнил Тойво. Иван Никитич посмотрел на него поверх чашки умоляющим взглядом.
– Успел-таки, да, – рассказала Дуня. – У меня там на столе лежали хозяйские запонки и заколка для волос. Я их почистить вечером взяла, да решила, что лучше утром сделаю, чтобы лектрический свет зазря не жечь. А утром не успела, так вот они там и лежали: заколка для волос и запонки. Вот их он и взял.
– Заколку для волос? – не поверил Иван Никитич.
– Ну да, барынина штучка. Такая красивая: длинненькая с цветочком из красненьких камушков, – подтвердила Дуня. – А запонки синенькие такие, кругленькие, с нерусскими буковками. Они в коробочке лежали, так он прямо с коробочкой и взял, вор-то. И ещё унес барынину ночную сорочку, красивую, кружевную. Там на плече маленькая прореха была, я зашить взяла. А сейчас смотрю – нет сорочки.
Иван Никитич в недоумении смотрел на Дуню.
– Так значит, он украл кружевную сорочку, запонки в коробочке и заколку для волос? Какой странный выбор! – подвел итог Тойво. Голос его звучал ровно, и Иван Никитич никак не мог понять по его лицу, что он думает обо всем этом.
– Жаль мне этих запонок, – вздохнул Яков Александрович. – Их мне Амалия дарила на первую годовщину нашей помолвки. Памятная вещица. А остальное – ерунда. Воришка, видимо, был какой-то случайный, неопытный и трусливый. Похватал, что под руку попалось, без разбора. Думаю, он увидел открытое окно и влез. Я ведь не раз говорил, Авдотья, чтоб окна на той стороне дома держала закрытыми.
– А оно и было закрыто, окно-то, – ответила девушка, ни на минуту не засомневавшись. – Я проверяла! Я всякий раз, как уйти из дома, обязательно все окна проверяю. Особливо на той стороне, где они на болото смотрят.
– Так как же он тогда влез? – не сдержался Иван Никитич.
– А мне почем знать? Видно, подцепил чем-то раму, открыл и влез. Там под окном вся клумба истоптана. Этот черт почитай все нарциссы переломал, что были у нас там высажены, а они ведь только зацвели. И вот еще что, – она вытащила из кармана передника медную пуговицу и положила на стол перед Амалией Витальевной. Купря похолодел. Это была та самая, хорошо знакомая ему пуговица от пиджака. Его догадка подтвердилась наихудшим образом: он оборвал пуговицу, когда лез к Вайскопфам в окно. На минуту ему показалось, что хозяева дома тут же все поняли, что эта улика сразу с головой выдает его участие в этом деле.
– Я, барыня, проверила, не нашинская это пуговица, – отчиталась горничная. – Нету ни на какой одеже таких. Евонная эта пуговица, разбойника этого.
– Дуня! – перебила ее Амалия Витальевна. – Ты знаешь ли, Дуня, кто сейчас перед тобой сидит? Это Иван Никитич Купря.
Иван Никитич понял, что совершенно пропал.
– Он известный писатель, – продолжала наставительно госпожа Вайскопф. – Его произведения в Петербурге печатают. А ты так слова коверкаешь. Стыдись! И когда, Дуня, я только тебя научу правильно говорить! Нужно говорить не «одежа», а «одежда». Не «евонная», а «его». Не «нашинская», а «наша». Ей-Богу, перед господами неудобно.
Дуня обиженно поджала губы, но тут же сделала книксен и извинилась.
– А пуговицу эту, если она, как ты уверяешь, не «нашинская», завтра же с утра отнеси в участок, – велел Яков Александрович и, обернувшись к обомлевшему от страха писателю, весело предложил:
– Вот вам и поучительный сюжет для рассказа, любезный Иван Никитич: воришка влезает в богатый особняк, но, испугавшись рано вернувшейся хозяйки, бежит не солоно хлебавши, испортив собственную одежду. Я ведь, господа, осмотрел задний двор. Этот разбойник выломал две доски в заборе и изрядно натоптал в саду. Сдается мне, воришка был не только неудачлив, но и довольно неловок. Там столько следов осталось, что будь я из сыскного отделения, то, верно, без труда поймал бы его.
– Так вы еще не заявляли в полицию? – уточнил Купря и закашлялся.
«Авось пронесет, – решил он. – Разве можно человека по одной пуговке узнать? Да и кто на меня, на знаменитого писателя, подумает!»
Амалия Витальевна только отмахнулась:
– Ну что вы, дорогой Иван Никитич! Станем ли мы отвлекать наших доблестных полицейских по такому мелкому поводу, когда в городе, в нашем музее произошла кража века! Ну что ты стоишь, Дуня? Поди уже! – развернулась она к горничной. Дуня подошла, чтобы забрать пуговицу и проговорила упрямо:
– А вот зря вы, барин, говорите, что мол это барыня его спугнула, когда возвернулась с концерта.
– А кто же, по-твоему, это был? – Вайскопф насмешливо поднял бровь.
– А я вот и господину писателю скажу, – Дуня исподлобья посмотрела на Купрю и выпалила:
– Знамо дело, чего он испужался. Окна-то эти куда выходят? Тот-то же, на болото! А дело вечером было. Вот он там и увидел.
– Да что увидел-то? – Ивану Никитичу было не по себе под ее пристальным взглядом.
– А то вы небось не знаете, кто там по болоту ходит? – шепотом ответила Дуня. – Болотницу он увидел или огоньки ее – дело-то к ночи было – вот и побежал, себя не помня, так, что аж пуговицы в стороны полетели.
Яков Александрович звучно расхохотался, а Иван Никитич вздрогнул.
– Ступай, Дуня, ступай, – замахала на неё руками Амалия Витальевна. – Не позорь меня своими глупостями перед образованными гостями!
– Вот вам сюжетец из провинциальной жизни, дорогой наш Иван Никитич! Незадачливый воришка испугался кикиморы болотной. – Вайскопф подкрутил усы и добавил: – А запонок все-таки мне жаль!
– Ах, господа, как я вам благодарна, что вы не бросили меня одну в вихре этих ужасных событий! – воскликнула Амалия Витальевна, подкладывая на тарелки гостям золотистые кусочки свежайшего бисквита. – Ума не приложу, как быть дальше. Мне бы самой так не хотелось иметь дело с этим служакой, который сегодня был в музее. Этот пристав мне показался так груб, так недалек. Нужно приглядывать за ним. И ведь у Якова Александровича тоже совершенно нет времени заниматься всем этим сейчас. Я вам открою один секрет, только обещайте до поры особенно никому не говорить.
Иван Никитич вынырнул из своих мыслей. Как, еще один секрет? Неужели им не хватило еще секретов на сегодня?
– Дело в том, что к нашей дочери посватался один достойный молодой человек. Это хорошая партия, и Яков Александрович должен сейчас решать множество вопросов по поводу будущности нашей девочки, имущества, приданого и прочего, что надо урегулировать в таких случаях. Он вынужден больше времени проводить в нашей старой квартире в Петербурге, где уже некоторое время живут наши сын и дочь. Там, конечно, с ними моя сестра, но она совершенно не умеет вести дела. Так что за событиями здесь и – как это правильно называется? – за ходом расследования придется следить мне. Нельзя же поручить такое деликатное дело этому нашему, как его там? Василию Никандровичу. Вы сами видели, что он творит: хватает первого попавшегося и обвиняет без всякого повода. Я так надеюсь, что вы не бросите меня одну, господа! И что же станется теперь с похищенным золотом? Оно, должно быть, уже переправлено заграницу. И как это вы ловко вычислили, что витрина все же была открыта ключом! Теперь-то уж точно можно снять все обвинения с бедного господина Носовича. Ну откуда у приезжего мог быть этот ключ?
Иван Никитич уже совсем перестал слушать хозяйку дома. Он полностью сосредоточился на размышлениях о том, что сказала горничная. Откуда, скажите на милость, она взяла, что была украдена еще и какая-то заколка? Наверняка, этакая безделица просто-напросто завалилась куда-нибудь. Скорее всего, она все еще лежит на прежнем месте под ворохом белья. И ночную сорочку он не брал! Точнее, в руках что-то похожее, кружевное, женское он тогда, вроде бы, держал, но ведь не выносил из дома. А про шелковый жилет полковника Дуня и вовсе почему-то ничего не сказала. Не заметила пропажи? А запонки, стало быть, памятные. Эх, как бы половчее подкинуть их? А может, прямо сейчас обронить незаметно под столом? Купря опустил руку в карман. Нет, здесь нельзя, слишком очевидно будет. Да и услышат, как коробочка об пол стукнется.
– Ведь вы согласны, Иван Никитич? – хозяйка коснулась легкой ладонью его рукава.
– Как вы говорите? – встрепенулся он.
– Вы согласны?
Купря растерянно взглянул на Тойво, тот молча поднял брови, не давая никакой подсказки.
– Конечно, Амалия Витальевна, как пожелаете! – с готовностью согласился неизвестно с чем Иван Никитич.
– Вот видишь, Яшенька, я знала, что Иван Никитич мне не откажет. Он умеет найти подход к людям, и к этому приставу, наверняка, тоже сумеет. Иван Никитич, вы обещаете мне поговорить с ним?
– Поговорить с Василием Никандровичем? Непременно поговорю! – пообещал Купря.
Светский разговор крутился так или иначе то вокруг совершенной в музее кражи, то вокруг залезшего в дом воришки, то вокруг предстоящего венчания дочери Вайскопфов. Наконец, пришло время откланяться. Иван Никитич совсем отчаялся избавиться от полковничьего жилета, но коробочку с запонками нужно было непременно успеть подложить, подбросить, обронить – любым способом оставить в этом доме. Иван Никитич опустил руку в карман пиджака и сжал коробочку в кулаке. Визит подходил к концу, так что сейчас нельзя было упустить малейший шанс. Амалия Витальевна порхнула к нему и подхватила под руку – как раз под ту, что сжимала проклятую коробочку.
– Ах, Иван Никитич, дорогой мой, не забудьте о моей просьбе поговорить с Василием Никандровичем. Сделайте, как я прошу: упомяните нашего воришку будто случайно, вскользь. Представьте только, если это все-таки окажется как-то связано с ограблением музея! Вдруг он все-таки умудрился похитить ключ, а потом каким-то образом потихоньку подкинул его обратно.
– Так вы хотите, чтобы я с Василием Никандровичем поговорил об… об том… про то, как к вам в дом влезли?
– Да вы меня как будто не слушали?
– Должно быть, отвлекся самую малость, – пришлось признать Купре.
– Не вините себя, голубчик, – великодушно простила его Амалия Витальевна. – Мы все сейчас несколько выбиты из седла. Или как это говорится? Ах, вы не представляете себе, как хочется все это бросить и махнуть в Париж хоть на недельку!
– Отчего же не представляю, очень даже… И я бы не против был махнуть на недельку в Париж! – мямлил в ответ Купря, сжимая в ладони коробочку с запонками и умоляя Амалию про себя: «Да отпусти же ты меня хоть на минуту. Мне и этого хватит. Вот рядом какая удобная этажерочка стоит. Я бы мигом. Долго ли? Раз и положил на полку». Но любезная хозяйка уцепила другой рукой Виртанена и снова заговорила, как ей повезло найти таких отзывчивых и верных помощников.
Когда вышли из ворот полковничьего дома, Купря почувствовал, что все силы оставил в этом доме.
– Как они гостеприимны, – заметил Тойво. – Я впервые так тесно с ними общался. Раньше мы с полковником говорили только немного, мельком. Хотя я с ним познакомился еще несколько лет назад, когда здесь велись археологические раскопки. Он тогда часто на наших курганах появлялся, и я иногда захаживал полюбопытствовать и зарисовать что-нибудь. И Амалия Витальевна весьма мила. Такая непосредственная. И ни капли заносчивости, ты не находишь?
– Ох, Тойво, я так вымотался. Сейчас, честно говоря, хорошо бы нам здоровье поправить. Пойдем, умоляю тебя, в «Парадиз». Я так наелся этих бисквитов, что в горле совсем пересохло.
– Что с тобой поделаешь, пойдем, – согласился Тойво, который пребывал в весьма приятном расположении духа. – Но, пожалуй, только потому, что хочу услышать от тебя кое-что.
Ресторан «Парадиз» открылся в Золотоболотинске недавно, и все здесь сияло новизной. Хозяева не жалели новомодного электрического освещения, круглые столики витали над светлым мраморным полом на изящных ножках, но посетителей в этот поздний час почти не было. Друзья выбрали укромный стол в дальнем углу зала и заказали коньяку.
– Ты признал свою пуговицу? – весело спросил Тойво. Иван Никитич только махнул рукой:
– А, может быть, это и не моя пуговица вовсе! Мало ли таких! Пиджак-то был новый, а пуговки нашиты были самые обычные, недорогие. И вообще, как можно человека найти по одной пуговке?
– А почему эта их горничная говорила ещё о какой-то булавке или заколке? Признавайся, сколько предметов ты успел сунуть в карман и забыть? И что еще за кружевная ночная сорочка? Припомни-ка хорошенько, может, ты что-то еще взял?
– Нет, Тойво, конечно, нет! – воскликнул Купря, испуганно огляделся и зашептал:
– Это, знаешь ли, было очень странно – то, что говорила эта девица. Я не видел никакой булавки! Какие-то дамские кружева там были, я даже держал их в руках, но клянусь тебе, что не брал! Я даже не понял, что это за предмет одежды такой: весь прозрачный и в дырочку. У моей жены такого нету. Но знаешь, что мне пришло в голову с связи со всем этим? Ты помнишь, эта их горничная была совершенно уверена, что все окна в доме были закрыты, и что она проверила это перед уходом. Я же попал в дом через открытое окно. Не значит ли это, что в доме мог побывать еще кто-то до меня? Да, я теперь совершенно в этом уверен!
– Возможно. Постой, а что с запонками? Тебе удалось оставить их у Вайскопфов?
Иван Никитич в отчаянии уронил голову на руки.
– Послушай-ка, Иван Никитич, не падай духом. Это даже хорошо, что Амалия Витальевна просит нас помочь ей и не бросать это дело на самотек. Отправляйся завтра в участок, расскажи, что нужно искать тех, у кого был ключ от музейной витрины с золотом. Упомяни и то, что к Вайскопфам тем вечером влезли, да скажи непременно, что они не хотят затевать следствия. Поверь мне, полиция сейчас все силы бросит на расследование кражи в музее. Никто не захочет искать ночную сорочку. Но ты зато потом у Амалии заберешь свою пуговицу. Скажешь, что она якобы для следствия понадобилась как улика. Никому не придет в голову тебя заподозрить. Надо только поскорее избавиться от жилета и запонок.
– Эта их горничная про жилет даже не упомянула! Ты заметил? – зашептал в ответ Купря.
– Ну так и брось его где-нибудь в мусор или оставь в трактире. А запонки все же верни. Или знаешь лучше что? Отнеси их завтра в полицию и скажи, что нашел на улице и сразу вспомнил рассказ полковника.
– Ой, нет, на это я не решусь. Как-то слишком неестественно будет, неправдоподобно, – замотал головой Иван Никитич.
– Что ж, ты писатель, тебе виднее, – проговорил Тойво. – И знаешь ещё что, Иван, прошу тебя, не упоминай меня в участке. Ты знаешь, я не люблю впутываться в чужие дела. Сошлись на полковника, скажи, что это он догадался по поводу витрины и ключей. Ему больше поверят, чем финскому художнику.
– Постой-ка, а ты разве не пойдешь со мной в полицейский участок?
– Да ты, Иван Никитич, и правда, совсем не слушал, что говорили за столом, – упрекнул Тойво. – Мне ведь Амалия Витальевна дала другое поручение. Я завтра утром отправлюсь к ложно обвиненному Носовичу. Надо его подбодрить, да и развлечь. Я покажу ему город, а следующим вечером все – Носович, Вайскопфы и ты, мой дорогой друг, вместе с Лидией Прокофьевной – приглашены ко мне в гости.
– Вот почему тебе, Тойво, достались такие приятные обязанности: гулять и принимать гостей, а мне завтра потеть в полицейском участке?
– Что ж, зато можешь утешаться тем, что в полицию ты пойдешь не как мелкий воришка – по словам Вайскопфа выходит, что неловкий и неудачливый – а все-таки как почетный горожанин, желающий посодействовать следствию. А потом, глядишь, и напишешь на основании своих впечатлений недурную повесть для Свирина, – подбодрил друга Тойво. По его голосу было слышно, как все это его забавляет.
– Экая все же запутанная история получается!
Глава 6,
из которой мы узнаем, что думает кухарка и кого еще арестовал пристав
На утро Иван Никитич велел подать на завтрак яичницу и сам отправился с Маланьей в курятник. Он любил своих птиц, многих из которых самолично приобрел, да не просто на рынке, а по объявлению, выбирая породистых, необычных кур. Ему нравилась их веселая суета и жизнерадостное квохтанье. Курочки были у Ивана Никитича разнообразные: с хохолками и без, с обычными и с оперенными ножками, крупные и поменьше, белые и пестрые.
– Что-то есть в этом жизнеутверждающее, вы не находите? – любил он спрашивать гостей, забавляясь тем, как непривычные к деревенскому хозяйству городские жители дивятся, а иногда даже пугаются выпущенных свободно гулять по участку кур.
Пока Маланья собирала в корзинку свежие яйца, Купря с удовольствием поднял на руки пеструю орловскую несушку и стал гладить её прохладные шелковые перья. Птица доверчиво взглядывала на человека янтарным глазиком, поворачивала голову то так, то этак, как будто чувствовала, что хозяин ею любуется.
– Да знаешь что, Маланья, добавь ещё в яичницу свежего лучка, – наставлял Купря кухарку. – Я видел, там на грядке у дома он уже вовсю взошел.
– Я-то, барин, добавлю. Как скажете, так и сделаю. Да вот только Соня с Лизонькой есть лук не станут, – отвечала кухарка, решительно отгоняя недовольного вторжением в загон петуха. – Вы как будто не знаете, что они лука не любят.
– А ты сделай сразу на двух сковородах, – придумал Иван Никитич. – Одну с луком, а другую на молоке. Молоко-то принесли сегодня?
– Молоко-то принесли, а вот муки совсем не осталось. Мне бы за мукой надо в лавку сходить.
– А что же ты вчера не купила? Мне Лидия Прокофьевна говорила, что вчера тебе полтора рубля давала и ты ходила за покупками.
– Так то ж я разве за мукой ходила? Постного масла барыня велела принести, это на 27 копеек, да фунт сливочного на 30, а еще сахару надобно было купить. Спросите вон у Лидии Прокофьевны, она сама видит, что в хозяйстве нужно, и цены знает. А то вы так говорите, как будто я сама этот сахар ем.
– Да что ты, Маланья, опять придумываешь, лишь бы поворчать. Ни про какой сахар сейчас и речи не было! Ты скажи-ка лучше, что на рынке слышно про ограбление музея? Не говорят ли в городе чего об этом происшествии? – поинтересовался Купря.
– Как же не говорят? – с готовностью откликнулась Маланья. – Только про это все и говорят!
– Правда? И что же люди думают по этому поводу?
– Да ясное дело, – Маланья выпрямилась, решительным жестом оправила складки ткани на широкой груди, подбоченилась и припечатала:
– Это Яшка Васьков золото украл!
– Какой Яшка Васьков? Кто это еще такой?
– А вы будто не знаете! Тот, у которого дом рядом с музеем стоит. Вы же сами вчера к нему в гости ходили, а теперь прикидываетесь, будто не знаете.
– Это Яков Вайскопф что ли? Да что за околесицу ты несешь, Маланья? Даже фамилию правильно понять не умеешь, но зато с обвинениями-то как торопишься! – Купря от удивления выпустил несушку из рук. Она испугалась, шумно захлопала крыльями, слетая на землю и суетливо побежала к остальным птицам.
– Знамо дело: он золото украл. Он и его Амалька. Он-то в музее почитай за хозяина. Что захочет там, то и возьмет, ему никто и слова не скажет.
– Да зачем ему это, ты подумай! Неужели так о нем говорят? Вот ведь неблагодарный народишко! Это ведь Вайскопфы добились того, чтобы золото в городе осталось, чтоб его в столицу не увезли. Он самолично здесь музей открыл. Он о новом названии для города перед самим государем императором хлопотал. Так бы и жили мы в Черезболотинске, если бы не полковник. А теперь мы на всю державу знаменитый Золотболотинск. И это все его заслуга!
