Конечная стоимость
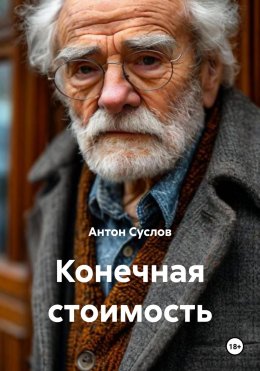
Пролог
«И сказал Бухгалтер своей Душе: давай сведем конечный баланс. Но Душа молчала, ибо не ведала ни дебета, ни кредита».
Сегодня утром я высчитал стоимость своего дыхания.
Лежа в кровати, я прислушался к ритму: вдох-выдох. Ровно пятнадцать циклов в минуту. Я представил, что мое тело – это небольшое, но требовательное предприятие. Аренда помещения – это плата за квартиру, коммунальные услуги – содержание организма. А дыхание – это базовый технологический процесс, поддерживающий жизнедеятельность завода.
Каждый вдох требует энергии. Значит, имеет себестоимость. Я мысленно разделил стоимость минимальной продуктовой корзины и коммунальных платежей за месяц на количество минут в нем. Получилась ничтожная, но вполне осязаемая цифра. Каждая минута моего существования имеет цену. И с каждым днем эта цена, эта амортизация, кажется мне все менее оправданной. Доходность стремится к нулю.
Мир за окном давно превратился в сводку экономических новостей, которые я больше не комментирую. Улица – это биржа, где торгуются возможности. Молодые люди с кофе в руках – это стартапы, полные первичных публичных предложений (IPO) своей энергии. Старушки на лавочке – это консервативные инвесторы, доживающие свой век на скромные дивиденды от прошлых лет.
А я? Я – тихая, никому не интересная компания, чьи акции давно исключили из листинга. Активы – старые книги, потертый диван, да пачка писем от бывших коллег, которые теперь стали макроэкономическими показателями где-то в других, успешных мирах. Пассивы… Пассивы – это мои дни. Их ограниченное количество.
Я встаю с кровати. Суставы издают скрип, похожий на звук усталого принтера, печатающего убыточный отчет. Мой день – это цикл микротранзакций. Поход в магазин – это сложная биржевая операция. Нужно проанализировать инфляцию на полках, найти активы с максимальной полезностью и минимальной ценой. Пакет кефира за сорок рублей – это голубая фишка. Пакет за пятьдесят – уже переоцененная бумага, покупка которой грозит просадкой бюджета.
Я возвращаюсь в свою квартиру-офис. Она пахнет пылью и старой бумагой. Запах неамортизированных остатков. Иногда мне кажется, что я сам становлюсь таким остатком. Ненужным приложением к собственной жизни.
Но даже у самого убыточного предприятия есть баланс. Есть статья, которая не поддается расчетам. Это – тишина. Она наступает вечером, когда торговые сессии закрыты, и я остаюсь наедине с графиками своих мыслей. Вот тогда и начинается главный аудит. Аудит прожитых лет. И я с ужасом понимаю, что главный актив – время – у меня на исходе. А пассивы в виде невыполненных планов и несделанных шагов только растут.
Сегодня вечером я особенно остро чувствую этот дисбаланс. Будто кто-то невидимый готовит меня к годовому отчету, который уже некому будет подать.
Обвал рынка
Если моя жизнь и была образцом диверсифицированного портфеля, то в тот вторник на нее обрушился форс-мажор, о котором умалчивал даже самый мелкий шрифт в договоре с судьбой.
Всё началось с планового, почти ритуального события – визита в районную поликлинику. Это учреждение я всегда сравнивал с консервативным паевым фондом: процедуры предсказуемы, доходность низка, и царит в нём благопристойная, почти сонная атмосфера вечного затишья. Я пришёл на простейшую процедуру – УЗИ брюшной полости. Очередной рутинный аудит, не более того.
Врач, молодой мужчина со взглядом аналитика, уставшего от чужих финансовых потоков, водил датчиком по моему животу с видом человека, изучающего котировки. Потом его молчание загустело – точь-в-точь как настораживающая пауза брокера, заметившего на идеальном графике тревожную аномалию. Он попросил подождать, вышел и вернулся с заведующим – своего рода арбитром для сложных активов. Меня отправили на КТ. Лежа в трубе томографа, я почувствовал тот самый специфический холодок, что бывает, когда понимаешь: твой самый надёжный актив собирается объявить дефолт.
Через два дня я сидел в кабинете онколога. Он говорил спокойно, взвешивая слова с точностью финансиста, вынужденного объявить о списании безнадёжного долга. «Образование», «неоперабельное», «паллиативная терапия». Каждый термин был похож на акт о безнадёжной дебиторской задолженности, предъявленный лично мне. Мой внутренний «Архитектор», не теряя ни секунды, начал строить модели: стоимость лечения, вероятность ремиссии, срок окупаемости… Цифры выстраивались в безрадостный график, где мой главный актив – время – демонстрировал обвальную динамику.
Я вышел из поликлиники, держа в руках не листок, а пересмотренный устав собственной жизни. Воздух больше не пах бесконечными возможностями для инвестиций. Он пах необходимостью грамотного управления тем, что осталось. Я шёл домой, и каждый шаг сопровождался тихим, ироничным комментарием: «Нерентабельно. Требует санации».
А дома меня ожидал классический диверсификационный риск, материализовавшийся с почти театральной пунктуальностью.
Я ещё не успел как следует осознать новый прогноз, как услышал за дверью мягкий, но красноречивый стук чемоданов. Открыл – и увидел Лену. Мою дочь. И мою внучку Катю, крепко державшую за лапу своего потрёпанного медвежонка – её главный, не амортизируемый актив. В глазах Лены я прочёл ту самую неуверенность, что бывает на рынке в преддверии больших потрясений.
«Пап, мы ненадолго. Просто передохнуть», – сказала она, и я понял всё без лишних слов. Её брак, тот многообещающий стартап, в который она когда-то с верой вложила все свои ресурсы, завершил свою деятельность. И теперь её дочернее предприятие, пусть и временно убыточное, возвращалось под крышу головной компании для проведения реорганизации.
Они вошли в квартиру, и я ощутил, как моё личное пространство, этот последний оплот отлаженных процессов, наполнилось мягким, но настойчивым хаосом новых обязательств. Лена пыталась улыбаться, говорить о приятных мелочах, но я мысленно составлял смету: дополнительные статьи расходов, новые переменные. Моя пенсия, прежде бывшая эталоном стабильности, теперь должна была пройти стресс-тест на прочность при полном отсутствии резервных фондов.
Третьим визитёром, с лёгкой иронией завершившим эту драматургию дня, стал мой старый приятель Николай. Он зашёл «просто проведать», принеся с собой бутылку коньяка – словно предлагая хеджировать риски проверенным, но уже не столь актуальным активом. Увидев Лену с ребёнком, он одобрительно кивнул. А когда я, слегка смутившись, пробормотал что-то о пересмотре личных KPI, он похлопал меня по плечу и изрёк с мудростью биржевого оракула: «Что ж, Борис, держись. Сходи в церковь, исповедуйся. Душу подготовь. В нашем-то возрасте пора переводить капиталы в активы с длительным, очень длительным горизонтом планирования».
И он удалился, оставив после себя не тягостное молчание, а пищу для размышлений. Его слова о «душе» и «вечном» прозвучали для меня не как приговор, а как совет по фундаментальной ребалансировке портфеля: возможно, пора обратить внимание на те активы, волатильность которых стремится к абсолютному нулю.
В ту ночь я не спал. Лежал на диване и слушал, как за тонкой стеной спит внучка. Её ровное дыхание было похоже на дивиденды по вечным облигациям – скромным, но незыблемым. И где-то в глубине, под слоем усталости и сумбурных расчётов, шевельнулось что-то спокойное и ясное. Что-то, что видело в этом нагромождении проблем не крах, а сложную, но интересную задачу по добровольной реструктуризации под названием «Жизнь 2.0».
Тогда я ещё не знал, что это проснулся «Архитектор». И что за ним последуют другие.
Формирование инвестиционного пакета
Следующие дни слились в одно тягучее, бесформенное время. Диагноз висел надо мной дамокловым мечом, а присутствие Лены и Кати делало невозможным привычное отступление в тишину. Их беды были осязаемы, громки, они требовали действий. А я был похож на управляющего фондом, который понимает, что фонд вот-вот лопнет, но обязан сохранять лицо перед вкладчиками.
Я пытался писать. Просто сесть и изложить на бумаге хоть что-то – воспоминания, мысли, хоть какую-то ценность. Но слова не шли. Они рассыпались, как песок сквозь пальцы. Фраза «в молодости я считал…» натыкалась на стену в виде вопроса: «А кому это сейчас нужно?». Рыночная стоимость моих знаний стремилась к нулю. Это было мучительно.
Перелом наступил ночью. Я проснулся от собственного стона – во сне я пытался сложить из кусочков разбитого зеркала цельный график, но он все время рассыпался. Сердце колотилось. Я включил свет, потянулся за стаканом воды и замер.
На столе, рядом с моими беспомощными черновиками, лежал чистый лист. На нем были начертаны схемы. Четкие, выверенные, с стрелочками, прямоугольниками и надписями: «Актив (интеллектуальный)», «Срок жизни (T)», «Дисконтирование будущих потоков». Это была модель. Модель секьюритизации… меня самого. Моя жизнь представлялась как актив, который можно разделить на доли и продать, чтобы получить средства сейчас, до наступления того самого события «T».
Я смотрел на эти линии, и по спине пробежал холодок. Я не помнил, чтобы я это рисовал. Но почерк был мой. Только… идеальный. Без помарок, без сомнений. Будто это писал не я, а мой собственный разум, очищенный от страха и эмоций.
И тогда в голове прозвучал голос. Спокойный, металлический, без единой вибрации. Голос «Архитектора».
«Эмоции – это неамортизируемые издержки. Они не имеют стоимости на рынке. Твой диагноз – это вводная. Данные. Присутствие дочери и внучки – это изменение условий задачи. Задача – максимизировать полезность оставшегося времени для них. Решение – преобразовать нематериальный актив (твою историю, твои знания) в материальный капитал. Мы структурируем предложение».
Я зажмурился. Шизофрения. Вот и все. Крайняя степень неликвидности – банкротство рассудка. Но голос был настойчив.
«Представь: ограниченный тираж книги. Но не просто книги. Это – облигация. Покупатель приобретает не только продукт, но и право на финальную главу, которая будет опубликована после наступления события T. Мы создаем ажиотаж на дефиците и предвкушении. Это классика».
Это было… блестяще. Безумно, но блестяще. И это безумие имело четкую экономическую логику.
На следующее утро, заваривая чай, я услышал другой голос. Хриплый, с горькой усмешкой. «Бунтарь».
«Облигации? – фыркнул он. – Кому нужны твои дурацкие облигации, старик? Ты – никто. Твои знания никому не упали. Миру нужен цирк! Нужна кровь! Нужно поставить на твою смерть!»
Я чуть не уронил чайник. «Бунтарь» был груб, циничен и говорил то, о чем я боялся думать.
«Выложи все в сеть! Медицинские карты, отчаяние, сопли! Преврати свою агонию в шоу! Пусть люди делают ставки, доживет ли Борис Леонидович до Нового года! Это единственная твоя ценность – ценность развлечения!»
Мне стало физически плохо. Но где-то в глубине я понимал – в этом безумии тоже был свой меркантильный смысл. Экономика внимания. Продажа трагедии как товара.
А потом, вечером, я смотрел, как Катя рисует карандашом на обоях. Она сосредоточенно выводила какие-то палочки и кружочки. И внутри зазвучал третий голос. Тихий, печальный, похожий на шелест страниц. «Провидец».
«А что, если просто рассказать? – прошептал он. – Не продавать, а рассказать. Обо всем. О том, как экономические теории разбиваются о быт. О том, как любовь к дочери становится статьей расходов. О том, как умирает человек, который всю жизнь думал цифрами. Может, в этой правде и будет ценность?»
И вот они все трое были со мной. «Архитектор» с его безупречными схемами. «Бунтарь» с его разрушительным цинизмом. «Провидец» с его тоской по простой человеческой правде.
Я сидел в кресле, разрываясь между ними. Это был не просто разговор с самим собой. Это был совет директоров моей распадающейся личности. Каждый предлагал свой бизнес-план по спасению. Каждый считал свой путь единственно верным.
И я понимал, что выбирать не придется. Они уже начали действовать. Каждый за себя.
