Отцы, дети
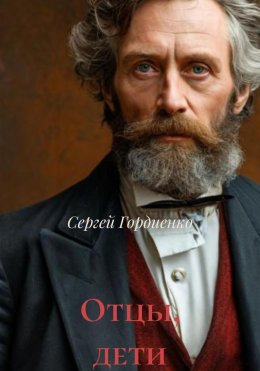
Введение
Роман Ивана Сергеевича Тургенева “Отцы и дети”, безусловно, мировая классика и для середины 19-го века написан хорошо. Но с развитием лингвистики и художественной литературы, тем более если отбросить высокий титул мирового классика, читается довольно скромно, а именно: написано умным, образованным, наблюдательным человеком, но не более. Стилистика, синтаксис и фразеология весьма слабые. Возможно, знакомство с Флобером и его учеником Мопассаном, двумя великими писателями и стилистами, могло бы положительно повлиять на развитие Тургенева как писателя, но оно произошло уже после публикации "Отцов и детей".
Общие наблюдения:
1. В романе автор от себя часто добавляет комментарии, иногда пространные и спорные, что больше отвлекает от сюжета и героев, чем добавляет ценности произведению.
2. Роман написан в дворянском стиле, но автор его не выдерживает и употребляет от себя слова низкого стиля, а иногда выражается слишком высокопарно, по-барочному или по-шекспировски.
3. В описании героев, природы, помещений и т.д. Тургенев хаотичен, перескакивает с одного на другое.
4. Описываемые сцены далеко не всегда полностью выражают заложенный в них смысл. Многие эпизоды можно было сделать ярче.
5. Длинные жизненные истории и описание характера некоторых героев никак не продолжаются в дальнейшем развитии сюжета. Тургенев одномоментно рассказал о них, отчитался, а было бы интереснее раскрывать героев постепенно, что сделало бы повествование интереснее и добавило бы больше внутренней связанности произведению.
6. Первая половина написана вполне талантливо, а вторая почему-то намного больше изобилует слабым синтаксисом, фразеологией и излишней пунктуацией. Но последняя глава трогательная, душевная, подводит логичный итог повествованию.
7. "Дети" – нигилисты. Соответственно, читателю хотелось бы узнать о нигилизме. Тургенев мог бы раскрыть взгляды молодого поколения через диалоги с "отцами", но их споры сводятся примерно к следующему:
Отцы: – Вы, что же, не уважаете этого заслуженного человека?
Дети: – Нет!
Отцы: – Какой ужас! А этого?
Дети: – Нет!
Отцы: – Кошмар! А этого?!
Дети: – Тоже нет!
Отцы: – Выходит, у вас вообще нет авторитетов?!
Дети: – Почитайте эту книгу. Вот наш авторитет!
Отцы: – Прочитали, ничего не поняли.
8. Вместо того чтобы в скобках писать перевод иностранных слов, можно было бы передать их значение контекстом. Так было бы естественнее, не нарушалось бы повествование.
Рассмотрим эти утверждения на примерах, делая поправку на то, что роман написан более 150 лет назад, русский язык изменился, но всё же многое у Тургенева выглядит "весьмa скромно", особенно для человека, изучавшего филологию в Московском и Петербургском университетах и говорившего на немецком, французском, греческом и латыни.
Фразы и словосочетания
Некоторые вызывают удивление, раздумье и вопросы. Складывается ощущение, что Тургенев пытается написать что-то оригинальное, но получается неуклюже. Примеры:
1. “характер бессильно докучливый” – трудно понять, что же это за характер такой;
2. “честные голубые глаза под открытым лбом” – звучит несколько странно, вызывая в воображении картины в стиле кубизма или формализма; не лучше ли сказать “у него были честные голубые глаза и открытый лоб”;
3. “её назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах” – чувствуется стремление к оригинальности в “полузакрытых, полураскрытых глазах и губах”, но не лучше ли прозвучит “в полузакрытых глазах и полуоткрытых губах”?
4. “едва виднелись кончики ее ног” – без комментариев…
5. “сильная и тяжёлая страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей” – “похожая” и “сродни” практически 100-процентные синонимы, зачем их ставить рядом?
6. “маленькие пёстрые тучки” – слово “тучки” уже подразумевает “маленькие”;
7. “Раздался топот конских ног по дороге.” – ног…
8. “проговорил с насильственною улыбкой раненый джентльмен” (о раненом на дуэли Павле Петровиче Кирсанове) – что это за улыбка чудовища, предвкушающего добычу? Не лучше ли сказать “он с усилием улыбнулся”?
9. “рыданья так и поднимали её горло” – не лучше ли “от отчаянных рыданий у неё даже двигалось горло”?
10. “его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке” – может, всё-таки “исхудалое лицо”?!
11. “Она чувствовала лёгкое стеснение страха.” – что значит “стеснение страха”? Не лучше ли сказать “она чувствовала, как страх стесняет её”?
12. “я задавал себе задачи” – тавтология;
13. “Арина Власьевна переполошилась и взбегалась по дому” – взбегалась… Возможно, так говорили в середине 19-го века, но Тургеневу стоило хотя бы обратить внимание на неблагозвучие этого слова. Не лучше ли так: “Арина Власьевна переполошилась и заметалась по дому”?
14. “Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына” – Может, лучше так: “ Василий Иванович искал все возможные предлоги, чтобы попасть в комнату сына.”?
15. “полузабывчивая дремота” – что же она полузабыла?
16. “Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное. – Сразу представляется уродливое насекомое, ползущее по лицу Базарова. На самом деле Тургенев пытается сказать “появилась странная гримаса” или “лицо исказилось в странной гримасе”. И причём тут закрытые глаза? В этом эпизоде они никак не могли повлиять на выражение лица.
17. “что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице” – Что значит “содрогание ужаса” и как именно оно “отразилось на помертвелом лице”? Не лучше ли сказать “он вздрогнул и тень ужаса мелькнула на его помертвелом лице”?
18. "Он совсем окоченел от глупости и важности" – без комментариев…
19. “Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского” – “откупоренная полубутылка”… Почему бы не сказать “откупоренная, наполовину недопитая бутылка”?
20. "Она провела по сфинксу крестообразную черту." – для креста нужно две черты, не так ли?
21. "Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу" – может всё-таки когтями?
22. "она приподняла немного край платка" – "приподняла" уже значит "немного".
Предложения
1. “Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения.” – Хотелось бы научиться так себя держать, но Тургенев почему-то не поясняет как именно. Читателю остаётся гадать.
2. “Одинцова отделилась от спинки кресла.” – Не лучше ли “Одинцова немного подалась вперёд”?
3. “Одинцова не шевелилась ни одним членом.” – Возможно в то время последнее слово не вызывало двойственную ассоциацию, но тем не менее, о такой красивой женщине Тургенев мог бы сказать более изящно!
4. “он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало” – Не лучше ли “подмывало” заменить на “беспокоило”?
5. “Он очень походил лицом на своего сына” – Может всё-таки наоборот?
6. “глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность” – преданность и нежность – определённо два чувства!
7. “Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий…” – На самом деле Аркадий просто взял в руки старые письма. Зачем такая высокопарная фраза “вступив в обладание”?
8. “– Что, это остроумно? – проговорил вопросительно Павел Петрович…” – Зачем тут слово “вопросительно”, если он и так задал вопрос?
9. “– Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который… который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат – человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый… Слава Богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки…” – Почему бы не передать путанную речь прямой речью, а не делать сноску в скобках? Текст выглядел бы естественнее.
10. “– Не находите ли вы, – начал Аркадий, – что ясень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе…” – Как ясень сквозит на воздухе?! Ветер сквозит в ветвях и листве ясеня!
11. “Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.” – Не лучше ли сказать “неизвестное и неизведанное ею чувство, которое она не смогла бы даже описать”?
12. “Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился” – странная реакция у Аркадия: лучший друг стрелялся с его родным дядей, ранил, а Аркадий удивился и ДАЖЕ опечалился.
13. “лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством” – “лихорадка соскочила” – как это? “Тоскливая скука” – бывает и весёлая скука? “Глухое беспокойство” – что за разновидность беспокойства? Не лучше ли сказать “страсть к безустанной работе сменилась тоскою, скукою и беспричинным беспокойством”?
14. “Походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась” – Как походка изменилась Тургенев почему-то не описывает.
15. “– Старина, – начал Базаров сиплым и медленным голосом” – “медленный голос”… Не лучше ли сказать так: “Старина, – медленно промолвил Базаров сиплым голосом”?
16. “Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом” – испугалась испугом – тавтология.
17. "Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы." – что значит "слегка присела" и зачем здесь же "поместилась"? Не лучше ли "Катя присела возле сестры и принялась разбирать цветы."?
18. "Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди." – предложение написано несколько несвязанно, отрывисто. Это Аркадий из дома увидел её в саду. До какой же степени должны были алеть щёки и светиться глаза да ещё под шляпой, чтобы он мог всё это рассмотреть?! Снова у Тургенева чувствуется напыщенность. Не лучше ли так: "Она неспешно шла по саду с тонким полевым цветком в ладони, лёгкая мантилья спадала до локтей, а широкая серая лента вокруг элегантной соломенной шляпки концами прильнула к её груди."?
19. "петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в жителях деревни странное ощущение дремоты и скуки." – странные жители деревни, задорное кукарекание вызывает у них дремоту и скуку!
История любви Павла Петровича
Странная, натянутая, раздутая для оригинальности, чтобы впечатлить читателя страстью и необычностью. Тургенев скорее всего придумал этот "особенный" характер и образ жизни княгини Р.
“Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию… слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение… коса золотого цвета и тяжёлая, как золото, падала ниже колен, во всем ее лице только и было хорошего, что глаза.. они были невелики и серы, – но взгляд их, быстрый, глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния… Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи… Что гнездилось в этой душе – Бог весть!.. она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей… любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания.”
Хотелось бы узнать причину такого поведения, но Тургенев и сам, видимо, не понял, а просто сочинил напыщенную историю женщины, стараясь придать её характеру много необычного.
Следующая часть истории взаимоотношений Павла Петровича и княгини Р.:
“Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.
– Что это? – спросила она, – сфинкс?
– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы…
…с тех пор постоянно избегала Кирсанова…Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка.”
Почему крест и в чём разгадка Тургенев так и не написал.
В конце романа оказывается, что Павел Петрович влюблён в жену брата Фенечку, потому что она сильно напоминала ему княжну Р. Почитаем описание Фенечки:
“в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах… молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти… ходила немножко вразвалку… вся покраснела от смущения и от радости… рука, белевшая, как молоко… очень перетрусилась… наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока… не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших… она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке… раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала… зарделась вся до волос и до ушей… застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица… она сидела почтительно-неподвижно…”
Чем Фенечка могла напоминать Павлу Петровичу княгиню Р., причём до такой степени, что он был тайно влюблён в неё несколько лет?! Только полной противоположностью! Странно…
Абзацы
Тургенев неоправданно делит текст на абзацы, разрывая единую сцену. Например:
1. “Лестница заскрипела под быстрыми шагами… Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась – и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.
Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.”
2. “Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.
Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.”
3. “– А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские?– спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.
– Сила-то, сила, – промолвил он, – вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я… Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? – прибавил он, погодя немного. – Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли? Ведь ты хвастался, что ты философ?”
В обоих случаях говорит Базаров.
4. “Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.
Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами.”
Описание характера Одинцовой
Описание расплывчатое, ничего конкретного, видно, что герой выдуман и автор пытается изобразить её особенной, как и княгиню Р.:
“…была довольно странной. Не имея никаких предрассудков, даже сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Многое ясно видела, многое её занимало и ничто не удовлетворяло вполне, да и едва ли она желала полного удовлетворения. Ум её был пытлив и одновременно равнодушен, сомнения не утихали, но не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, бросилась бы в битву, узнала бы страсть, но ей жилось легко, хотя и скучно подчас, и она продолжала провожать день за днём, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным, но и тогда кровь в её стройном и спокойном теле не текла быстрее. Бывало, выйдя из благовонной ванны, тёплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле… Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.”
Пунктуация
Тургенев избыточно и часто неоправданно пользуется пунктуацией, особенно точкой, точкой с запятой и тире. Создаётся впечатление, что не совсем понимает их значение. Например:
1. “– Что вы это тут делаете? – промолвил Базаров, садясь возле нее. – Букет вяжете?
–– Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.”
Зачем после “да” точка c запятой?
2. “Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: "Фу ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы.”
Зачем “невозможно” отделять от “ведь” точкой с запятой, это же две части одного высказывания с причинно-следственной связью?!
Неопределённые слова
1.Тургенев постоянно использует неопределенные слова, описывая героев, природу, помещения и деревни: “какая-то шутливая внимательность… посмотрел на него как-то странно… видимо, смутило Петра… как будто… будто… как-нибудь… как бы… чего-нибудь… некоторую… вроде… вероятно… чего-то… кажется… что ли…”
Как будто автор сам до конца не понимает или не в силах описать.
2. У Тургенева непонятная тяга к “половинчатости”, что грамматически выражается в частом употреблении приставки полу-: полуграмотный, полутёмный, полусапожки, полумрак, полушутя, полузевая, полуслово, полуулыбка, полулежать, полузакрытый, полустыдливый, полудоверчивый, полураскрытый, полубутылка, полумертвый, полунагой, полуистлевший, полураскрытый, полузабывчивый, полураздавленный.
С такими мыслями автор этой статьи решил обработать этот классический роман в плане стилистики, фразеологии, пунктуации и сюжета. Предполагаемая публикация на этой странице – октябрь-декабрь 2025.
Кроме лексических, фразеологических, синтаксических и пунктуационных изменений, в текст были внесены и изменения в сюжете произведения:
1. В споры “отцов и детей” добавлено больше информации о нигилизме и естественных науках того времени, чтобы помочь читателям лучше понять природу разногласий и эпоху.
2. История любви Павла Петровича к княгине Нелли Р. сокращена с 2-3 страниц до нескольких предложений, так как далее в произведении многочисленные детали этой истории никак не обыгрываются и не развиваются, а сама история выглядит напыщенной, раздутой и неестественной, особенно характер княгини.
3. Полностью удалена сюжетная линия о тайной любви Павла Петровича к Фенечке, основанной на её сходстве с княгиней Нелли Р., поскольку сходство совершенно отсутствует. Тургенев упустил или забыл этот момент. Героини полные противоположности.
4. Внимание Павла Петровича к Фенечке объясняется его заботой о счастье его брата, что намного логичнее по сюжету.
5. Причина вызова Базарова на дуэль интерпретирована как попытка Павла Петровича защитить честь брата, а не ревность к сближению Базарова с Фенечкой.
6. Дуэль Базарова и Павла Петровича и некоторые диалоги “отцов и детей” интерпретированы как предвестники террора, революций и гражданской войны в России.
7. Поездка Базарова и Аркадия в город радикально сокращена, так как мало развивает и обогащает сюжет. На самом деле поездка нужнаТургеневу только, чтобы познакомить Базарова с Одинцовой и рассказать о нелепых нигилистах Ситникове и Кукшиной на фоне дворянско-административного общества городка, что сохранено в этой обработке, но вкратце, чтобы не делать излишне обширного отступления от главной сюжетной линии.
8. В последней главе Тургенев вновь пишет о Ситникове и Кукшиной, но в обработке эти параграфы полностью удалены, чтобы сосредоточиться на дальнейшей судьбе главных героев.
9. Удалены строки о тёте сестёр Одинцовых княжне Авдотье Степановне, которую Анна Сергеевна не понятно зачем “выписала к себе” и поселила в своём доме. Также не понятно какую роль она играет в сюжете произведения.
10. Текст романа сокращён на 40%.
11. У Тургенева в этом романе самое длинное предложение в русской классической литературе – 201 слово (второе самое длинное у Толстого – 193 слова). В обработанном варианте предложение Тургенева “доросло” до 289 слов. Автору показалось логичнее в плане синтаксиса и семантики присоединить к нему и несколько последующих предложений.
Отцы, дети
Опыт художественно-лингвистической обработки романа
20 мая 1859
Николай Петрович Кирсанов, барин сорока четырёх лет, вышел на низкое крыльцо постоялого двора в запылённом пальто и клетчатых панталонах. Посмотрел в сторону, где в пятнадцати верстах располагалось его имение в двести душ и где с тех пор, как размежевался с крестьянами, он завёл “ферму” в две тысячи десятин земли.
Николай Петрович, как и его старший брат Павел, родился на юге России и до четырнадцати лет воспитывался дома дешёвыми гувернёрами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Матушка его Агафоклея Кузьминишна, в девичестве Колязина, носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви первая подходила ко кресту, говорила громко и много, утром допускала детей к ручке, а на ночь благословляла. Отец его, боевой генерал 1812 года, человек полуграмотный, грубый, но не злой, командовал бригадой, потом дивизией и проживал в провинции, где имел влияние в силу своего генеральского чина.
Николай Петрович имел черты маленькие, приятные, несколько грустные чёрные глаза и мягкие жидкие волосы. Ленился охотно, но и читал охотно, и боялся общества до такой степени, что заслужил прозвище трусишки. Как и Павел, должен был поступить на военную службу, но сломал ногу в тот день, когда пришло предписание о его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался хромцом. Как только минул ему восемнадцатый год, отец повёз в университет в Петербург, где Павел уже служил офицером в гвардейском полку. Жили на одной квартире под надзором двоюродного дяди Ильи Колязина, важного чиновника с материнской стороны. Отец изредка присылал длинные письма на широких листах серой бумаги, испещрённые размашистым писарским почерком, витиевато подписанные “Пиотр Кирсаноф, генерал-майор”.
В 1835-м Николай Петрович получил степень кандидата и отец, уже уволенный со службы за неудачный смотр, переехал с супругой к сыновьям в Петербург, снял дом у Таврического сада и записался в английский клуб. А Николай Петрович, к немалому огорчению родителей, давно был влюблён в дочь чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную девицу Машу, жившую в ногу со временем: любила читать в журналах статьи в разделе “Науки”.
Но вскорости отец внезапно скончался от удара. Агафоклея Кузьминишна, не в силах привыкнуть к столичной жизни и вдовству, последовала за мужем. Как только минул срок траура, Николай Петрович обвенчался с Машей, и, уволившись из министерства уделов, куда по протекции определил отец, снял дачу около Лесного института, потом чистую, уютную квартирку с лестницей и прохладной гостиной и, наконец, решил перебраться с женой в деревню, где у них в скором времени родился сын Аркадий. Жили тихо, счастливо, размеренно, вместе читали, в четыре руки играли на фортепьяно и пели дуэты. Маша сажала цветы и присматривала за птичьим двором, а Николай Петрович занимался хозяйством да изредка ходил на охоту. Аркадий рос в спокойствии и благожелании. Так прошло десять лет. Но в 47-м Маша скончалась. Николай Петрович поседел за несколько недель, собрался за границу, но в конце концов решил заняться хозяйственными преобразованиями, а в 55-м повёз сына в Петербург в университет, жил с ним три зимы подряд, редко выходил в люди и общался только с товарищами Аркадия. Но в последнюю зиму приехать не смог – сильно сдал, совершенно поседел, округлился и сгорбился.
– Что, Пётр, не видать? – спросил у молодого, щекастого слуги с беловатым пухом на подбородке, маленькими тусклыми глазёнками, бирюзовой серёжкой, напомаженными волосами и учтивыми телодвижениями.
Пётр снисходительно поглядел на дорогу.
– Никак нет-с, – отошёл к воротам и закурил трубку.
Николай Петрович тяжело, по-старчески вздохнул, присел на скамейку и задумчиво огляделся. Посмотрел на подросшего пёстрого цыплёнка, постукивавшего крупными жёлтыми лапами по ветхим ступенькам крыльца. На перилах, сердито посматривая на него, под тёплым солнцем грелась грязная кошка, а из полутёмных сеней постоялого двора пахло тёплым ржаным хлебом.
– Кандидат, Аркаша… В меня… – пробормотал Николай Петрович. Вспомнилась супруга-покойница. – Не дождалась.
Пухлый сизый голубь прилетел на дорогу и мелкими шажками направился к лужице возле колодца. Вдруг послышался стук колёс.
– Никак едут-с! – воскликнул Пётр.
Николай Петрович поднялся со скамейки и бросил взгляд на дорогу. Показался тарантас, запряжённый тройкой ямских лошадей, и мелькнул околыш студенческой фуражки.
– Аркаша! – Николай Петрович бросился к воротам, размахивая руками.
– Дай отряхнуться, папаша! – звонким юношеским голосом воскликнул Аркадий, в ответ обнимая отца. – Пыли с меня наберёшься.
– Ничего, ничего, – умиленно улыбаясь, повторял Николай Петрович, отряхивая своё пальто и воротник шинели сына. – Покажись!
– Папаша, позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Базаровым. Писал тебе о нём. Погостит у нас.
Из тарантаса вышел человек высокого роста в длинном балахоне с кистями. Крепко стиснул ладонь Николая Петровича.
– Душевно рад и благодарен за доброе намерение посетить нас, – смутился Николай Петрович. – Позвольте узнать ваше имя и отчество.
– Евгений Васильев, – лениво ответил Базаров мужественным голосом. Его длинное, худое лицо с широким лбом, тонкими губами, заострённым носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета оживилось спокойной, самоуверенной улыбкой умного человека.
– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, не соскучитесь у нас.
В ответ Базаров едва улыбнулся и приподнял фуражку. На плечи упали белокурые, густые, до плеч волосы.
– Закладывать лошадей или отдохнуть хотите? – Николай Петрович повернулся к сыну.
– Закладывать.
– Петр, распорядись, братец, поживее.
Пётр, лишь издали поклонившись, не подошёл поцеловать руку Аркадия.
– У меня коляска, но и для твоего тарантаса есть тройка, – сбиваясь от волнения, говорил Николай Петрович, пока Аркадий пил воду из железного ковшика, поданного хозяйкой постоялого двора. Базаров закурил трубку и подошёл к ямщику, распрягавшему лошадей. – Только вот коляска двухместная. Как твой приятель…
– В тарантасе поедет, – перебил Аркадий. – Ты его не обхаживай, пожалуйста. Чудесный малый, простой.
Кучер вывел лошадей.
– Поворачивайся, толстобородый! – крикнул Базаров на ямщика.
– Слышь, Митюха, – засмеялся другой ямщик. – Толстобородый ты! Так и есть!
Митюха отряхнул шапку и потащил вожжи с потной коренной.
– Живей! – воскликнул Николай Петрович. – На водку будет!
Отец с сыном сели в коляску, Пётр забрался на козлы, а Базаров вскочил в тарантас.
– Наконец, ты, Аркадий, дома, – умилённо произнёс Николай Петрович. – Наконец!
– Как дядя? Здоров?
– Здоров. Хотел выехать со мной к тебе навстречу, да раздумал.
– Ты долго ждал?
– Часов пять.
– Добрый ты, папаша! – Аркадий звонко поцеловал его в щёку. Николай Петрович тихо засмеялся.
– Какую тебе славную лошадь приготовил! Увидишь! И комнату твою оклеил обоями.
– Для Базарова есть?
– Найдётся.
– Будь добр с ним. Не могу выразить, до какой степени дорожу его дружбой.
– Недавно познакомился?
– Недавно.
– То-то прошлою зимой не видал его. Чем занимается?
– Естественными науками. Всё знает! Будет доктором.
– Медицина? Пётр, никак наши мужики едут?
По просёлку бойко катились телеги с мужиками в тулупах нараспашку.
– Точно так-с, – ответил Пётр.
– В город, что ли?
– В город, в кабак, – презрительно промолвил Пётр.
– С мужиками в нынешнем году хлопоты у меня большие, – Николай Петрович повернулся к сыну. – Не платят оброк.
– А наёмными работниками доволен?
– Подбивают их. Старания нету, сбрую портят. Но пахали ничего. Тебя хозяйство занимает?
– Тени нет в постоялом дворе, – не ответил Аркадий.
– Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал. Теперь обедать можно на воздухе.
– На дачу похоже. Впрочем, пустяки. Зато какой здесь воздух! Как славно пахнет! Право, нигде так не пахнет, как в наших краях! А небо… – Аркадий вдруг замолчал, бросив взгляд назад.
– Ты же здесь родился, всё должно казаться особенным.
– Всё равно, где родился.
– Как?
– Совершенно всё равно.
Николай Петрович удивлённо посмотрел на сына. Молчали с полверсты.
– Не помню, писал ли, твоя нянюшка, Егоровна, скончалась.
– Бедная старуха! А Прокофьич?
– Жив и нисколько не изменился. Всё так же брюзжит. Больших перемен в нашем Марьино не найдёшь.
– Приказчик тот же?
– Сменил. Решил не держать вольноотпущенных, бывших дворовых или, по крайней мере, не поручать им должностей с ответственностью.
Аркадий показал глазами на Петра. Николай Петрович ответил по-французски:
– Вольный. Но ведь он камердинер. Приказчик теперь из мещан, дельный малый. Назначил ему двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, – Николай Петрович потёр лоб и брови, что было признаком смущения, – перемен больше нет… Считаю своим долгом предварить тебя, хотя строгий моралист найдёт мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, как тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчёт отношений отца к сыну. Ты, конечно, вправе осудить меня… В мои-то лета… Словом, девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал…
– Фенечка? – развязано бросил Аркадий.
– Пожалуйста, не так громко. Николай Петрович покраснел. – Ну да, она. Живёт в доме. Две комнатки были… Впрочем, всё можно переменить.
– Помилуй, папаша, зачем?
– Перед твоим приятелем неловко.
– Он выше всего этого.
– Флигелёк-то плох. Вот беда.
– Помилуй, папаша, ты будто извиняешься. Как не совестно?
– Должно быть совестно, – Николай Петрович всё более и более краснел.
– Полно, папаша, сделай одолжение! – Аркадий ласково улыбнулся и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением скрываемого превосходства, наполнило его душу осознанием собственной развитости и внутренней свободы.
Николай Петрович посмотрел на него из-под пальцев руки, которою продолжал тереть лоб.
– Наши поля пошли, – произнёс после долгого молчания.
– А там наш лес?
– Продал. В нынешнем году срубят.
– Зачем продал?
– Деньги нужны были. К тому же, отошёл бы мужикам.
– Которые оброка не платят?
– Когда-нибудь заплатят.
– Жаль лес.
Окрестности не казались живописными: неровные поля до небосклона, округлые рощи, редкий кустарник, извилистые и короткие овраги, как на картах екатерининских времён; мелкие речки с подмытыми берегами; крошечные пруды с плотинами, придорожные ракиты с ободранной корой и обломанными ветвями; исхудалые, словно обглоданные в метельную зиму коровы; мужички в грязном старье и лохмотьях верхом на худых клячах. И посреди всего этого захудалые деревеньки с низкими избами под тёмными, до половины размётанными ветром крышами; покривившиеся молотильные сарайчики с плетёными стенами и покосившимися воротищами полупустых гумен; церкви кирпичные с отвалившейся штукатуркой и деревянные с наклонившимися крестами и неухоженными кладбищами.
“Убогий край, – подумал Аркадий. – Ни довольства, ни трудолюбия, ни прилежания. Преобразования необходимы. Но как исполнить, как приступить?”
Из-за облака вышло солнце и нежданно окрестности преобразились в приятный весенний пейзаж: свежая, едва выступившая зелень заиграла золотом, широко и мягко заволновалась от едва тёплого ветерка; над лугами в низинах послышалось пение жаворонков и крики чибисов; на низкие яровые хлеба в дымке прилетели грачи.
– С той горки уже дом виден, – показал рукой Николай Петрович. – Заживем с тобой на славу. Помогать будешь по хозяйству. Надобно нам тесно сойтись.
– Конечно. Чудный день сегодня!
– Для твоего приезда, душа моя! Весна в полном блеске. “Как грустно мне твоё явленье, весна, весна, пора любви!” – пафосно процитировал Николай Петрович.
– Аркадий! – послышался голос Базарова. – Дай спичку, нечем трубку раскурить.
Аркадий будто очнулся от наваждения и поспешил достать из кармана серебряную коробочку. Пётр передал Базарову в тарантас.
– Хочешь сигарку? – снова крикнул Базаров.
– Давай.
Аркадий закурил толстую чёрную сигарку, попыхивая крепким, кислым облаком заматерелого табака. Николай Петрович, отроду не куривший, отвернулся.
Остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Усадьбу Николай Петрович назвал Марьино в честь жены-покойницы, а мужики прозвали Бобыльим хутором.
На крыльцо вышла девочка лет двенадцати, за ней слуга Павла Петровича Кирсанова молодой парень, очень похожий на Петра, в серой ливрейной куртке с белыми гербовыми пуговицами. Молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Через тёмную, почти пустую залу, в двери которой мелькнуло лицо молодой женщины, прошли в обставленную в новейшем вкусе гостиную.
– Вот мы и дома, – душевно вздохнул Николай Петрович и снял картуз. – Поужинаем и отдохнём. Прокофьич!
– Поесть не худо, – Базаров потянулся и опустился на диван.
Вошёл старик лет шестидесяти, хмурый лицом, беловолосый, худой, смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и розовом платочке на шее. Поцеловал Аркадию руку и, поклонившись Базарову, отступил к двери, убрав руки за спину.
– Наш Прокофьич, – весело воскликнул Николай Петрович.
– В лучшем виде-с, – старик широко улыбнулся и тут же снова нахмурил густые брови. – Накрывать прикажете?
– Пожалуй. Покажу комнату вашу, Евгений Васильич.
– Незачем, благодарю. Прикажите чемоданишко мой да балахон туда стащить.
– Прокофьич… Аркадий, посмотришь свою комнату?
В гостиную вошёл Павел Петрович Кирсанов, среднего роста, в тёмном английском сьюте, модном коротком галстуке и лаковых полусапожках. Коротко остриженные седые волосы, словно серебро, отливали темноватым блеском; на их фон карие, продолговатые глаза смотрелись особенно изящно, породисто и аристократично; желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое лицо, будто выведенное тонким резцом, походило на голландские портреты; тело все ещё сохраняло юношескую стройность и стремление вверх, прочь от земли.
Павел Петрович протянул племяннику тонковатую, элегантную, с длинноватыми розовыми ногтями ладонь, обрамлённую снежной белизны рукавчиком с крупным опалом, и трижды коснулся душистыми усами его щек, сдержанно промолвив приятным голосом “добро пожаловать”. Николай Петрович представил брата Базарову. В ответ Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и мягко улыбнулся, но руки не подал, засунув обратно в карман.
– Уже думал, не прибудете сегодня, – начал томно покачиваться, едва заметно подёргивая плечами, и сдержанной улыбкой обнажил ровные белые зубы. – Разве что в дороге случилось?
– Ничего, дядя. Так, замешкались. Поторопи Прокофьича с ужином, папаша, я сейчас вернусь.
– Я с тобой, – воскликнул Базаров.
– Кто это? – спросил брата Павел Петрович.
– Приятель Аркаши. Очень умный, по его словам, человек.
– Какой волосатый! Гостить будет?
– Да.
– Я нахожу, что Аркадий стал развязанным, – Павел Петрович постучал ногтями по столу.
Базаров ел много, молча и с аппетитом. Николай Петрович рассказывал о своей “фермерской жизни”, предстоящих правительственных мерах, комитетах, депутатах и необходимости сельских машин. Павел Петрович медленно прохаживался по столовой, так как никогда не ужинал, пригублял рюмку красного вина и иногда произносил “а! эге! гм!”. Аркадий рассказывал петербургские новости, борясь с неловкостью от осознания того, что вернулся в то место, где его привыкли считать ребенком. С излишнею развязностью налил себе вина гораздо больше, чем хотел, и выпил до дна. Прокофьич, не спускавший с него глаз, пожевал губами.
– Чудаковат у тебя дядя, – Базаров медленно затянулся короткой трубкой, сидя в халате у постели Аркадия. – Деревенский щёголь! Ногти хоть на выставку посылай!
– В своё время был светским львом, головы женщинам кружил.
– Пленять-то здесь некого. Этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок выскоблен. Смешно!
– Он, право, хороший человек. Когда-то блистал в Петербурге. Несчастная любовь, страсть и… усадьба отца.
– Архаизм! А отец у тебя славный малый, но в хозяйстве вряд ли смыслит. Однако добряк.
– Золотой человек.
– Заметил, как робеет? Старые романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения, равновесие и нарушено. В моей комнате английский рукомойник – прогресс. А вот дверь не запирается. Спокойной ночи.
Аркадием овладело умилительное чувство: сладко было засыпать в родимом доме, в своей постели, под одеялом, сшитым нянюшкой Егоровной. Вздохнул и пожелал ей царствия небесного. О себе он давно перестал молиться.
Николай Петрович лёг в постель, но не загасил свечки, и, положив ладонь под голову, думал, всё ещё взволнованный приездом сына.
Фенечка, накинув голубую душегрейку и белый платок, дремала в задней комнатке на сундуке, прислушивалась к звукам и посматривая на растворённую дверь, где виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребёнка.
Павел Петрович не переоделся в ночное, лишь переобулся в красные китайские туфли без задков. В своём кабинете поудобнее сел в широкое гамбсовое кресло, взял последний нумер “Galignani”, но не читал, а сосредоточенно и угрюмо глядел на камин с тлеющим углём. Так засиделся далеко за полночь, раздумывая о переменах в Аркадии и его странном приятеле. Вспомнил Аркадия в детстве. Как годы летят!.. Задумался о себе, скоро пятьдесят, почти старик. Представился родительский дом, пажеский корпус, съёмная квартира в Петербурге, успех в обществе благодаря его природной красоте, врождённой самоуверенности и выработанной умеренной насмешливости в сочетании с забавной желчностью. Женщины были от него без ума, а мужчины называли фатом и втайне завидовали. Ни одного вечера не проводил он дома, славился смелостию и ловкостию, чему способствовали занятия гимнастикой, которую он даже ввёл в моду между светскою молодежью. Однако начитанностью не отличался, одолев всего пять-шесть французских книг, чего, впрочем, было достаточно, чтобы блеснуть образованностью. На двадцать восьмом году уже был капитаном с блестящими перспективами. Но всё изменилось из-за любви к замужней княгине Нелли Р. Насколько увлёкся её непредсказуемою и распутною натурой, что несколько лет искал её в Европе, куда она сбежала от его преследований. Отчаявшись вернуть, вновь поселился в Петербурге, но жить стал как затворник, лишь изредка выходя в свет, где одержал несколько ничего уже не значивших для него побед. А в начале 48-го, когда Николай Петрович, лишившись жены, приехал в Петербург, Павел Петрович отправился к нему в имение погостить месяца два, но с тех пор не покидал даже в те три зимы, которые Николай Петрович провёл в Петербурге с Аркадием. Начал читать, всё больше по-английски, и вообще жизнь свою устроил на английский манер. Редко виделся с соседями, выезжал только на выборы, где большею частию молчал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те, и другие считали его гордецом, но уважали за отличные аристократические манеры, слухи о победах в Петербурге, отменный вкус в одежде, благородные духи и безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с ними.
Базаров проснулся раньше всех. Вышел из дома, осмотрелся и подумал:
“Местечко-то неказисто. Десятины четыре совершенно ровного, голого поля, дом, ферма, сад, пруд и два колодца! Деревца принимаются плохо, пруд мелковат, а вода в колодцах солоноватая. Только сирень да акации вокруг беседки порядочно разрослись. Небось, там заунывно чай пьют да от пуза обедают.”
Прошёл по дорожкам сада, зашёл на скотный двор и конюшню, познакомился с двумя дворовыми мальчишками и отправился с ними за лягушками к болотцу с версту от усадьбы.
– Пошто тебе лягушки, барин?
– Распластаю да посмотрю, что внутри, буду знать, что и у нас внутри делается. Мы с тобой те же лягушки, только ногами ходим, – надменно отвечал Базаров. – Как занеможешь, лечить придётся.
– Разве ты дохтур?
– Да.
– Васька, слышь, барин говорит, мы с тобой лягушки. Чудно!
– Боюсь их, лягушек-то, – пробормотал босой Васька лет семи, с белою, как лён, головою, одетый в серый казакин со стоячим воротником.
– Разве кусаются?
– Полезайте в воду, философы! – небрежно приказал Базаров.
Николай Петрович с Аркадием вышли на террасу под навес маркизы. На столе, между большими букетами сирени уже кипел самовар. Вышла девочка, первою встретившая приезжих на крыльце, и тонким голосом промолвила:
– Федосья Николаевна не совсем здоровы, выйти не могут, приказали спросить вам самим угодно чай разлить или Дуняшу прислать?
– Сам разолью, – поспешно ответил Николай Петрович. – С чем чай пьёшь, Аркадий? Со сливками или с лимоном?
– Со сливками. Папаша… – Аркадий опустил глаза. – Извини, если мой вопрос неуместен, но ты сам вчерашнею откровенностью вызываешь на откровенность. Не рассердишься?
– Говори.
– Не оттого ли она не выходит к чаю, что я здесь?
Николай Петрович помолчал, опустив голову.
– Стыдится, что ли, папаша? Напрасно. Я ни на волос не хочу стеснять твою жизнь и уверен, ты не мог сделать дурной выбор. Сын отцу не судья, в особенности такому, как ты! Ведь ты сам никогда не стеснял моей свободы.
– Спасибо, Аркаша, – пробормотал Николай Петрович, потирая пальцами лоб и брови. -Она… Это не прихоть… Ты же понимаешь, ей трудно… особенно в первый день.
– Сам пойду, растолкую! Нечего стыдиться!
Николай Петрович почувствовал, как быстро забилось сердце.
– Познакомились! – торжественно объявил Аркадий, вернувшись из дома. – Фенеч… Федосья Николаевна сегодня и вправду не здорова, но обещала выйти позже. Почему ты не сказал, что у меня есть брат?! Я бы уже вчера расцеловал его, как сейчас. – Аркадий обнял отца.
– Опять обнимаетесь? – раздался голос Павла Петровича.
На нём был изящный утренний английского стиля костюм, феска и небрежно повязанный короткий галстук, что намекало на свободу в деревенской жизни, но тугой воротничок пёстрой рубашки, упиравшийся в чистейше выбритый подбородок, относил к строгому этикету салонов Петербурга.
– Чему удивляешься? – не смутился Николай Петрович. – В кои-то веки дождался сына! Насмотреться не успел!
– Вовсе не удивляюсь. Сам не прочь с ним обняться.
Павел Петрович, как вчера, едва прикоснулся душистыми усами к щекам Аркадия и сел за стол.
– Где же твой приятель, Аркадий?
– Встаёт рано, ушёл куда-то. Не любит церемоний.
– Я заметил. – Павел Петрович, не торопясь, намазывал масло на хлеб. – Надолго он у нас?
– Заехал по дороге к отцу.
– Отец где живёт?
– Вёрст восемьдесят отсюда его именьице. Прежде был полковым лекарем.
– То-то я всё себя спрашивал, где слышал фамилию Базаров. – Павел Петрович повёл усами. – Помнится, в батюшкиной дивизии служил. Ну, а сам, собственно, что такое? – постарался произнести как можно надменнее.
– Что такое Базаров?! – возмутился Аркадий. – Нигилист.
– Как?! – воскликнул Николай Петрович, а нож Павла Петровича с кусочком масла повис над тарелкой.
– Ни-ги-лист!
– От латинского nihil – ничего? То есть ничего не признаёт?
– И никого не уважает, – настороженно добавил Павел Петрович.
– Ко всему относится критически, – возразил Аркадий.
– А это не одно и то же? – спросил Павел Петрович.
– Нет. Нигилист не склоняется ни перед какими авторитетами и ничего не принимает на веру.
– Вот как… Мы, люди старого века, полагаем, что без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить нельзя. – Павел Петрович намеренно произносил слово “принцип” на французский манер. – Прежде были гегелисты, а теперь вы, нигилисты. Позвони-ка, брат Николай Петрович, хочу мой какао.
– Дуняша! – прокричал Николай Петрович.
Но на террасу вышла Фенечка, молодая женщина двадцати трёх лет, с округлыми плечами, мягкотелая, с тёмными волосами и глазами, по-детски пухлыми губками и нежными ручками, одета в опрятное ситцевое платье и новую голубую косынку. Стыдясь и краснея, поставила перед Павлом Петровичем большую чашку какао и, опустив голову, встала у стола, оперевшись кончиками пальцев в столешницу.
Николай Петрович смутился, а Павел Петрович нахмурил брови.
– Здравствуй, Фенечка, – произнёс он намеренно строго.
– Здравствуйте-с, – ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, тихо вышла.
На террасе воцарилось молчание
– А вот и господин нигилист, – вполголоса произнёс Павел Петрович, изящно отпивая какао.
По саду, широко шагая через клумбы, шёл Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы, болотное растение обвивало тулью старой шляпы. В правой руке он держал небольшой мешок, в котором что-то шевелилось.
– Здравствуйте, господа. Извините, что опоздал. Сейчас вернусь. Надо этих пленниц пристроить.
– Пиявки? – брезгливо спросил Павел Петрович.
– Лягушки.
– Едите или разводите?
– Для опытов.
– Резать будете?
Базаров, не ответив, пошёл в дом.
– В принсипы не верит, только в лягушек, – ехидно усмехнулся Павел Петрович.
Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, а Николай Петрович украдкою пожал правым плечом. Павел Петрович, почувствовав, что сострил неудачно, заговорил о хозяйстве и новом управляющем, который накануне приходил жаловаться, что работник Фома “либоширничает” и совершенно от рук отбился.
Базаров сел за стол и стал поспешно и громко отхлёбывать чай. Братья молча смотрели на него, а Аркадий украдкою на них.
– Возле осиновой рощи болотце есть с бекасами. Можешь подстрелить, Аркадий? – наконец, проговорил Базаров.
– А вы не охотник? – осторожно спросил Павел Петрович.
– Нет.
– Физикой занимаетесь?
– Естественными науками вообще.
– Говорят, немцы преуспели по этой части.
– Наши учителя.
– Вы столь высокого мнения о немцах? – Павел Петрович спрашивал всё более изысканным тоном, доходившим до слащавости. Его аристократическую натуру возмущала развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел перед ним, аристократом, но ещё и дерзил.
– Тамошние ученые – народ дельный.
– О русских учёных вы, вероятно, не имеете столь лестного мнения?
– Пожалуй, что так.
– Похвальное самоотвержение, – Павел Петрович, выпрямив спину и закинув голову назад, попытался выразить высокомерие, что получилось ещё более впечатляюще благодаря повисшей паузе.
– Евгений Васильич, – нарушил тишину Николай Петрович, – по своей лекарской части – да вы и сами, предполагаю, знаете, я ведь тоже доктор – наши учёные потрудились немало. Вон, Николай Иванович Пирогов, хирург и анатом от Бога, создал военно-полевую хирургию, внедрил эфир и сортировку раненых на эвакуации. Предполагаю, вы знакомы с его “Топографической анатомией”.
– Опыты на замороженных трупах?.. – Базаров слегка кивнул.
– А вот Александр Михайлович Бутлеров не далее, как в прошлом году, сформулировал теорию химического строения органических веществ.
Базаров промолчал.
– А я пока пребывал в Европе, многое слышал о Лобачевском и его неевклидовой геометрии, – поддержал брата Павел Петрович. – Правда, не имел удовольствия ознакомиться.
– Ну эти хоть русские… – безразлично ответил Базаров. – А то наука наша, по сути, полна теми же немцами. Гельмерсен Андрей Иванович, сколько камней натащил с Урала да с Алтая. Андрей Иванович!.. Генрих Фридрих он! Карл Бэр по части эмбриологии… из русского только отчество Максимович! Немец Струве смотрит в наши телескопы. А правило Ленца тоже по-русски звучит? Хорошо, что не прибавили Эмилия Христиановича! Русак… Вот вам и наука наша!
– Так позвольте, немцы эти давно обрусели, – возразил Павел Петрович.
– Физиологию никто не отменял.
– Физиологией, увы не владею, – медленно произнёс Павел Петрович, думая, как выгоднее продолжить спор и побольнее уколоть Базарова для чего лицо его выражало полное безучастие и отдалённость в заоблачной выси. – Аркадий Николаич сейчас сказывал, вы ничему не верите и не признаёте никаких авторитетов? Нигилист, так сказать.
– Зачем признавать и чему верить? Скажут дело, докажут наукой – соглашаюсь, вот и всё. – Базаров зевнул, не прикрыв рот ладонью. – Да ещё сам проверю. А принимать на веру только потому, что кого-то записали в великие – пустое да бессмысленное. Чтобы поверить, надобно поначалу проверить!
Павел Петрович побледнел, и Николай Петрович почёл должным вмешаться:
– Как-нибудь подробнее побеседуем об этом предмете, любезный Евгений Васильич. И ваше мнение узнаем, и своё выскажем. Со своей же стороны, очень рад, что занимаетесь естественными науками. Слышал, Либих сделал удивительные открытия по удобрению полей. Можете дать дельный совет?
– К вашим услугам! Но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться, потом уже взяться за книгу, а мы ещё первой буквы в глаза не видали.
– Вот вы изволили сказать “сам проверю”. А как проверите Шиллера и Гётте? – вопрос Павла Петровича был обращён к Базарову, но он намеренно смотрел на Аркадия.
– Науками и опытами – никак, – продолжал безразлично отвечать Базаров. – Бесполезные мечтатели. Искусством своим только деньги наживают.
– Вот как?.. – Павел Петрович сделал вид, что засыпает и, едва приподняв брови, со вздохом произнёс: – Вы, стало быть, искусства не признаете?
– Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. Что толку в красивых фразах? Лучше сделать полезное, а не красивое. Чем быть поэтом, уж лучше стань сапожником. Сапоги выше Пушкина. Нечего стонать в поэтических строфах, лучше народу объясните, как жить надобно. А ещё лучше, если поэт, так напиши такое, отчего твоё искусство само и разрушится.
– Вот как изволите шутить… Верите только в науку… Очень хорошо-с. А насчёт других, в людском быту принятых постановлений, придерживаетесь такого же отрицательного направления?
– Только наука может исправить наше дрянное общество, а не ваш идеализм, метафизика да религия. Потому мы против крепостного права и сословий. Все должны быть свободными, равными, людьми, в конце концов, а не дамами с господами да бабами с мужиками.
– Свобода, равенство и братство… Французская революция… – протянул Павел Петрович. – А потом гильотина, террор и… снова монархия. Вы хотите Россию провести по такому же кровавому кругу? Увольте, уж лучше Пушкин, мечтания да догмы.
– Что разбивается, то и надобно разбить, чтобы расчистить почву для новых построек. Сначала народ освободим, а там уж разберёмся как его просвещать, – Базаров потерял вид безразличного собеседника и явно раздражался.
– Не лучше ли сначала народ просветить, а потом уж освободить, а не то, глядишь, потонут, как котята, в реках свободы или бунтом пойдут бессмысленным и беспощадным?
Подумав, Базаров небрежно бросил салфетку на стол и широким шагом ушёл в дом. Аркадий растерянно посмотрел ему вслед, потом на отца и дядю, медленно поднялся, испытывая неловкость, и последовал за другом.
– Пойдём, Павел, – промолвил Николай Петрович, будто искал у брата утешения или чуда, чтобы не было этого спора. – Беда жить в деревне, в дали от великих умов! Дурак дураком станешь. Стараешься не забыть, чему учили, читаешь, а – хвать! – оказывается, вздор, ты, мол, отсталый колпак. Что делать?.. Видно, молодёжь умнее нас.
Павел Петрович поднялся, повернулся на каблуках и не спеша вышел. Немного погодя и Аркадий молча последовал в дом. Николай Петрович проводил сына взглядом, поняв, насколько Аркадий теперь далёк от него, намного дальше, чем эта терраса от его комнаты.
Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким, худым человеком с чахоточным голосом и плутовскими глазами. На все замечания Николая Петровича он отвечал:
– Помилуйте-с, известное дело, пьют мужики, воруют-с.
Недавно заведённое на новый лад хозяйство скрипело, как домоделанная мебель из сырого дерева. Тем не менее Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и чувствовал, что нужно ещё вкладываться, но деньги почти перевелись, несмотря на всемерную помощь брата. К тому же хозяйственные дрязги наводили на Павла Петровича тоску, ибо он и сам не знал, как именно вести хозяйство. А Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о его практичности и всегда спрашивал совета:
– Я человек мягкий, слабый, век свой провёл в глуши, а ты долго жил среди людей, у тебя орлиный взгляд.
Павел Петрович не отвечал, отворачивался, не желая разуверять брата, и на сей раз поступил, как прежде: вернулся в свой изящный кабинет с камином, оклеенный красивыми обоями яркого цвета, с пёстрым персидским ковром с висевшим на нём оружием, ореховой мебелью, обитой тёмно-зелёным трипом, книжными стелажами из старого чёрного дуба в стиле эпохи Возрождения и бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе. Лёг на диван, заложил руки за голову и неподвижно смотрел в потолок. Встал, отстегнул тяжёлые занавески и снова лёг в полной темноте. Задремал. Снилась его безумная любовь к замужней княгине Нелли Р. Во сне, как и в жизни, она скончалась в умопомешательстве вдали от него.
Николай Петрович, в конце концов, махнул рукой на всё и побрёл к своему единственному утешению – домашнему очагу. По дороге отводил душу – вспоминал первую встречу с Фенечкой.
Года три тому назад, пришлось ему ночевать на постоялом дворе в отдалённом уездном городишке. Приятно поразила чистота и свежесть постельного белья.
– Уж не немка ли здесь хозяйка? – подумал, невольно произнеся вслух.
Оказалось, Арина Савишна – русская женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Разговорились за чаем. Понравилась её хозяйственность, ведь тогда он только что переселился в новую усадьбу и, не желая держать при себе крепостных, искал наёмных. Хозяйка пожаловалась на малое число постояльцев и тяжёлые времена и Николай Петрович тут же предложил поступить к нему экономкой. Арина Савишна, не долго подумав, согласилась. Муж у ней давно умер, оставив с единственным ребёнком Фенечкой семнадцати лет. Переехали в Марьино, поселились во флигельке и в доме Николая Петровича, наконец, настал отменный порядок. Но Фенечка редко выходила из флигелька, жила тихо и скромно. По воскресеньям в приходской церкви Николай Петрович замечал в сторонке тонкий профиль её беленького лица. Так прошло более года.
В одно утро Арина Савишна пришла к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, попросила помочь Фенечке: искра из печки попала в глаз. Он тотчас велел привести дочь. Фенечка от страха перед барином затряслась мелкой дрожью. Николай Петрович подвёл её к окну и взял обеими руками за голову. Осмотрел покрасневший, воспалённый глаз, тут же сам приготовил примочку и, разорвав на части свой платок, показал, как надо прикладывать. Фенечка постаралась тут же уйти, но мать строго приказала:
– Поцелуй ручку барина, глупенькая.
Однако Николай Петрович не подал руки и отчего-то сам поцеловал её в пробор.
Глаз вскоре вылечили, но мысли о Фенечке не оставляли Николая Петровича. Виделось её чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо, а на ладонях чувствовались мягкие волосы. Теперь в церкви он подолгу смотрел на неё и старался заговорить после службы, но она смущалась его взглядов и избегала бесед.
