Русская березка. Очерки культурной истории одного национального символа
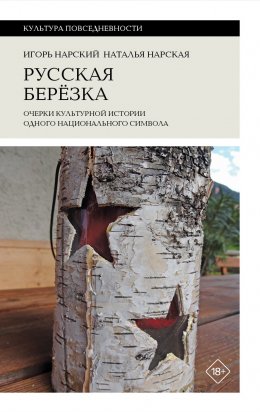
Редактор серии Л. Оборин
На обложке: берестяной настольный светильник, Австрия, 2017 (фото Н. Нарской).
© И. Нарский, Н. Нарская, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Памяти наших матерей
Очерк 1
«Только березку не трогай!»
Предисловие о перипетиях этого исследования (Игорь Нарский)
Наталья: С чего началась вся эта история?
Игорь: С легкого беспокойства.
Общий принцип теории действия в том и состоит, что исполненное действие отличается от задуманного.
А. Щюц, 1971[1]
Эта история началась давно, в разгар перестройки. Мы, 25-летние недавние выпускники истфака юного провинциального университета, частенько собирались в гостеприимной квартире одного из нас, Бориса, и его милой жены Оксаны. То было время больших надежд и открытий. Мы жадно читали и живо обсуждали публикации в центральных газетах и толстых журналах, открывали новые имена и старательно наверстывали знакомство с авторами и текстами, ранее запрещенными. Борис, образованный, пожалуй, лучше всех нас, был душой компании, главным спикером и модератором наших дискуссий. Он додумывал мысли до конца и высказывался однозначно и решительно. В то время как начинающий директор школы Юрий сомневался, можно ли рассказывать школьникам о неожиданных разоблачениях в СМИ непредсказуемого советского прошлого, Борис настаивал на том, что о необратимых переменах в советской политике можно будет говорить только тогда, когда наши войска будут выведены из Афганистана. К его мнению мы прислушивались.
Декоративное панно «Березка». Конец 1970-х – 1980-е
Иногда застольные разговоры и танцы до упаду прерывались ради нового фильма. Не помню, смотрели ли мы вместе литовский фильм «Воскресный день в аду», снятый в 1987 году Витаутасом Жалакявичюсом по собственному сценарию совместно с Альмантасом Грикявичусом и Автандилом Квирикашвили. Фильм повествует о двух беглецах из нацистского лагеря для советских военнопленных, которые вынуждены один день летом 1944 года провести на балтийском взморье, на пляже для отдыхающих офицеров вермахта и СС. В картине есть сцена, где не владеющий немецким Денис (Владимир Богин) вынужден танцевать среди берез с пьяной дочерью епископа Ингеборгой (Ингеборга Дапкунайте), которая едва ворочающимся языком рассказывает не понимающему ее советскому моряку: «Нравятся тебе березы?[2] Мой жених писал из России, что там березы, как у нас. Представляешь? Немецкие березы в русской пустыне…»[3]
Не помню я и того, обсуждали ли мы картину в гостях у Бориса и Оксаны. Но несколько дней спустя после трансляции фильма Борис рассказал мне (мы тогда работали вместе, вернувшись после защиты кандидатских в alma mater) о разговоре с женой. В своих рассуждениях о незавидной судьбе советского патриотизма он упомянул и сцену из фильма, в которой образ «русской березки» оказался не столь уж непоколебимым. Спокойно относившаяся к прочим критическим высказываниям мужа Оксана неожиданно вспылила: «Только березку не трогай!» В тот раз мы беззлобно рассмеялись, да и только. А само выражение стало для нас метафорическим маркером для определения границы, заступать за которую в дискуссии нельзя.
Разговор в конце 1980-х я считаю первым импульсом к проекту, которому посвящена эта книга. Именно тогда, вероятно, я обратил внимание и на собственное внутреннее беспокойство, вызванное покушением на «русскость» березы, и на сильную эмоциональную реакцию участницы диалога, резко оборвавшей его.
Вскоре мне вспомнился эпизод из фильма Жалакявичюса и рассказ Бориса о разговоре с Оксаной. В вагоне московского метро я, как многие в те годы, коротал время за книгой. В тот раз это была повесть Сергея Довлатова «Заповедник». На первых страницах я наткнулся на резкое высказывание писателя о любви к березке: «Я думаю, любовь к березе торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма…»[4] Кажется, тогда я впервые подумал, что любовь к березке в нашей стране достойна специального исследования.
Но сам я исследовать корни привязанности соотечественников к этому дереву не собирался. Лет через двадцать после знакомства с фильмом Жалакявичюса и повестью Довлатова у меня состоялся стихийный разговор во время случайной встречи в салоне самолета. Осенью 2009 года, во время полета в Москву, я расспрашивал о планах на будущее занявшего соседнее кресло моего бывшего студента и аспиранта Александра Фокина. Вот тогда-то я не вполне серьезно посоветовал ему когда-нибудь заняться историей превращения березы в «русское дерево». Через несколько месяцев на небольшой конференции, в которой мы оба принимали участие, я с радостным удивлением услышал выступление Александра о березе как неофициальном символе России. К его вскоре опубликованному тексту мы еще вернемся[5]. Но мне помнится ощущение некоторого разочарования по поводу незначительности и предсказуемости результатов первого подхода моего ученика к предложенной теме.
В следующий раз к вопросу о березе как возможному исследовательскому объекту я вернулся еще через несколько лет. Во время работы в Мюнхене над книгой о советской хореографической самодеятельности[6] у меня произошел разговор с профессором восточноевропейской истории Мартином Шульце Весселем о планах на будущее. На дворе стоял 2014 год, и я подумывал о длительном отъезде из страны. Мартину я назвал тогда несколько тем, которые привлекли бы меня в качестве больших исследовательских проектов. В числе первых в моем списке было две: культурная история березы и история обонятельной культуры в России. Вторая показалась моему собеседнику намного интересней первой, и это решило дело. Я безо всякого сожаления отложил исследование «русского дерева» в пользу ольфакторной истории СССР. Историей запахов я занимался несколько лет, но после отклонения двух заявок в 2015 и 2016 годах от дальнейшей работы над этой действительно богатейшей жилой отказался, ограничившись несколькими выступлениями и программной главой в монографии[7].
Примерно с осени 2017 года мой интерес к «березовому проекту» стал приобретать более систематический характер. Я замещал в то время в Мюнхенском университете им. Людвига и Максимилиана профессора Шульце Весселя и для каждого семестра должен был предлагать новые учебные курсы. На летний семестр 2018 года я запланировал семинарский курс «Береза в русской культуре XIX–XX веков, или История символов русского патриотизма». Центральной задачей курса было обсуждение вопроса о том, каким образом береза превратилась в России и в русскоязычных сообществах за рубежом в объект эстетического любования, в инструмент национального воспитания, патриотической мобилизации и ностальгии, с одной стороны, и в аргумент критики квасного патриотизма и китча, с другой. На примере этого конкретно-исторического кейса хотелось больше узнать о возникновении, развитии и функционировании русского национализма, его языка и связанных с ним образов. С того момента я начал собирать все, что могло пригодиться для обсуждения со студентами. Меня интересовали научные, научно-популярные, художественные, поэтические и фольклорные тексты о березе; аудиовизуальные репрезентации березы в качестве дерева, лейбла и символа на картинах, плакатах, в художественных фильмах, музыке; дидактические материалы для внеклассных патриотических занятий в современной российской школе; ностальгические или ироничные высказывания эмигрантов о березе в социальных сетях, недоуменные реакции туристов из России на то, что береза произрастает и любима не только в России. Моя жена Наталья, оставшись в России, с энтузиазмом включилась в поиски материалов и очень помогла мне в подготовке курса.
Хронологически центр тяжести впервые проводившегося в 2018 году курса лежал в XIX столетии. Я был твердо уверен, что в советское время культ березы не нужно было изобретать, поскольку он, как я полагал, вполне оформился до 1917 года и был в готовом виде позаимствован советскими властями. Однако во время работы со студентами я еще раз удостоверился, что преподавание помогает исследователю не только для презентации промежуточных и окончательных результатов научных проектов, но и в самом начале исследования, когда только-только формулируется постановка вопросов и комплектуется источниковая база. Стремительные перемены в моей исходной концепции отразились в прощальном выступлении перед коллегами в Мюнхене весной 2019 года, когда я покидал университет. Для итогового публичного доклада я выбрал «березовую» тему, решив в обозримой перспективе заняться ее исследовательской разработкой. Стержневая идея доклада заключалась в том, что превращение березы в «русское дерево» произошло не в царской России, а в СССР, и особыми импульсами для этого стали Великая Отечественная война и поздний сталинизм. При этом превращение березы в символ России виделось мне как своего рода государственное мероприятие. Я надеялся в этой связи, например, найти партийные, правительственные и министерские решения по поводу присвоения названия «Березка» женскому танцевальному ансамблю (1948) и сети валютных магазинов (1961).
Мой путь из Мюнхена лежал в Ольденбург, где планировалось двухлетнее преподавание в университете под началом профессора Мальте Рольфа. Одновременно я должен был совместно с моим шефом составить заявку на трехлетнее финансирование исследования со стороны главного немецкого научного фонда – Германского исследовательского сообщества. В основу проекта были положены идеи, выработанные в Мюнхене и обогащенные чтением литературы об истории лесов, семинарскими занятиями с ольденбургскими студентами и докладами на коллоквиумах в разных странах.
Два обстоятельства вмешались в исследовательские планы. Во-первых, в результате пандемии коронавируса я с весеннего семестра 2020 года вынужден был преподавать в Ольденбурге дистанционно, вернувшись в Россию. Во-вторых, в конце 2020 года от предполагаемого грантодателя пришел мотивированный отказ. В результате я не только остался дома, но и в обстановке вынужденной самоизоляции приступил в соавторстве с женой к написанию книги о мюнхенском блошином рынке, любительское исследование которого начал во время работы в Мюнхене в 2017–2919 годах. Этой работе было отдано два с лишним года[8]. В итоге проект о культурной истории березы в очередной раз был отложен.
Итак, у этой книги есть предыстория длиною в четверть века. Предыстория, полная перипетий, крутых поворотов, отступлений, открытий, надежд и разочарований. Конечный пункт этой исследовательской Одиссеи невозможно было предугадать. То, что в конце концов получилось, серьезно отличается от намерений и планов, которые вынашивались в разные годы, от гипотез и образов, грезившихся в разных «гаванях» и манивших в неведомые дали. Пора перейти к тому, что случилось после решения наконец-то приступить к созданию большого исследовательского текста.
Очерк 2
«С чего начинается Родина?»
Вводные ориентиры
Игорь: Я настаиваю, что превращение березы в национальный символ россиян произошло лишь во второй половине ХX века, в годы позднего сталинизма и особенно в период оттепели и «долгих» 1970-х.
Наталья: Да нет же, ее история гораздо старше и богаче.
Русский – тот, кто любит березы.
О. Грязнова, 2012[9]
– Ты откуда?
– Из Германии.
– Правда?
– Да.
Он сел рядом.
– Кто научил тебя арабскому? Муж? – спросил он.
– Да.
– Ты замужем?
Я кивнула.
Исмаил вздохнул:
– Я тоже женат. Тяжело. А ты совсем не похожа на немку.
– А как выглядят немцы?
– Понятия не имею.
– А русские, как выглядят они? – спросила я его.
Он пожал плечами:
– Как люди, которые любят березы.
– А американцы?
– Оглянись, их полно в Палестине.
– А палестинцы?
– Как люди, которые привыкли долго терпеть[10].
Этот диалог 27-летняя немецкая писательница Ольга Грязнова вложила в уста главной героини своего дебютного романа Маши Коган и ее нового случайного знакомого – палестинца, бывшего хамасовца Исмаила, которого Маша только что встретила в Рамалле, арабском городе в дюжине километров от Иерусалима. Азербайджанская еврейка Маша Коган, подростком бежавшая в Германию из Нагорного Карабаха, от армянско-азербайджанской войны, принадлежит к поколению молодых мигрантов, которые постоянно пересекают границы, не страдают от ностальгии, но и нигде не чувствуют себя дома. Как выразилась журналистка накануне выхода романа Ольги Грязновой,
они нигде не чужие и нигде не укоренились, они передвигаются так, будто Париж, Франкфурт, Бейрут, Тель-Авив и Нью-Йорк соединены вращающимися дверями, и иногда разговаривают друг с другом так, будто листают свои паспорта[11].
Название романа Грязновой, «Русский – тот, кто любит березы», на первый взгляд, абсолютно не отражает его содержания: в нем нет ни одного русского персонажа, действие романа происходит в Германии и Израиле. Тема березы встречается в романе дважды – в эпиграфе, в качестве которого начинающая писательница взяла реплику Александра Вершинина из пьесы Чехова «Три сестры» о том, что «милые, скромные березы» он любит «больше всех деревьев»[12], и в приведенном выше диалоге в конце книги.
Роман был сразу замечен. Его встретили многочисленными рецензиями и наградили премиями. Новую волну популярности роман Грязновой приобрел благодаря его экранизации под прежним названием в 2022 году. Относительно «березовой темы» в фильме есть две новации. Фразу Исмаила сценарист Буркхардт Вундерлих и режиссер Пола Бек вложили в уста главной героини, и кроме того, в Израиле ей встречается береза, в которую она вкладывает записку, используя дерево как Стену плача.
Декоративное панно «Пейзаж». 1980-е
Интересно, однако, что ни в романе, ни в фильме, ни в многочисленных рецензиях и интервью с автором причина столь странного выбора названия для книги не объясняется[13],[14]. За неимением прямых объяснений ограничимся предположениями. Для немецкой публики автор романа – русская, хотя родители Грязновой из Баку въехали в ФРГ в качестве контингентных еврейских беженцев. Поэтому название книги немецкие читатели и критики, возможно, восприняли как элемент экзотического внутрироссийского дискурса, не нуждающийся в рациональном объяснении. Часть русскоязычной публики разочаровало содержание фильма, но само название было признано «оригинальным и интригующим» и не вызвало вопросов[15].
Эмигрантская ностальгия по «русским березкам», как и другие стереотипные представления о «русскости», наверняка не составляла тайны для Грязновой. Однако очевидно, что пресловутую слабость русских к березкам романистка не разделяет. В одном из интервью она даже прибегает к образу березы как символу утраты корней[16]. Эфемерность любви к березам в качестве маркера национальной идентичности очевидна и из диалога Маши с Исмаилом. Действительно, палестинец не может по внешнему виду определить немца. Как узнать американцев, которых вокруг полно? Или привыкших терпеть палестинцев? Или, наконец, русских, если они в данный момент не обнимаются с березками, как Егор Прокудин в «Калине красной» Василия Шукшина, и не танцуют в русских сарафанах с березовыми ветками в руках, как плясуньи из ансамбля «Березка»?
И все же. То, что Ольга Грязнова выбрала в качестве названия романа иррациональный стереотип, неубедительный для нее, но настолько привычный и массово распространенный, что он не нуждается в объяснении, правомерно использовать в качестве отправного пункта для расследования происхождения и бытования расхожего клише.
Листопадное дерево береза широко распространено в Северном полушарии и символизирует север так же, как пальма является символом Южного полушария. В мире известно более ста видов березы, половина из которых встречается в России. Поэтому береза как растение и символ входит в культуру повседневности, в мифологию и систему ритуалов различных народов. Почтенный срок знакомства человечества с березой отразился в древней ботанической лексике. Название березы сходно не только в славянских языках (бел. «бяроза», укр. «береза», болг., макед. и србх. «бреза», словен. bréza, чеш. bříza, словац. breza и др. от праславянского *berza), но и у других обитателей Северного полушария (англ. birch, латыш. bērzs, лит. beržas, нем. Birke, норв. bjørk, швед. Björk и др.). Все они имеют общую (в том числе для праславян) индоевропейскую основу *bherәĝos, указывающую на сияние и белый цвет[17].
Итак, береза в течение веков была хорошо знакома жителям всего Северного полушария. Как же получилось, что в России она почитается как русское дерево, которое не растет за пределами страны? Почему стереотип о березе как излюбленном дереве для русских, подобно дубу для немцев, клену для канадцев и лавру для греков, в середине ХX века, как мы еще узнаем, разделяли жители чуть ли не всей планеты? Почему образ «русской березы» представляется настолько естественным, архетипическим, что не нуждается в объяснении ни в массовой культуре, ни в науке? Этим вопросам посвящена наша книга.
Представление о том, что береза символизирует «русскость», является не только бытовым стереотипом, по-разному оцениваемым, но распространенным в эмигрантской среде, внутрироссийском патриотическом и критическом дискурсах. Тезис о «русской березе» и ее вневременной, «архетипической» связи с «национальным характером» и даже «русской душой» встречается, например, в немецких научно-популярных и (около)антропософских публикациях о культурной истории деревьев[18]. Эти работы не входят в историографическую базу нашего исследования, но представляют собой любопытный факт успеха мифа о березе как о «русском дереве» за пределами России.
Между тем и в солидной научной литературе встречаются отсылки к этому стереотипу, не нуждающемуся, видимо, ни в каких комментариях. Характерно, например, что береза как символ русского, пусть и с долей иронии, встречается в названиях серьезных исследований о сексуальной и массовой культуре в России, авторы которых в самих текстах не обращаются к этому образу[19].
Вероятно, распространенность представления о березе как об одном из чуть ли не естественных и вневременных символов России объясняет, почему исследований, историзирующих этот феномен, очень мало. Монографий на эту тему до сих пор вообще нет[20],[21]. Исторический анализ «изобретения» и «успеха» березы как русского национального символа и ее значения для трансформации представлений о коллективной идентичности еще не проводился.
Тем не менее предлагаемая читательскому вниманию книга могла опереться на исследования по ряду тем, имеющих прямое или косвенное отношение к истории русской идентичности. Несколько научных текстов о березе и ее роли в крестьянском быту и российской культуре, написанных историками, лингвистами и этнологами, все же имеется[22]. К сожалению, в одних текстах о березах интересующий нас вопрос об изобретении и рецепции образа «русского дерева» вообще не поднимается. В других он решается с привлечением известного клише о любви русских к березке. Третьи содержат антикварное собрание разрозненных фактов о популярности березы в России. Отдельные заслуживающие внимания идеи требуют проверки. Так, плодотворный тезис А. А. Фокина о превращении березы в символ благодаря ее репрезентации в различных пластах русской культуры остается гипотезой и нуждается в верификации[23].
Кроме того, существуют исследования, посвященные использованию названия «Березка» для нескольких российских институций. Это прежде всего основанный в 1948 году ансамбль народного танца «Березка» и одноименная сеть магазинов для иностранцев, созданная в 1961 году[24]. Есть основания полагать, что советская культурная дипломатия также сыграла важную роль в распространении клише «русской березки» в Советском Союзе и за рубежом[25].
Важный для данного исследования блок составляют труды о деревьях, лесе и пейзаже в рамках культурной истории[26], истории лесного дела[27], экологии[28], «народной» культуры[29], литературы[30], живописи[31]. Эти работы позволяют отказаться от экзотизации «национальной карьеры», которую пережила береза в России, и вписать ее в историю изобретения национальных ландшафтов в XIX–XX веках. Исследования повседневной культуры и фольклора русских крестьян показывают центральную (но не исключительную) роль березы в деревенских обычаях и праздниках дореволюционной России. Кроме того, литература по истории лесного дела позволяет предположить, что история превращения березы в национальный символ в известной степени была связана с массовой хищнической вырубкой лесов в европейской части Российской империи и угрозой исчезновения лесов, в которых береза и осина быстро заполняли пустоши и изменяли типы древостоя.
Следующую группу трудов, необходимую для успешной реализации исследования, образует обширная литература по истории и семантике русского национализма и советского патриотизма. Этот тематический блок литературы дает представление о возникновении и распространении национальных образов и символов в царской империи и СССР. Исследования показали, что до Октябрьской революции русский национализм вряд ли смог приобрести широкое общественное влияние. Его роль в формировании коллективной русской национальной идентичности под эгидой СССР, напротив, не вызывает сомнений[32].
Механизмы, с помощью которых создавался миф о «русской березе», невозможно исследовать без обращения к работам о культурной политике и массовой культуре в СССР[33]. Знакомство с ними позволяет выдвинуть гипотезу, что их институты были гораздо более успешны в популяризации символов, формирующих идентичность, в XX веке, чем в XIX столетии.
И все же, несмотря на обилие полезной для данной книги исследовательской литературы, систематический анализ метаморфоз березы в XX веке в качестве «русского дерева», выходящий за рамки отдельных тем, сюжетов и кейсов, остается нерешенной задачей[34].
Предметом исследования в книге является становление и распространение «русской березки» как национального символа России. В центре внимания находится период с 1940-х годов до распада Советского Союза, поскольку, согласно главной гипотезе исследования, именно эти десятилетия оказались определяющими в наделении березы символическим национальным смыслом. Однако хронологические рамки событий и процессов, подлежащих рассмотрению, значительно шире. Следы бытового и символического контакта с березой уходят в городскую российскую культуру XIX века и в сельский быт и мифологию значительно более раннего времени. С другой стороны, пунктирно прослежены последствия досоветских и советских процессов национальной символизации вокруг образа березы в современной России.
Представляется, что изучение возникновения, распространения и циркуляции мифа о березе как национальном «русском дереве» открывает новые перспективы в исследовании концепций российской идентичности и ее символического языка. Как происходило их формирование и когда они утвердились? Какое значение имело дореволюционное наследие в изобретении советской традиции? Какую роль в этом процессе играли государство, творцы культуры и реципиенты их посланий? На примере образов березы можно также выявить преемственность и разрывы в национальной символике.
Размышления вокруг перечисленных вопросов определили «архитектуру» книги. В ней пятнадцать очерков, объединенных проблемно-хронологическим критерием. Каждый очерк (за исключением двух вводных) относительно самостоятелен и посвящен одному конкретно-историческому сюжету, рисующему ту или иную страницу перипетий березы-дерева и/или березы-образа в России XIX–XX веков. В каждом из этих сюжетов поднимаются следующие вопросы: кто участвовал в процессе «национальной прописки» березы и, таким образом, насколько централизованно или децентрализованно он протекал? Как развивалась семантика образов березы? Что обеспечило благоприятную конъюнктуру для превращения образа березы в позитивный символ Родины? В каждом из очерков, насколько позволили источники, представлены создатели образов березы, их репрезентации и рецепция. В итоге во всех очерках читатель встретится с событиями, институтами, идеями и людьми, причастными к изобретению «русского дерева».
За вводно-ориентирующими очерками следует очерк о репрезентациях березы на страницах журнала «Работница». В нем читатель узнает, как из систематического чтения журнала родились или подтвердились некоторые гипотезы и оформились сюжеты, рассмотренные в других очерках. В четвертом очерке авторы забегают далеко вперед и фактически рассказывают историю триумфа «русской березы», начиная с конца – с критического дискурса о березе среди части позднесоветской интеллигенции. В этом очерке мы предварительно обозначаем, откуда этот дискурс родился и что же в репрезентациях березы раздражало их критиков. Очерки с пятого по одиннадцатый построены в хронологическом порядке, насколько это позволял собранный материал. В них рассматривается береза как объект крестьянского быта и мифотворчества, лесоводческого дискурса и репрезентаций национального ландшафта в литературе и искусстве России XIX-ХX веков, дискурсов о национальных ценностях и опыте Великой Отечественной войны, а также роль березы в культуре эмигрантской ностальгии. Двенадцатый и тринадцатый очерки посвящены институтам, которым были присвоены названия «Березка» и которые, как увидит читатель, сыграли важную роль в формировании современных представлений о березе как «русском дереве». В завершающих очерках подводятся итоги исследования и делается экскурс в метаморфозы образов березы в постсоветской и современной Российской Федерации.
Постановка вопросов и структурная организация книги определили выбор исследовательской оптики, инструментария для анализа и изложения материала. Прежде всего, в книге использована концепция коллективной идентичности, в которой символы, объединяющие сообщество, играют ключевую роль. Исследование ведется в соответствии с подходом, согласно которому социальная и культурная идентичность понимается как продукт интерсубъективной коммуникации и социальных взаимодействий. Сконструированные символы составляют основу специфического для группы кода, который создает коммуникационные мосты между очень разными индивидами «воображаемого сообщества». Результатом таких символических «соглашений» между носителями идентичности является осмысленный «кодифицированный мир». Символы, организованные в согласованный «кодифицированный мир», обеспечивают генезис и существование «воображаемых сообществ»[35]. Такое понимание функционирования коллективного самоопределения важно для изучения механизмов создания и восприятия образов березы как одного из маркеров русской национальной идентичности.
Для изучения репрезентаций образа березы в массовой культуре полезным концептом является представление о современных мифах Ролана Барта[36]. Специфика мифа как вербального или визуального послания состоит, согласно Барту, в том, что он стремится «преобразовать историческую интенцию в природу, преходящее – в вечное». Функция мифа состоит в том, чтобы очистить вещи, осмыслить их как «нечто невинное, природно-вечное», чтобы констатировать и воспевать, чтобы скрыть политическое намерение, а не анализировать, объяснять и разоблачать его. При этом Барт разделяет мифы на сильные и слабые, в зависимости от того, сколько усилий нужно приложить для превращения рукотворного в естественное, политического в «невинное». Он приводит пример дерева, для мифологизации которого не нужно прилагать слишком много усилий, создавая искусственную природность: его политическая подоплека «уже вычищена, отделена от нас вековыми напластованиями метаязыка» и выцвела, как старая краска[37].
Использование природных элементов в качестве символов создания коллективной идентичности – широко распространенная практика национальных движений. Характеристики, приписываемые ландшафтам, рекам, горам и деревьям, являются культурными суждениями. По убеждению автора культурной истории леса Саймона Шамы, «многие базовые идеи нашей современной жизни – нация, свобода, идеология предпринимательства, диктатура – применяют топографию, чтобы придать своим главным тезисам видимость естественности»[38]. Описанные подходы были ориентирами при определении круга используемых в исследовании источников и при интерпретации содержащейся в них информации.
Структурными единицами книги являются автономные очерки. Поэтому историографическая основа и источниковый комплекс для каждого из них также различаются. Эти различия продиктованы, во-первых, уровнем нашей исследовательской компетенции. Сюжеты, требующие специальных знаний, например в области лингвистики, фольклористики, этнографии, лесоводства и искусствоведения, сконструированы с опорой на исследования специалистов[39]. Во-вторых, состав источников, использованных в отдельных очерках, зависит от степени изученности той или иной темы. Так, очерк о валютных магазинах «Березка» основан на исследовании Анны Ивановой[40] с акцентом на расследовании семантических особенностей образа березы в 1950–1980-е годы. Практически не разработанный историками сюжет об ансамбле танца «Березка», напротив, основан преимущественно на архиве этого танцевального коллектива (РГАЛИ. Ф. 2934). В-третьих, круг привлеченных к исследованию источников определяется спецификой изучаемой темы. Например, очерк с обзором репрезентаций березы на страницах журнала «Работница» почти полностью опирается на публикации из этого журнала. В очерках с седьмого по одиннадцатый, в которых речь идет о формировании образов березы в литературе и искусстве, более интенсивно использованы поэтические и живописные артефакты.
Вместе с тем, несмотря на специфику источниковой базы разных очерков, есть сходство в подходах к их организации. Из-за необозримого количества источников, в которых можно было бы найти ценную информацию, а можно было и ничего не найти, пришлось использовать их выборочно и с различной интенсивностью. Физически невозможно, например, не только систематически исследовать 170 000 единиц хранения и оцифрованных текстов, изображений, аудио– и видеоматериалов, так или иначе репрезентирующих березу, которые доступны читателям Российской государственной библиотеки, но и шапочно познакомиться с ними. Обилие артефактов и упоминаний березы в СМИ, художественных, публицистических, научно-популярных текстах, в дневниках и воспоминаниях демонстрируют приложения к тексту исследования[41]. С другой стороны, как выяснилось (и наглядно показано в приложениях), российские источники по времени создания распределены крайне неравномерно. Они чаще относятся к ХХ столетию, чем к XIX, а в ХX веке сосредоточены преимущественно во второй его половине. Там, где, исходя из привычных стереотипов, ожидались программные и серийные репрезентации березы – в фольклоре, классической литературе и живописи, – приходилось вести поиски с лупой в руке, как криминалисту на предполагаемом месте преступления. Применительно ко второй половине ХX века пришлось изменить масштаб исследования – сменить, переворачивая метафору микроисториков, микроскоп на телескоп, изучать не отдельные артефакты, а совокупности, меньше дифференцировать, больше обобщать. В результате мы воспользовались археологическим методом, к которому в аналогичной ситуации несметных источниковых кладов в неопределенных местах залегания прибегнул исследователь «советского века» Карл Шлёгель. Принцип работы историка недавнего (советского) прошлого подобен закладке разведывательных шурфов. Такой способ работы связан с отсутствием точного плана действий на местности и с неизбежным риском не найти ничего. Шлёгель отказывается от применения каких-либо ограничений, систематизаций или иерархизаций в процессе сбора, отбора и интерпретации материала. Вместо этого, по его мнению,
гораздо интереснее и эффективнее начать работу в нескольких местах и в разных направлениях и посмотреть, где будет больше находок. Собственно, так и начинается археологическая полевая работа, которую можно было бы пропустить, если бы заранее знать, где именно зарыто сокровище[42].
Но такая работа «на ощупь» неизбежно пронизана субъективизмом исследователя, поскольку опирается на его личный опыт, знания, темперамент и интуицию. Чтобы ограничить своеволие при конструировании истории «русского дерева», сведения, почерпнутые в исследовательской литературе, по возможности перепроверялись, подкреплялись или подвергались сомнению на основе вербальных и визуальных источников (в том числе архивных), включая литературные тексты и произведения (кино)искусства. Далее информация исследований и первичных источников, найденных в «шурфах», отбиралась и оценивалась с определенного угла зрения: она тщательно просеивалась с точки зрения важности для развития образов березы и для дискурсов о березе как о растении, материале и символе. В связи с этим на первое место среди источников выходят данные из средств массовой информации как важнейшего канала массовой культуры по продвижению концепций (национальной) идентичности. В книге используются данные интернет-хранилищ литературных и публицистических текстов («Национальный корпус русского языка»), изображений, отложившихся в музеях (Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, «Госкаталог.рф») и на частных интернет-порталах (например, сайт «Советская живопись»). Большим подспорьем в работе с материалами СМИ и поэтическими текстами оказались полнотекстовые базы данных периодических изданий ИВИС (East View Information Services), а также подборка более шестисот стихотворений и песен о березе в блоге челябинских библиотек «ВО!круг книг»[43]. Кроме того, в зависимости от исследовательской задачи, обзору или анализу подлежали (интернет–)публикации отдельных литературных и изобразительных произведений, научно-популярные, публицистические, пропагандистские материалы центральных и местных советских газет и журналов, художественные фильмы. Для изучения рецепции в российском обществе образа березы как «русского дерева» привлекаются публикации читателей в прессе, а также интернет-платформа личных свидетельств (сайт «Прожито»).
Все эти источники, как нам представляется, дают информацию о событиях и кругах, в которых продвижение березы в качестве русского национального символа было принято советской общественностью как (воз)рождение или (пере)открытие, казалось бы, знакомого символа или, напротив, отвергнуто ею как циничная манипуляция со стороны советских правителей и функционеров от культуры.
Признание того, что представленные в книге очерки в значительной степени основаны на данных из трудов специалистов в области наук об обществе и культуре (а отчасти и наук о природе), может вызвать у читателя закономерный вопрос о новизне изложенных здесь историй и идей. На этот вопрос можно ответить следующим образом. Мультиперспективный подход в рамках одной книги впервые применен к тематическим сюжетам, которые отчасти хорошо изучены предшественниками, но до сих пор почти всегда рассматривались порознь. Это оправдывает надежду на получение нового знания, поскольку позволяет на примере «русской березы» сфокусироваться на выявлении участников и реципиентов российско-советской символической политики и таким образом визуализировать преемственность и разрывы в формировании русской национальной идентичности в СССР и вплоть до наших дней.
Несколько слов необходимо сказать о разделении труда между соавторами. Тексты писались, обсуждались, переписывались в ходе совместных бдений за компьютерами, в бесконечных спорах, следы которых отражены – не дословно, конечно – в коротком обмене репликами под названием каждого очерка. Книга создавалась в живом обсуждении, поэтому ее разделение на тексты, вышедшие из-под пера каждого из соавторов, за исключением двух очерков, невозможно. Вместе с тем можно разграничить вклад каждого из нас в процесс сбора и обработки материала. Работа в архиве и интерпретация отдельных текстов осуществлялись Игорем Нарским. Работа с базами данных, их количественная обработка и анализ составляли сферу компетенции Натальи Нарской.
Читатель знает, что (пред)история этого проекта растянулась на три десятилетия и вошла в решительную фазу во второй половине 2010-х годов. Замысел удалось реализовать благодаря любознательности студентов, заинтересованности и профессионализму архивистов и библиотекарей, коллег и друзей. За последние годы проект получил множество важных импульсов от коллег и студентов в Мюнхене, Ольденбурге, Тюбингене, Красноярске, Перми (дважды), Ереване, Гамбурге, Москве и Челябинске (трижды). Всем им мы глубоко признательны за интерес, терпение, важные вопросы и критические замечания. Особо хочется поблагодарить друзей и коллег, которые организовывали доклады, обсуждали концепцию, читали, редактировали и поддержали тексты заявок в фонды, знакомились с рукописью или ее фрагментами и помогали разобраться с вопросами, в которых наша компетентность недостаточна для решения поставленных в книге проблем. Это Дитрих Байрау, Алексей Берелович, Константин Богданов, Екатерина Болтунова, Галина Егорова, Илья Кукулин, Мария Майофис, Юрий Немировский, Елена Осокина, Павел Рабин, Борис Ровный, Мальте Рольф, Юрий Слезкин, Павел Уваров, Александр Фокин, Йорн Хаппель, Андреа Цинк, Беньямин Шенк, Карл Шлёгель, Константин Шнейдер, Мартин Шульце Вессель, Галина Янковская. Многое, что, на наш взгляд, удалось в этой книге, вдохновлено общением с ними. За все, что не удалось, ответственность лежит исключительно на нас.
Искренняя признательность адресуется сотрудникам и сотрудницам архивохранилищ и библиотек в Москве, Мюнхене и Челябинске, из которых были извлечены важные для исследования материалы. Отдельных слов благодарности заслуживают создательницы блога Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина и библиотек Челябинска «ВО!круг книг» Ирина и Ольга Беляевы – не только за публикацию подборки стихов и песен о березе, но и за помощь в их библиографическом описании.
Превращение рукописи в книгу сродни алхимическому процессу. Мы благодарны Ирине Прохоровой, вновь оказавшей нам честь опубликовать плод наших изысканий в издательстве «Новое литературное обозрение». Сердечная признательность и восхищение адресуются «наколдовавшим» рождение книги редакторам Татьяне Тимаковой, Льву Оборину, корректорам Светлане Крючковой и Ольге Семченко, верстальщику Дмитрию Макаровскому, художнику С. Тихонову.
Мы очень благодарны руководству и сотрудникам Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск) за предоставленные для оформления заставок к очеркам златоустовские гравюры, хранящиеся в музейных фондах. Гравюры на металле, в истории которых соединяются традиции граверов из Золингена XVIII века, уральских мастеров-оружейников XVIII-ХХ столетий и советских художников декоративно-прикладного искусства, в 1950–1980-е годы охотно запечатлевавших на декоративных панно изображения берез, представляются артефактами, которые как нельзя лучше иллюстрируют исследование на заданную тему.
Многолетние усилия, размышления, мучения и поиски подошли к концу. Пусть читатель сам судит, насколько урожайным или бесплодным, убедительным или поверхностным оказался их итог. Ролан Барт утверждал, что книга, оторвавшись от «производителя», начинает жить собственной жизнью: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора»[44]. Как и положено авторам, мы готовы компенсировать рождение читателя прощанием со своим детищем, то есть собственной символической смертью.
Очерк 3
«Стоят березы русские, как матери…»
По страницам журнала «Работница»
Наталья: Зря мы не начали с чего-нибудь более раннего. Например, с фольклора или хотя бы с литературной и живописной классики XIX века.
Игорь: Историку правильнее идти от очевидного факта (в данном случае – безусловного успеха превращения березы в русский национальный символ) к его предполагаемой причине, а не от якобы известной причины к якобы его следствию. Иначе мы будем иметь дело с двумя неизвестными.
Б. Куняев, 1975[45]
- В женщинах есть что-то от пейзажа,
- От степей, холмов, лесов и неба,
- От реки, от озера и моря…
- Значит, наши предки были правы:
- Женщина и Родина – одно!
В 2020 году, в канун пандемии, мы приступили к просмотру периодики для будущего исследовательского проекта. Мы не представляли себе, с чего начать, и выборочно стали листать толстые литературные журналы – «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность» и ряд других. Не найдя сколько-нибудь заметных следов березы в советских литературных текстах, мы заглянули в журналы «с картинами» – «Огонек», «Крокодил», «Советский экран», «Мурзилка». Столкнувшись с аналогичными результатами, мы решили не выборочно, а систематически проработать несколько иллюстративных журналов. Однако с какого из них начать? Выбор – почти случайный – пал на журнал «Работница». Для этого было несколько резонов. Журнал в нашем позднесоветском детстве, в 1960–1980-е, был на слуху и имелся чуть ли не в каждой семье. Один из старейших в СССР, на протяжении всего советского периода он был органом большевистского/коммунистического ЦК по идеологической работе с женщинами и издавался без перерывов с 1923 года. С 1943 года и поныне выходит 12 номеров журнала в год[46].
Н. А. Редькина. Декоративное панно «Березонька». 1977
Читательская аудитория журнала, судя по тиражам, в советское время поступательно росла. Быстрее всего журнал набирал популярность в 1950–1960-е годы. К середине 1950-х годов журнал издавался в количестве 900 тысяч экземпляров, а к началу 1960-х его тиражи выросли до 2 миллионов 400 тысяч. За следующее десятилетие тираж «Работницы» увеличивается почти в четыре с половиной раза, до 11 миллионов 340 тысяч в январе 1970 года. 1980-е годы были отмечены новым всплеском читательского интереса. Накануне перестройки тираж «Работницы» вырос до 15 миллионов, а к концу 1980-х превысил 24 миллиона, причем только за 1990 год тираж увеличился более чем на три миллиона.
Однако в конце существования Советского Союза и особенно после его роспуска привычные средства массовой информации переживали не лучшие времена. Задели перемены и журнал «Работница». Несмотря на реорганизацию содержания в пользу более востребованных читателями тем, тираж журнала стал падать с головокружительной скоростью, в считаные месяцы и годы сдавая позиции, которые завоевывались на протяжении десятилетий. Уже на последнем году существования СССР тираж «Работницы» упал вдвое, до уровня начала 1970-х годов. В 1993 году произошло еще более крутое, почти пятикратное падение тиража – до уровня 1960 года. К концу ХX века он сократился еще в десять раз (236 000 в январе 2001 года). В 2013 году тираж журнала был вдвое ниже, чем в конце Великой Отечественной войны (35 000), в следующем году – почти в два раза меньше, чем в год основания журнала столетием ранее.
Аналогичную динамику развития имели и другие советские иллюстрированные журналы. Но к «Работнице» мы обратились не из-за тиражей. Поскольку береза ассоциируется в обыденном сознании современных россиян с образом женщины, логично ожидать, что в иллюстрированном женском журнале «березовая тема» должна была найти более заметное отражение и в словесных, и в визуальных репрезентациях. А учитывая многомиллионные тиражи в позднесоветский период, можно было предположить, что у популяризации этих образов формально был шанс на успех. Если также принять в расчет рост советских городов на фоне умирания деревни, то гипотетически в «городском» журнале насыщение крестьянского представления о березе как о дереве родном и полезном новыми смыслами должно было проходить интенсивнее, чем в сельском, каким задумывался и долго был журнал «Крестьянка» (1922–2015).
Конечно, задним числом приводить аргументы в пользу систематического поиска приключений березы именно в «Работнице» просто. Нужно признаться: когда один из нас начал листать этот журнал, мы были твердо уверены, что, говоря языком геолога и археолога, закладываем только первый шурф, и за работой с этим журналом последует сплошное чтение многих других. Однако вскоре стала ясна физическая невыполнимость первоначально поставленной задачи. К тому же работа с этим журналом позволила обнаружить основные динамические процессы и тематические блоки в превращении березы в «русское дерево», подтвержденные последующим выборочным знакомством с другими периодическими изданиями, что позволило отказаться от чтения другой периодики «от корки до корки».
В номерах «Работницы» за 1935–2002 годы, хранящихся в Челябинской областной научной библиотеке, было обнаружено почти шестьсот публикаций, в которых фигурирует береза. Четверть из них составляют тексты, три четверти – изображения. Причем, скорее всего, словесных упоминаний и особенно визуальных изображений березы в журнале должно было быть еще больше. Во-первых, в челябинском собрании журнала отсутствует порядка десяти номеров. Во-вторых, ряд вкладок с репродукциями картин, которые публиковались для украшения интерьера, были исподтишка вырваны посетителями библиотеки. В-третьих, наверняка ряд упоминаний березы в текстах не были замечены и не включены в общую статистику. Тем не менее общие количественные данные впечатляют[47].
Прежде всего, упоминаний и изображений березы на страницах «Работницы» было довольно много. Причем их динамика была весьма красноречивой. Если в 1930-е и 1940-е годы береза называлась или изображалась не чаще двух-трех раз в год, то в 1950–1980-е – по десять-двенадцать раз в год, то есть чуть ли не в каждом номере. Были и самые тучные годы в тематизации березы, и номера-рекордсмены. Самыми «урожайными» по количеству текстов и изображений березы – до двадцати в год – в СССР оказались 1959, 1964, 1977, 1978 и 1987 годы.
Приведем несколько примеров журнальных номеров, собравших наибольшее количество интересующих нас словесных и зримых образов березы. В шестом номере «Работницы» за 1959 год береза фигурирует в четырех материалах: стихотворении, фотоочерке, репортаже и дидактической статье. В рубрике «Стихи молодых» было опубликовано стихотворение Юлии Дружковой «Весеннее». В нем поэтесса описывает пробуждение природы, в котором участвуют и другие деревья. Но особое место отведено в стихе березе:
- Был закован морозом
- Заколдованный сад.
- Были голы березы
- Лишь неделю назад.
- Да вот ожили снова
- В первых росах утра,
- И от соков медовых
- Набухает кора[48].
В фотоочерке «Хорошо за городом!», подготовленном Е. Рубцовой, А. Скурихиной и Ю. Кривоносовой, речь идет о семейной вылазке на целый день в лес по грибы и на речку[49]. В тексте березы не упомянуты, но на двух из шести черно-белых фотографий березы важны для композиции снимков. На одном из фото зритель видит женщину в платье ниже колена с платком на голове, завязанным на затылке, в соответствии с крестьянской традицией ношения замужней женщиной головного убора. На ее левом локте висит лукошко, поверх которого лежат цветы. Лица женщины не видно. Она стоит спиной к зрителю и любуется далями, рамку которых справа и слева образуют старые березы, к одной из которых почти прислонилась женщина. Композиция этого изображения, как мы увидим в дальнейшем, вполне типична для позднесоветской фотографии.
На другой фотографии изображен пронизанный солнечными лучами лес, в котором доминируют березы. Они расположены на вертикальных линиях «золотого сечения», делящих плоскость на три примерно равные части. И к этой иконографической традиции нам предстоит вернуться в другом месте. Текст очерка славит «день, проведенный среди ласковой родной природы»[50], а фотографии не оставляют сомнения, что неотъемлемой принадлежностью «родной природы» являются березы.
Далее напечатан репортаж руководительницы Государственного хореографического ансамбля «Березка» Надежды Надеждиной о недавно завершенных трехмесячных гастролях ансамбля в США[51]. На цветной вкладке статью Надеждиной иллюстрируют три фото сценических выступлений «Березки», в том числе знаменитого хоровода, давшего название ансамблю. На этой фотографии девушки в красных сарафанах танцуют с березовыми ветками в руках на фоне молодых плакучих березок и голубого неба с облаками на заднике сцены[52].
Четвертый материал – статья о том, как с пользой организовать детский досуг, не имеет к березке, казалось бы, никакого отношения. Однако на фото, запечатлевшем малолетних юннатов, работающих на опытном участке, доминирует двуствольная береза, растущая из одного корня. На этом фото береза не являлась для фотографа специальным объектом съемки, хотя не исключено, что он оценил орнаментальный выигрыш от попадания дерева в кадр. Такие «случайные» изображения березы также учитывались при просмотре журнала.
А вот другой пример журнала-рекордсмена в «березовой теме» за 1960 год. В восьмом номере «Работницы» были опубликованы два стихотворения, рисунок, картина и искусствоведческий текст, так или иначе затрагивающие образ березы. Стихотворение Марка Лисянского весьма причудливо сталкивает различные женские образы и коннотации женственности из самых различных культурных слоев – от патриархальных до эмансипаторских. Среди метафор, с помощью которых поэт славит женщину, встречаются и такие:
- Женщина сказкой и песней была.
- Другом, любимой, невестой, сестрою.
- Той, что от смерти мне сердце спасла.
- Доброй надеждой.
- Тревожной весною.
- Чистой любовью.
- Земной красотой.
- Родиной милой.
- Березкою русской.
- Матерью Ленина – умной, простой.
- Славной подругой – Надеждою Крупской[53].
Пролистнув четыре страницы, читатель в рубрике «Лирика» может познакомиться с несколькими стихотворениями Елены Николаевской. Одно из них, посвященное осеннему увяданию природы, начинается строками: «Берез желтеющие пряди, / Листва летит наперерез»[54]. Антропологизация березы, как мы увидим ниже, была одним из главных приемов советской женской поэзии, как профессиональной, так и любительской. Лирика Николаевской сопровождает черно-белый пейзаж гуашью, в котором доминирует береза. И это тоже очень характерно для поэтических рубрик журнала – украшать их рисунками берез, даже в тех случаях, когда в стихах белоствольные деревья и рощи не упоминаются.
На традиционной для журнала цветной вкладке между страницами 24 и 25 помещена репродукция картины «Березка» палехской художницы Анны Котухиной[55]. На ней по тропинке за околицей богатого села вьется девичий хоровод в сопровождении двух юношей – гармониста и балалаечника. Девушки одеты в яркие сарафаны с преобладающими оттенками красного. Контур змейки – фигуры хоровода, исполняемого русскими красавицами, – продолжает молодая березка, которая, изогнувшись в правой верхней части картины, завершает заполнение композиционной плоскости изображения.
Репродукцию сопровождает текст о художнице и ее картине, которая была первой в задуманной серии «Времена года» и характеризуется как «олицетворение наступившей весны и юности»[56]. Автор статьи Елена Тарасова не задается вопросом, повлияло ли творчество ансамбля «Березка» на сюжет картины Котухиной. Но образ березки встречается в тексте неоднократно. Тарасова пишет о живописном виде домиков Палеха в «кипени берез», а также использует образ пораненной березы, характеризуя жизненные принципы Котухиной:
Анну Александровну одинаково волнует и ветка, сломанная кем-то на березке в новом парке, и безвкусно исполненная афиша, и неудачная стенгазета в школе, и равнодушные посетители в музее, и пыль на дорогах[57].
Стилистика обращения к теме березы несколько менялась в последние годы существования СССР. Усиливалась апелляция к досоветскому прошлому, как видно в шестом номере «Работницы» в перестроечном 1987 году. На лицевой стороне обложки журнала напечатан безымянный фотоэтюд Нины Свиридовой. На нем изображена юная девушка в белом – в платье, шляпке и гольфах старинного фасона рубежа XIX-ХХ столетий. Девушка стоит с неброским букетом цветов в залитом солнечным светом лесу. Темные стволы двух деревьев образуют рамку изображения, на заднем плане которого, в глубине леса, угадывается береза. Новая стилистика изображения не скрывает главного и привычного: задумчиво глядящая вдаль девушка в белом на белоствольном фоне символизирует молодость, весну, чистоту и слияние с природой. В левом верхнем углу обложки помещено стихотворение Татьяны Кузовлевой, стихи которой о Родине, родной природе и родном крае регулярно встречались читателям «Работницы»:
- Оглянись, присмотрись, назови
- То, чем ты дорожишь в этой жизни, —
- Ради нежности, ради любви
- К человеку, к природе, к Отчизне[58].
В этом же номере журнала, в рубрике «Поэтическая тетрадь», опубликовано несколько стихотворений Натальи Веселовской. Как сообщается в подводке к публикации, молодая поэтесса – выпускница Литературного института им. А. М. Горького и автор уже нескольких поэтических сборников, изданных «Молодой гвардией» и «Современником». Одно из стихотворений Веселовской соединяет сказочно-былинную метафорику с советским эхом войны и габитусом осажденной крепости:
- Недалеко от старого овина,
- На три дороги головы клоня,
- Растут береза, елка и осина
- Из одного обугленного пня.
- За ними ждет таинственна чаща —
- И впереди, за елкою густой,
- И слева, за осиною дрожащей,
- И справа, за слепящей белизной…
- Они стоят по-древнерусски крепко,
- Как дальний отклик трех богатырей —
- И каждый раз при злом порыве ветра
- Друг к другу прижимаются тесней[59].
В том же номере опубликован материал о моде летнего сезона в пока еще советской Эстонии[60]. На одном из фото группа детей в модной одежде изображена на фоне леса с березой посередине. Хотя модная рубрика «Работницы» издавна практиковала фото моделей на фоне живых или нарисованных берез, в данном случае речь идет скорее всего о случайном попадании березы в кадр.
Наконец, в конце номера – обращение отдела литературы и искусства журнала в поддержку открытия музея безвременно умершего художника Константина Васильева, к творчеству которого мы еще обратимся. В тексте приведены хвалебные отзывы о его творчестве «простых» граждан и таких крупных деятелей литературы и искусства, как Владимир Солоухин и Илья Глазунов, которые не согласны с мнением о его картинах как «дилетантской мазне», какого придерживалось руководство Министерства культуры и Союза художников РСФСР. Здесь же опубликована репродукция картины Васильева «Жница» (1966), на которой юная белокурая красавица припала к стволу молодой березы[61].
Итак, в отдельных номерах с репрезентациями березы было «густо». А в других, напротив, «пусто». Это вызывало у нас недоумение. Никаких закономерностей не наблюдалось.
Обращает на себя внимание, что в 1930-е и 1940-е годы, которые принято считать периодом формирования официального русского патриотизма взамен революционного интернационализма 1920-х годов, береза как символ родного края в «Работнице» почти не встречается. Все изменилось в 1950–1970-е: две трети вербальных и визуальных материалов, так или иначе связанных с «березовой темой», появились на страницах журнала между 1953 и 1983 годами.
При этом сплошной просмотр номеров журнала не дал удовлетворительного ответа на вопрос о логике появления березы в рубриках «Работницы». Обнаружилось, что женщина в прозе, поэзии, на фото, рисунках, вышивках и живописных полотнах ассоциировалась не только с березой, но и с рябиной и осиной, ивой и елью, ромашкой и васильком, речкой и полем. Оказалось, что символами родного края чуть ли не чаще, чем береза, выступали деревенский дом и печка, полет стрекоз и стрекотанье сверчка, аромат черемухи и шум клена, голубое небо и белые облака. Тополь и сосна фигурируют в советских рассказах и стихах о Великой Отечественной войне ничуть не реже, чем береза. Интенсивность в публикациях о березах казалась делом случая и игрой необъяснимых совпадений. Продолжать работать без разбору со всеми текстами и изображениями в других СМИ было бессмысленно, поскольку требовало титанических усилий и ничего не объясняло. Например, только в информационном сервисе East View, доступном пользователям Российской государственной библиотеки, поисковый запрос выдал 34 435 упоминаний «березы» в 8539 изданиях[62]. Надо было остановиться и подумать, как быть дальше. Требовалось разобраться с собранным материалом.
Для удобства работы мы провели классификацию публикаций, отраженную в таблицах приложений 1–3. Источники информации из «Работницы» были поделены на вербальные и визуальные. Тексты, в свою очередь, разделены на научные, прагматические (пропагандистские и просветительские) и художественные. В последние вошли взрослая и детская проза и поэзия. Изображения подразделяются на фотографические, живописные и графические. В рамках каждого из видов источников для упорядочения данных было условно выделено несколько типов артефактов. Те из них, в которых береза не являлась специальным объектом изображения (например, попав в объектив фотоаппарата ненамеренно), отнесены к случайным. Репрезентация березы в слове или зримом образе могла быть инструментальной, представляя древесину, мебель, березовый веник, берестяную посуду или грамоту, саженец или сорняк. Белоствольное дерево могло играть в тексте и на изображении орнаментальную роль красивого и уместного в определенном контексте элемента и применяться, потому что «так положено». Изображение березы могло использоваться структурно, как композиционный стержень изображения или повествования. Наконец, образ березы мог выступать в качестве символа. Символы указывают не на предметы, а на представления о них и поэтому характеризуются как репрезентации репрезентаций[63]. В «Работнице» образ березы отсылал к репрезентации весны, молодости, чистоты, красоты, женственности, родной природы, Родины.
Если классификационное деление источников на виды имеет некую формальную, объективную «твердь», то любая типологизация, включая примененную в данном случае, субъективна. Она является своего рода измерительным инструментом, изобретенным исследователем для сравнения объектов его внимания в конкретной, интересующей его ситуации. Как читатель вскоре сможет убедиться, предложенное выше типовое деление является фикцией, поскольку ни один из предложенных типов не встречается в чистом виде, а представляет собой комбинацию нескольких из них. Но чтобы не быть погребенными под грудой неупорядоченных артефактов, пришлось изобрести полочки, по которым содержимое этой груды можно было бы разложить, ориентируясь на главный вопрос: в каких контекстах в журнале «Работница» возникали образы березы и какие смыслы они несли?
Начать, пожалуй, следует с текстов о березе прикладного характера, которые нечасто, но регулярно появлялись на страницах «Работницы» в рубриках, посвященных явлениям природы, временам года, лесному делу. Эти рубрики, которые в разное время назывались по-разному, стали постоянными с конца 1940-х годов. В фенологических, лесоводческих, экологических статьях важное место занимает феномен березового сока, его полезных свойств, правил его сбора и защиты деревьев от его хищнической добычи. По-видимому, первая такая статья появилась в журнале в 1947 году. Она принадлежит перу гуцульской писательницы Деметры Сковороды в переводе писателя, сценариста, в прошлом киноактера и режиссера Георгия Зелонджева-Шипова[64]. Статья является одной из немногих – за всю историю «Работницы» не найдется и десятка, – в которых «береза» входит в название. Автор статьи «Сага о белой березе» подробно излагает, в какое время можно собирать березовый сок, каковы технологии сбора, правила выбора дерева. Читатель узнает из статьи, как долго длится добыча сока из одного дерева (подсочка), сколько сока можно собрать в день с одного дерева, каковы его лечебные свойства. В статье даны рекомендации, как употреблять, перерабатывать и хранить напиток. Не забывает автор сообщить и о том, что древесный сок можно собирать не только с березы, но и с клена, бука, орешника. Однако всем этим деловито изложенным практическим советам предпослан очень эмоциональный и образный литературный текст, заставляющий усомниться в натуральности явления подсочки и заурядности процедуры сбора березового сока. Статья начинается со стихотворных строк:
- Плачут клены и березы,
- Плачут чистыми слезами…
- Слезы ль это? Или страсти
- Животворные бальзамы?
- Ох, и сладки ж эти соки,
- То нектар любви томленья,
- Что дает нам мощь и силу
- И высоких дум стремленья.
- «Слез девичьих» жбан до края
- Нацежу в лесах зеленых
- И сзову к себе на ужин
- Всех друзей и всех влюбленных…
- Выпьем чару круговую, —
- Силой, страстью закипая,
- Грянем песню и почуем,
- Что живем, не прозябая.
За стихотворением следует поэтизированное предисловие к инструкции по сбору сока, в котором береза сравнивается с девушкой-невестой, а весна – со свадьбой:
«Да здравствует жизнь!» – воскликнул, умирая, матрос Зализняк. «Земля, живи!» – слышу я голос уходящей зимы. Таково наивысшее благородство нашей природы: умирая, завещать жизнь другому. А если надо, то и отдать ее.
…И моему воображению всегда представляется еще и другое: Девушка, Невеста, Женщина. Не в ней ли природа сокрыла свое самое драгоценнейшее сокровище – Жизнь? Вся она символ созревшего счастья!
Вот она, до самых краев наполненная соками Жизни, ждет завершения – свадьбы. И вот в момент этой наивысшей радости созревшее до полноты сердце разражается буйным, хмельным рыданьем… Покатились обильные и счастливые слезы-роса…
Не таков ли чарующий «весенний плач деревьев»? Ой, не потому ли плачет весенней порой задумчивая Белая береза, как девушка-невеста в день свадьбы?
Ой, потому, потому!..
Идет весна, идет буйная жизнь и радостная свадьба, – потому и проливает свои животворящие соки задумчивая Белая береза…
Так спешите же, друзья, на свадьбу к Белой березе!
Недаром наши предки-славяне встречу солнца и весны, этот праздник жизни, называли Березнем – Березень![65]
Как видим, упомянуты в тексте и самоотверженность революционного матроса Железняка (в тексте – Зализняка), и обряды древних славян. Запомним, что статья написана нерусскоязычной писательницей, что береза в ней, равно как и система связанных с ней метафор, эпитетов и олицетворений, – не русское, а общеславянское достояние. Обратим внимание и на то, что статья гуцулки иллюстрирует условность предложенной выше типологизации текстов. В «Саге про белую березу» соединены и инструментальный, и орнаментальный, и символический типы презентации березы. Текст иллюстрирует черно-белое фото неизвестного автора: береза в левой части фотографии, слегка наклонившаяся направо на фоне Карпатских гор, образует рамку закарпатского пейзажа с пирамидальными деревьями. Фото не только иллюстрирует текст, но и поэтизирует березу, усиливая декоративно-символические стратегии статьи.
А вот пример повествования в «Работнице» о березе в другом культурном контексте, на этот раз не общеславянском, а русском, не женском, а патриотическом и природоохранном. Опубликованный в июне 1962 года очерк журналиста, взявшего годом ранее первое интервью у Юрия Гагарина, и будущего ведущего телепередачи «В мире животных» Василия Пескова посвящен летнему лесу и, шире, природе среднерусской полосы[66]. В тексте особо подчеркивается связь любви к Родине с любовью к природе:
Чувство Родины – самое высокое из всех человеческих чувств. Образ Родины для каждого из нас вполне конкретен. Это место, где мы живем, где мы родились, где мы росли. На чужбине или в суровый час мы вспоминаем: «Кусок земли, припавший к трем березкам, далекую дорогу за холмом…» – писал Константин Симонов. Родина – это дымки родного поселка, это степи, где солнце садится в пшеницу, рябина под окнами, лес с заветной, только тебе известной тропинкой… Образ Родины неразрывно связан с образами родной природы. Природа живет в лучших народных песнях, природа заставляет звенеть самые тонкие струны души у поэтов. Перелистайте книжку Есенина, и вы еще крепче полюбите «ситчик наших небес», тихую радость родных перелесков, вы услышите запах сена и белых ромашек, плеск воды и пляску берез[67].
Автор указывает на роль русской культуры в открытии красоты родной природы, а именно на творчество Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Петра Чайковского, Сергея Есенина. Заметим, что в советском культурном каноне Левитан и Есенин почитались как «певцы березы» в живописи и поэзии. Очерк украшает серия авторских фотографий. На одной из них снята синичка, сидящая на запястье руки с ладонью, полной семечек. Фото называется «Рука человека». Ниже помещен снимок, на котором запечатлен акт варварского отношения к природе – надпись на березовой коре «Здесь наслаждался природой Олег Безруков». Фотография прокомментирована так: «Это сделано тоже рукой человека. Человек оставил память о своем пребывании. Читаем и говорим: увековеченная глупость…»[68]
В тексте статьи, как и у Деметры Сковороды, также использован прием антропологизации дерева для осуждения легкомысленного отношения к природе:
Вы видели, как плачут березы? Из раны струится прозрачный, как слезы, сок. Березам, конечно, не больно, но больно видеть пошлые надписи на березах: «Валя + Коля гуляли в этом лесу…» Сколько увековеченной глупости видим мы в парках и на лесных опушках вблизи городов! Лесам ножом урона не принесешь, дело в другом. На захламленной поляне с надписями на березах, с обрывками бумаги и ржавыми банками испытываешь такое чувство, словно кровать тебе застлали чужой, не постиранной простыней[69].
Чувство гадливости у автора вызывает не угроза природе, а надругательство над олицетворенной в ней, словно бы замаранной Родиной.
В статье Лидии Васильевой «Июль-страдник», вышедшей в журнале «Работница» летом 1974 года, дана фенологическая зарисовка смены явлений, происходящих с различными лесными деревьями и растениями. Заканчивается она описанием тополя под окном квартиры автора, который сопровождает ее всю жизнь, представляя собой дорогой ей «крошечный мир природы в каменной громаде города»[70]. А начинается статья с поэтического описания белоствольных деревьев:
Ранним летним утром войдешь в тишину леса. Колонны светоносных берез поднимают наш взгляд, и он уходит к вершинам, плывущим вместе с облаками в бездонном небе. Зеленое дыхание берез свежо и чуть горьковато. Тени медленно перемещаются по кустам, по стволам деревьев, – ты идешь, и лес точно движется вместе с тобой[71].
Пример наиболее чистой инструментальной репрезентации березы представляет статья костромского писателя, бывшего фронтовика Василия Бочарникова «Рощи карельских берез», опубликованная в «Работнице» летом 1977 года в рубрике с программным названием «Наш дом – природа». В ней рассказывается о том, как сотрудники Костромской опытной лесной станции Сергей и Маргарита Багаевы искали и размножали в Поволжье карельскую березу. Их труд увенчался успехом: семьсот тысяч саженцев они передали в пятнадцать лесхозов страны от Молдавии до Сахалина. В статье превозносятся качества карельской березы как ценного столярного и поделочного материала. Не преминул автор упомянуть о ней и как о национальном богатстве, на которое с вожделением взирают алчные иностранные предприниматели. Примечательно, что в пассаже о «западных партнерах» Бочарников орнаментально – потому что «так положено» – пытается придать своей речи древнерусский колорит:
Мебель из карельской березы получается крепкой и красивой. Для внутренней отделки зданий нет лучшего материала – таким бы деревом пионерские дворцы украшать! А уж что могут сотворить из живого ствола умные, терпеливые руки мастера-художника, какие сувениры! Не материал – мечта! Охочи до карельской березы и иноземные фирмы. И продают им древесину не на кубы, а на вес. Да, на вес. Мало ее, прекрасной, драгоценной березы[72].
В начале 1980-х годов усиливается экологический мотив в репрезентации березы в текстах «Работницы». Так, в 1981 году на страницах августовского номера журнала в новой рубрике «Клуб общественниц» появилась статья сызранских активисток охраны природы в их регионе[73]. Помимо прочих природоохранных акций, в ней описывается и так называемая «операция „Береза“»:
Операция «Береза» падает на раннюю весну, когда под белоствольной корой начинает бродить сок. Любители полакомиться им варварски надрезают кору дерева, увешивают его банками. Общественники отправляются в березовые рощи, лечат искалеченные деревья[74].
В постсоветское десятилетие фенологические статьи и читательские реплики о явлениях природы приобретают антропософский налет, соединяются с размышлениями о психологическом состоянии человека, провозглашают мистическое слияние с природой и возвращение к древним истокам. Статья в первом номере «Работницы» за 1997 год с симптоматичным названием «Брат мой – дерево»[75] в рубрике с не менее характерным заголовком «Зеленый разум» апеллировала, например, к архетипическим основам почитания березы:
В России издавна существовал обычай – накануне Духова дня идти в лес и обряжать там березку. На деревце надевали сарафан, украшали лентами и монистами. Обряд этот восходит к временам древним, языческим. Славяне, как античные греки и римляне, полагали, что душа дерева – это женское начало[76].
Антропософскими настроениями проникнуто письмо читательницы Светланы Крамор в популярную в 1990-е годы рубрику «Россия – это мы». Автор послания-заметки с заголовком-призывом «Найдите свое дерево» рассказывала о своем общении с тремя старыми деревьями – кленом, липой и березой – перед купленным в деревне двухсотлетним домиком. Страдая психологически, Светлана обнимает клен, при физических недугах садится на скамеечку под липой. «А под березой у меня стоит всегда пенечек. У меня самая красивая береза! У нее я прошу сил побольше. Я ей очень верю, она такая добрая и силой своей делится со мной»[77].
Заметка женщины, якобы обладающей астральной связью с природой, заканчивается практическим советом: «Советую: у кого нет верных друзей, найдите свое дерево, расскажите ему все, что вас волнует, и обязательно получите ответ»[78].
В очерке «В березовом краю, на малиновых зорях»[79], опубликованном в рубрике «Вот моя деревня», Наталья Киселева описывает прелести возвращения в родное Сергеево, в которое время от времени манит ее из города неодолимый зов. Береза – неотъемлемая обитательница ее малой родины:
Там ждет меня озябший от одиночества дом, поленница в сараюшке, печальный «журавль» колодца и что-то пронзительно-сладостное в самом воздухе деревенской зимы. Не важно, стужа ли на дворе или хлябь. Я знаю, как встретят меня березы в своих парадных белых париках. Как удивят кособокими нахлобучками лавочки и банька. И замерзший куст «золотых шаров», стянутый в талии пояском от старого халата, вдруг напомнит о золотых деньках вообще[80].
Закольцевать тему инструментальной репрезентации березы хочется статьей «Поила меня березовым соком» в «Работнице» года 2000. Текст посвящен полезным свойствам березового сока, его профилактическому употреблению. Он снабжен подробным перечнем болезней, против которых сок применяется, советами о его добыче, хранении и рецептурой изготовления продуктов. Авторы Ирина Исаева и Алексей Третьяк предварили статью предисловием о соблюдении традиции Древней Руси в космическую эру:
Однажды на вопрос с Земли к космонавтам, чего им в длительном полете больше всего хочется, Владимир Ляхов ответил: «Попасть под дождичек, увидеть зеленый лес, березового сока попить». Попить березового сока на Руси любили издавна. Его припасали и к тяжелой сельскохозяйственной работе – покосу, и как спасительное средство от всяких недугов, и просто пили по весне, восстанавливаясь после безвитаминной зимы, после болезней, родов, психологических стрессов[81].
Как видим, инструментальные тексты прикладного характера в описаниях березы практиковали орнаментальные и символические мотивы. Тем более это характерно для документальных текстов литературоведческого, искусствоведческого, дидактического, агитационного характера.
Крупнейший из поэтов современья… – писал Леонов, – сам мужик, он нежно любил свою деревню, породившую его и показавшую его миру…
Могучей творческой зарядкой был отмечен звонкий есенинский талант. Глубоко верно, что много еще мог бы сделать Сергей Есенин. Еще не иссякли творческие его соки, еще немного оставалось ждать, и снова брызнули бы они из есенинских тайников, как по весне проступает светлый и сладкий сок на березовом надрезе[82].
Высказыванием видного советского писателя Леонида Леонова завершил литературовед Николай Занковский статью о поэзии Сергея Есенина, приуроченную к 70-летию со дня рождения поэта в 1965 году. Ее главный тезис в том, что именно чувство Родины лежало в основе творчества и составляло секрет популярности поэта. В использованной Занковским цитате сама береза, вернее ее сок, олицетворяет творческие силы поэта.
«Работница» регулярно публиковала статьи к юбилейным датам дореволюционных и советских писателей, поэтов и художников. В некоторых из них – посвященных творчеству Сергея Есенина, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря[83] и ряда других – береза упоминалась как поэтический образ или принадлежность пейзажа. С искусствоведческими статьями на страницах «Работницы» читатель познакомится позже, в связи со зримыми репрезентациями березы в журнале. Но, пожалуй, уже сейчас нужно сказать об одной такой статье. В ней бывшая учительница, журналистка Ариадна Жукова делилась впечатлениями о Первой всероссийской выставке детского творчества «Отечество», которая проходила весной 1969 года в Москве, в Центральном доме работников искусств. При этом Жукова апеллировала к своему учительскому опыту, выдвигая тезис о том, что ребенок без труда воспринимает язык произведений русского народного творчества. Феномен легкости и естественности детского восприятия образного языка предков она объяснила его архетипическим характером:
Ведь народное русское творчество оттого и стало народным, что уходило корнями в самую землю и душу русскую. Сегодняшний ребенок видит ту же березовую рощу и ту же ромашку, что и умелец семнадцатого века[84].
Второе упоминание берез в статье Жуковой связано с описанием картины, посвященной Бородинской битве. Полотно принадлежало кисти десятилетнего участника выставки Миши Кваченюка: «Французы наступают стройными рядами. Русские обороняют редуты. Среди смешавшихся войск, как свечечки, поднимаются тонкие березы»[85].
Еще один текст в «Работнице», на этот раз очерк о производственной, повседневной и культурной жизни в многонациональном Сумгаите 1970-х годов, также не обходится без березового мотива. Автор даже использовал его для названия своей статьи – «Апшеронские березы»[86]. На этот раз образ березы – метафора интернационального гостеприимства и добрососедства, или, по-советски – «расцвета и дружбы братских республик»:
Оказывается, березы в Азербайджане не растут. Но чтобы доставить радость людям, приехавшим в Сумгаит из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Гасан Ахметов[87] и его помощники сотворили чудо: из тоненьких, в карандаш толщиной росточков, привезенных из подмосковного питомника, выпестовали аллею первых на Апшероне берез[88].
Итак, береза не часто, но все же довольно регулярно упоминалась в публицистике на страницах «Работницы». Береза встречается в различных, порой самых неожиданных контекстах. Не меньшим разнообразием смыслов отличались репрезентации березы в художественной, автобиографической и мемуарной прозе, которая также в виде рассказов, глав из книг или фрагментов мемуаров публиковалась в журнале.
Ранним утром в окно кабины видно, как гряда черных узловатых гор становится вдруг голубой. Из-за гор выплывает розовая полоска зари. В ее сиянии отчетливо виден каждый куст, каждая травка. Очарованно следит девушка за игрой лучей восходящего солнца. Верхушки кустарника у реки колышутся, словно переговариваются. Река, широкая и вольная, тоже кажется розовой. Кусты с трепетом никнут и припадают к ней. Одинокая береза на отшибе подняла вверх ветви, словно заломила руки…
Все это каждый день видела Пелагея из окна кабины и все полюбила[89].
Героиня рассказа уральской писательницы, комсомольской активистки 1920-х годов Ольги Марковой «Над рекой береза», увидевшего свет в начале 1959 года на страницах журнала «Работница», Пелагея, или Поля, – девушка некрасивая. Она стесняется своей внешности, носит рабочую робу и косынку до бровей. Она работает экскаваторщицей на уральской стройке. Поля нелюдима, не ходит на танцы, не щебечет с молодыми людьми. Этим она кардинально отличается от библиотекарши Зины Кутюхиной, красивой, легкомысленной, эгоистичной модницы, кружащей головы молодым людям, в том числе водителю самосвала Николаю Плотникову. Николай внимательно присматривается к Поле, не яркой, но настоящей – честной, работящей, ответственной, принципиальной. Он напрашивается к экскаваторщице в ученики. Та со временем понимает, что шофер ей нравится. Тем временем Николай ссорится с Зиной, которая заставила его ревновать на клубной танцплощадке к киномеханику. Пелагея вмешивается и идет на разговор с Зиной, чтобы помирить ее с Николаем, в ущерб себе, не зная, что Николай охладел к библиотекарше и питает сильное чувство к Поле, но не решается ей в этом признаться. Концовка рассказа остается открытой.
Автор неспроста вводит «березу» в название рассказа. Ее ежедневно видит из кабины экскаватора Поля-Пелагея. Дерево представляется ей родственным, одушевленным живым существом, которое от одиночества, отчаявшись, заломило руки. К этой березе после ссоры с Зиной стал уходить вечерами Николай, а Пелагея «затаивалась в кабине, поджидая, когда он пройдет обратно, глядела в окно на отлогий берег с заломившей руки березой»[90]. У этой «заветной березы» состоялся и разговор Поли с Зиной. На одной из графических иллюстраций известного книжного художника Александра Лурье к рассказу Марковой изображена пара под березой на пологом берегу реки. Береза аллегорически символизирует в рассказе чистоту, одиночество, подлинность и неброскую красоту советской рабочей девушки.
В течение нескольких следующих лет девушки рабочих профессий то и дело становились героинями рассказов, которые печатал журнал «Работница». В нескольких из них образ березы также выполнял важные сюжетно-композиционные и символические функции. В опубликованной в 1963 году главе «Березы» из романа Валентина Урина[91] жители села на берегу Оки зимой 1941/42 года сталкиваются с трудной ситуацией. В заботах военной поры они не запасли дров, подвоз с выделенной им делянки невозможен, поскольку она слишком далеко, а лошадей для транспортировки дров нет. В результате на исходе оказались дрова в детском садике, которым руководит молодая девушка Настя, и в домах у селян. Руководство сельсовета принимает решение рубить на дрова березовую рощу, а организацию этой акции возлагает на Настю, которая оказывается перед трудным выбором: оставить детей без тепла или поднять руку на святыню. Потому что роща предстает в рассказе местом коллективной памяти селян:
Вся небольшая еще жизнь Насти – детство и юность – была связана с этой рощей. Зимой здесь катались на салазках. Салазки в облаках снежной пыли выносились почти на середину реки. Весной роща раньше всех одевалась яркой зеленью, а осенью, когда после холодных ливней и ветров окрестные леса обнажались и становились серыми и скучными, она еще долго красовалась у всех на виду своим золотым убранством.
Сколько было лет роще, никто не знал, должно быть, очень много, потому что ее помнили и матери, и бабушки, и самые древние деды. Роща неизменно присутствовала во всех семейных рассказах, с ней связывались радостные памятные дни – свадьбы, праздники, гулянья, встречи[92].
В результате рощу все же рубят, а Настя принимает решение следующей весной с пионерами высадить новую рощу на берегу Оки. Рисунок известного иллюстратора, фронтовика Петра Пинкисевича к рассказу Урина изображает девушку в ватнике, теплой шали, юбке и валенках. Настя стоит в березовой роще, обнимая рукой в варежке ствол дерева и тревожно глядя вдаль[93]. В тексте Урина березовая роща символизирует родной край в годину тяжких испытаний.
В рассказе Зинаиды Ильиной «Моя дорога» мы встречаем еще одного двойника Пелагеи из рассказа Марковой, но в момент сложного выбора профессии и дальнейшей судьбы[94]. Автор рассказывает о городской девушке Вассе Берестовой, которая работает копировщицей в проектном институте и чувствует себя ненужной и занимающейся ненастоящим делом. Оказавшись в командировке на удаленном от цивилизации строительстве поселка гидростроителей, она берет судьбу в свои руки и резко меняет ее. Событие, перевернувшее ее жизнь, происходит во время поездки за обратными билетами на самолет. Все начинается с березы, которую Васса видит из окна автобуса: «Далеко впереди, на повороте дороги – береза. Она, словно любопытная девочка, выскочила из леса к самой дороге»[95]. Волею случая девушка подменяет водителя самосвала и в самый критический момент строительства возит за него бетон на стройку. В итоге девушка остается в поселке, а через год пишет письмо старшему брату – тоже водителю, который ее и воспитал, и обучил вождению:
Я представляю, как Кирилл придет с работы и будет читать мое письмо. С чего бы лучше начать? Может, с того, как хорошо сейчас вокруг? Я сижу на нагретой солнцем траве белоусе, а вокруг так тихо, что слышно, как падают в траву солнечные лучи и муравьи топочут лапками по стволу моей березы. Я обязательно напишу Кириллу про березу, про то, как она стоит на пестрой от цветов поляне, и, когда я бегу к ней, оставив на дороге машину, мне кажется, что и она торопится мне навстречу. И что однажды весной, остановившись около нее, я почувствовала, как вся она пронизана тревожным ожиданием счастья, и что с тех пор и меня не покидает это чувство[96].
Здесь, как и в рассказе про экскаваторщицу Пелагею, береза олицетворяет собой молодость, чистоту, но, в отличие от рассказа Марковой, белоствольная подруга разделяет с героиней рассказа не тоску одиночества, а радость обретения своего места в жизни и тревожное ожидание счастья. В рассказе Ильиной читатель видит иллюстрацию Л. Гритчиной, которая композиционно очень близка изображению Насти на рисунке Лурье: девушка в платочке и рабочей тужурке мечтательно глядит вдаль, обнимая рукой ствол стройной молодой березы.
Совсем иное содержание и настроение в рассказе начинающего литератора, бывшего фронтовика и в скором будущем – участника националистической «русской партии»[97] Дмитрия Жукова «Растут ли яблоки на березах?» во втором номере «Работницы» за тот же 1965 год[98]. Это повествование об одном дне счастливой молодой супружеской пары. Алексея Дроздова автор характеризует как сказочника: он молод, жизнерадостен, он «сочиняет» свою жизнь и ему многое удается. Его беременная жена Оля, как читатель узнает в конце рассказа, не сговариваясь с мужем, разыгрывает с ним сцену знакомства, годовщина которого пришлась на этот день. Рассказ начинается с того, что Алексей покупает в овощном магазине дефицитные апельсины и бананы и огорчается, что в продаже нет яблок. Он привозит на мотороллере Олю туда, где они оказались год назад, – в березовую рощу, которую он тогда в шутку подарил ей. В роще разыгрывается следующая «сказочная» сцена:
В сказках говорится: «Стали жить-поживать и добра наживать». Сказки кончаются свадьбой. А что бывает потом? Неужели сказка должна непременно кончаться на свадьбе? Нет, сказка еще только начинается…
Плывут, проплывают стволы берез, белые, с поперечными черными морщинами. Трава-мурава пружинит под ногами. Дальше кустарник. А за ним тесная поросль молодых березок. На их розоватой бересте еще не видно морщин.
– Они немного подросли за год, – говорит Оленька, – помнишь, как я пожалела, что на березах не растут яблоки? А ты ответил, что вырастут. Стоит только очень-очень захотеть. Ну так я хочу, очень!
И глаза Оленьки вспыхивают от удивления.
– Леша, – кричит она, – смотри, на березе апельсин… и банан… а вот еще… и еще. И сетка наша валяется. Чем ты их привязал? Нитками?
– Яблок в магазине не было, – говорит Алексей.
– Глупый…
– Я просто хотел, чтобы ты была счастлива.
– Я уже давно счастлива, Алеша[99].
Жуков, как и предыдущие прозаики, использует образ березы как важный композиционный элемент и символ – на этот раз семейного счастья и сбывшейся мечты.
В рассказе одного из ведущих писателей-«деревенщиков»[100] Валентина Распутина «Видение» (1998)[101] читатель встречается с пожилым литератором, который в ожидании смерти еженощно оказывается в воображаемой комнате. За ее окном он видит живописный осенний пейзаж с речкой и мостиком через нее. В пейзаж, помимо прочего, «встроены» березы – по две-три на одном корню на низком голом берегу тихой извилистой речки. Литератор никак не может насмотреться на вид за окном:
Так смиренно и красиво склоняются березы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть[102].
Но однажды в ночном видении пожилой человек вышел из комнаты:
И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стынут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры… Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл – и люди, и деревья, и птицы[103].
Литератор не дошел до мостика, переход через который равносилен прощанию с жизнью, но максимально приблизился к нему, оказавшись среди оживших берез. Рассказ органично следует моде 1990-х годов на тягу к антропософскому слиянию с природой.
Настроение в рассказе Распутина антропософским привкусом близко чувствам художника Юрия Ракши. Во фрагменте его дневников, опубликованных его вдовой Ириной Ракшей в 1994 году в рубрике «Дневники. Мемуары» журнала «Работница», содержится такая запись за январь 1980 года:
Я однажды обнимал березу и, прислонясь губами, пил сок. И вдруг почувствовал, что она вся так и ходит подо мной. Я поднял голову – ветра не было. Отчего же она так задрожала?! Это было так явно, а я запомнил ее как беспомощное существо, как девственницу, что не рада моим объятиям. Больше я никогда не пил сок и не делал ран на деревьях[104].
Как видим, проза «Работницы» активно прибегала к поэтизации березы. Можно предположить, что в поэтических рубриках журнала образы белоствольного дерева должны встречаться значительно чаще. Итак, давайте посмотрим.
- И в этот миг ты ощутишь сильнее,
- Что сад и дом твой пред тобою вновь,
- Что ничего на свете нет милее
- Своих родных просторов и садов.
- Что вот за эту землю Подмосковья,
- За все ее сады, поля, луга
- Ты, не щадя ни юности, ни крови,
- Шел в смертный бой – и побеждал врага.
- И стал твой край тебе еще дороже,
- Еще родней, любимей и нужней.
- И это небо будто бы все то же,
- Но синь его и глубже, и нежней[105].
Стихотворение поэта Андрея Хуторянина посвящено цветущей черемухе, а не березе. Именно цветение черемухи провоцирует поэта на размышления о Родине. Стихотворение было опубликовано в июньском номере «Работницы» 1948 года среди фотографий «Фотохроники ТАСС», объединенных общим заголовком «Пейзажи нашей Родины». На двух фотографиях с видами Подмосковья есть березы. И хотя в стихотворении Хуторянина береза не упоминается, его можно рассматривать как архетипический текст, важный и для репрезентации березы. Суть этой программы коротко можно сформулировать так: родина – с боем возвращенное пространство, земля отцов, родная природа – после войны стала еще дороже и нуждается в большем любовании, воспевании и заботе. Конечно, эта программа не была изобретением Хуторянина. Она витала в воздухе и была общим ощущением советских людей, недавно переживших страшную войну. Поэтому неудивительно, что образный ряд стихов о Родине в послевоенные десятилетия меняется. В отличие от времен первых пятилеток, они все чаще воспевали не новостройки, не покорение природы, не техническую и военную мощь страны. Объектом стихов становятся старый дом, воспоминания детства, победа в войне, родной пейзаж и отдельные его элементы, в том числе различные деревья, включая типичную для среднерусского, поволжского, уральского пейзажа березу.
Красной нитью через стихи, публиковавшиеся в 1950–1980-е годы в поэтических рубриках «Работницы», проходит чувство принадлежности к пространству, к пейзажу, ощущение себя частью большого целого. Зачастую авторы стихов ассоциируют себя с отдельным элементом пейзажа, в том числе деревом. И нередко таким деревом становится береза.
Прежде чем обратиться к образам березы в поэзии на страницах журнала «Работница», необходимо сделать два предварительных замечания. Во-первых, качество стихов, публиковавшихся в «Работнице», было разным и зачастую невысоким. Журнал публиковал не только профессиональных, маститых поэтов, но и начинающих, а также любителей. Вероятно, часто вопрос о публикации решало содержание стихотворения, а не его поэтические достоинства. В данном случае стихотворные тексты рассматриваются как исторический источник. Поэтому в отборе примеров главным критерием была наглядность, убедительность. Во-вторых, как и в других вербальных (и визуальных) жанрах, образ березы в поэзии на страницах «Работницы» имеет множество коннотаций. Для удобства изложения в стихах на страницах журнала можно выделить четыре мотива: береза как символ женской судьбы, как символ родины, как объект ностальгии, как символ военных страданий и потерь. Ценой такого разделения будет некоторое упрощение, поскольку часто названные мотивы тесно переплетаются в одном стихотворении.
В 1954 году, к 300-летию «воссоединения» Украины с Россией, журнал опубликовал подборку стихов украинских поэтов. Рядом со стихотворением кобзаря Павло Носача «Навеки с Москвой» читатель мог прочесть стих участника Великой Отечественной войны, автора знаменитого «Киевского вальса» (1950) Андрея Малышко «Пляска», который рассказывает о спонтанном танце в поле двух сдружившихся на колхозной работе девушек – украинки и русской. Первую поэт сравнивает с топольком, вторую – с березкой.
- Выходит первым тракторист —
- Лишь пыль по кругу стелется.
- Выводит звонко баянист
- «Березку» и «Метелицу».
- А трактористам все с руки.
- Гремят у хлопцев каблуки.
- И скрипка свой ведет смычок,
- И в лад с певучей скрипкою
- Защелкал чей-то каблучок.
- Пошла одна, как тополек,
- С другой – с березкой гибкою.
- ‹…›
- Та с украинских, знать, полей.
- – Играй, баян, повеселей!
- А эта – с русских. Ну и пляс!
- – Давай, баян, высокий класс!
- Подружки две красуются…
- И вся-то русская земля,
- Вся украинская земля
- Той пляскою любуются[106].
Иллюстрация плодовитого в 1950–1960-е годы автора карикатур и плакатов, художника-оформителя Виктора Добровольского к стихотворению изображает двух танцующих в обнимку девушек в русском и украинском национальных нарядах. «Пляска» Малышко вписывает образы девушек-деревьев в производственную тематику и связывает их с картиной безоблачной дружбы «братских народов».
Однако чаще женская и березовая темы соединялись в других контекстах. Например, в лирических размышлениях о собственном, индивидуальном будущем. Так, известная поэтесса Татьяна Кузовлева посвятила березе опубликованное в 1977 году в «Работнице» стихотворение, в котором рефлексирует о собственных сомнениях и надеждах:
- Один только краткий, непрочный
- Рывок над землею своей,
- Мне жить невозможно без почвы.
- А почве нельзя – без корней.
- Я чувствую – локоть о локоть —
- Лесов белоствольный полет
- И эту мятежную легкость.
- Мне так ее недостает!
- Я трогаю облако взглядом,
- И кажется – лишь захотеть,
- И я полетела бы рядом,
- А все не умею взлететь![107]
Связка «береза – женщина», помимо интимной, лиричной коннотации, содержит и другие. Прежде всего, это образ женщины-родины, эксплуатировавшийся в системе патриотических клише в Российской империи и СССР, равно как и в других странах. В 1975 году в «Работнице» поэт-фронтовик Борис Куняев в стихотворении «Песня о женщине» утверждал:
- В женщинах есть что-то от пейзажа,
- От степей, холмов, лесов и неба,
- От реки, от озера и моря…
- Значит, наши предки были правы:
- Женщина и Родина – одно![108]
В стихотворении Куняева находится место сравнению женщин с деревьями: женщин Кавказа – с кипарисами, латышек – с соснами. А в русских матерях и дочерях поэт видит «белизну – от тоненьких березок». В этой смысловой паре женская составляющая легко может дополняться или заменяться образом белоствольного, «белоногого»[109] дерева с «березовой косой»[110], в результате чего не женщина, а береза оказывалась символом родины и объектом тоски по ней, равно как и метафорой испытаний и лишений военных лет.
Классический пример идентификации себя с героическим прошлым и настоящим страны – стихотворение Михаила Светлова «Россия», опубликованное в «Работнице» в 1967 году, через три года после смерти видного поэта и драматурга из поколения фронтовиков. Оно заканчивается следующим фрагментом с неожиданным концом: поэт готов слиться с есенинским пейзажем, стать его частью:
- Не то чтобы в славе и блеске
- Другим поколеньям сверкать,
- А где-нибудь на перелеске
- Рязанской березою встать![111]
В год смерти Светлова в «Работнице» было напечатаны три стихотворения Татьяны Сырыщевой под общим заголовком «Стихи о Родине». В одном из них она признается в любви к матери, которую она звала бы матерью с не меньшим чувством, даже если бы не она ее родила. В этой же логике выстроено ею довольно высокопарное объяснение в любви к Родине, одним из характерных признаков которой, наряду с просторами, реками и горами, оказывается «на березах чистый вечный снег»[112]. Единственная ботаническая примета этой Родины – березы.
На протяжении 1950–1980-х годов на страницах «Работницы» появились тексты и ноты многих песен о Родине. Среди них встречаются и тексты, полностью или частично посвященные березе. Наиболее густо песенная березовая тематика представлена в журнале на рубеже 1960–1970-х годов[113].
В начале 1980-х в стихах аспирантки Института востоковедения АН СССР, начинающей поэтессы Людмилы Букиной милая сердцу малая родина ассоциируется с заброшенными березами[114], а в стихотворении умершего десятью годами раньше бывшего военного журналиста, опытного поэта и литературного функционера Александра Прокофьева символом России становятся «белоногие пущи берез»[115]. В те же годы «Работница» опубликовала стихи молодой радиожурналистки из Куйбышева Светланы Смолич о родимом доме. Виктор Иванов для иллюстрации этого стихотворения нарисовал деревенский домик, дым из трубы которого сливается с листвой березы, как бы перерастая в нее. Рисунок отражает место березы в стихотворении Смолич. Береза называется среди прочих неотъемлемых примет родного дома во второй строфе:
- Как хорошо,
- Что ходики в дому
- Еще идут,
- И жив сверчок за печкой,
- И у крыльца
- Стоит береза свечкой
- И нежно светит
- Сердцу моему.
Последняя строфа объясняет, что для Смолич является Родиной:
- Я думаю:
- Пока на свете есть
- Вот этот дом,
- Любимый и желанный,
- Не надо мне
- Земли обетованной,
- Здесь Родина моя,
- Навеки здесь[116].
Тема Родины неразрывно связана с темой тоски по ней. На страницах журнала «Работница» проблема ностальгии была представлена с конца 1970-х годов. Поздним летом 1979 года в рубрике «Поэтические тетради» опубликованы два стихотворения уже знакомой читателю Татьяны Кузовлевой. Одно из них утверждало невозможность для русского жить без берез и сочувствовало (с нотками осуждения) беспочвенным эмигрантам:
- Нет, русским нельзя без России.
- Глаза бы ослепли от слез.
- Как можно тоску пересилить
- По белому ливню берез?
- ‹…›
- Вы – те, кто сегодня далече, —
- Какая вкруг вас пустота!
- Искатели счастья, вы немы,
- Лежит в одиночестве путь.
- В чужое, в неблизкое небо
- Легко ли под утро взглянуть?
- Легко ли без Родины милой?
- Не верю, что можно забыть
- Просторы ее и могилы…
- Мы русские,
- Нам не под силу
- Уйти, променять, разлюбить[117].
Во втором стихотворении поэтесса пыталась взглянуть на Россию взглядом «воображаемого Запада»[118]:
- Пора возвращаться из этой страны,
- Где так нестерпимо закаты нежны,
- Где в воздухе южные ветры слышны —
- Ну что ж, пора.
- Как весело было покой тот украсть,
- Лесами и полем насытиться всласть
- И к белой березе, прощаясь, припасть —
- Ну что ж, пора.
- ‹…›
- Пора возвращаться, пора отвыкать
- Меж веток звезду по ночам окликать,
- По имени каждое дерево звать —
- Ну что ж, пора[119].
Экзальтированное желание на прощание припасть к березе Кузовлева приписала, таким образом, не только русскому человеку, но и побывавшему в России иностранцу.
В постсоветской России рубежа ХХ-XXI веков ностальгические нотки по утраченной или временно покинутой Родине усилились. В 1996 году «Работница» опубликовала присланное из Стокгольма стихотворение Марии Лаврентьевой «Напиши мне о морозе». Перечень объектов ностальгии в нем – сугробы, метели, замерзшая речка, печка, огонь, сверчок. Но начинается этот ностальгический реестр с мороза и березы:
- Напиши мне о морозе —
- Без мороза нет тепла.
- О застенчивой березе,
- Что стоит белым-бела[120].
Стихотворение заканчивается эскизом пустой и холодной, несмотря на достижения западной цивилизации, жизни за границей:
- Далека моя Россия
- В подвенечном серебре.
- Здесь идут дожди косые
- По панелям в январе.
