Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона». Из цикла «Волшебная сила искусства»
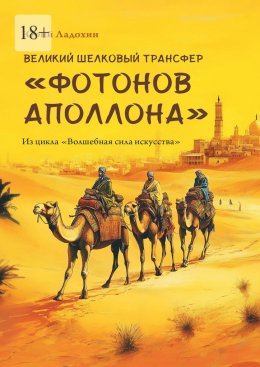
© Юрий Ладохин, 2025
ISBN 978-5-0068-1926-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
- Посвящается любимой жене Оленьке
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В одной из своих предыдущих книг – «Эдинбург – Москва. Лиловый вереск среди лип и берез» (2021 г.) – о великих изобретателях, ученых, служителях 9-ти муз России и Шотландии я задавался воросом: а могут ли встречные вихри пассионарной энергии быть настольно мощными, чтобы оказать влияние на ход мировой истории? Чтобы ответ получился недвусмысленно положительным, всмотримся только в список имен, участвующих в этих турбулентных процессах. С шотландской стороны: ученые Я. Брюс и Р. Мурчисон, промышленники Ф. Гарднер и Ч. Берд, полководец М. Барклай-де-Толли, архитектор Ч. Камерон, антрепренёр М. Меддокс, с российской: художники К. Малевич, В. Кандинский и Э. Лисицкий, режиссеры К. Станиславский и С. Эйзенштейн, композитор И. Стравинский, антрепренёр С. Дягилев.
И хотя такой обмен вдохновляющих дерзаний происходил в разные хронологические периоды (пассионарии из Шотландии несли в Россию светозарный эфир просвещения, начиная со времен Ивана Грозного, а представители русского авангарда поразили мир обжигающими выбросами смысловых протуберанцев уже в первой четверти ХХ века), вывод напрашивается один: такой взаимообогащающий бартер научными идеями, инженерными и бизнес-новациями, эстетическими прорывами несет в себе животворящий вектор прогресса человеческой цивилизации.
В новой книге, которая предлагается вашему вниманию, оптика рассмотрения пассионарных вихрей будет сужена до одного (но КАКОГО!) —феноменального по своей значимости ветроворота культурных обменов между Китаем и Европой, происходивших на верблюжьих тропах и лоцманских морских маршрутах Великового шелковой пути.
Этот поразительный по своей сущности трансфер эстетическими жемчужинами – «фотонами покровителя искусств Аполлона» – тем более уникален, что разделённые высоченными Гималаями и песками Средней Азии две великие цивилизации были отчаяннно несхожи в своих представлениях о значимости тех или иных культурных ценностей. Да какое там «несхожи»! – менталитеты двух социумов были настолько ортогональны друг другу, словно на знаменитом Кордуанском маяке во Франции установили эффективнейшую линзу Огюстена Френеля, но ограничили диапазон ее действия 180 градусами – только для своих джонок или каравелл.
Так, в традиционном Китае «литературное искусство, культивируемое политически влиятельной литературной элитой, занимало высшие ступени иерархии в культурном сообществе. На вершине стояла каллиграфия, за которой следовала живопись. Другие виды искусства, которые традиционно считались ремеслами, также приобрели престиж, поскольку они привлекли внимание литераторов во времена династии Мин (1368—1644). Среди них были вырезание печатей, книжная иллюстрация, изготовление гравюр и дизайн садово-паркового искусства. И, напротив, архитектура, скульптура и прикладное искусство – керамика, бронза, лак и мебель – никогда не достигали сопоставимого статуса» (из статьи Цинь Гои «Коллекционирование предметов искусства Китая в Англии в XIX веке» // электронный журнал Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина «Артикульт», №47, 2022 г.).
Не то Европа, например, Англия: «В Европе архитектура, которую величают как не иначе „мать искусств“, с древности занимала самое престижное положение, за ней следовали скульптура и живопись и, наконец, прикладное и декоративно-прикладное искусство. Важно отметить, что влияние китайского искусства на искусство Англии зависело от их положения в соответствующих иерархиях: чем выше статус искусства в Китае, тем меньшее влияние оно оказывало в Англии и, в целом, в Европе; и чем выше статус искусства в Англии, тем меньше восприимчива она была к китайскому влиянию» (Там же).
Фундаментальные различия двух мировосприятий очерчены, как видите, вполне явственно; но обнаруживается еще одна – нежданная особенность. Со времен открытия Америки и дальнейшей колонизации Нового Света и Африки европейцы упорно культивировали свое культурное превосходство над «дикарями», населяющими осваиваемые территории. С Китаем этот императивный гонор не прошёл: «Китайские картины на бумаге и шелке достигли Европы лишь в крайне ограниченном количестве, и большинство из них были произведениями профессиональных художников, а не произведениями литераторов, которые приходят на ум, когда мы думаем о живописи эпохи Мин и Цин сегодня. В рассматриваемый период китайские литераторы, вероятно, не считали ни необходимым, ни уместным раскрывать неискушенным глазам варваров осязаемую сущность их эстетической культуры» (Там же).
Впрочем, «варвары» – это, пожалуй, чересчур: интеллектуалы Поднебесной здесь уподобляются страдающим фанаберией древним римлянам, именно так называющих одетых в звериные шкуры и несущих, по их мнению, всякую «тарабарщину» германцев.
Может всё дело в кричащей антитезе мироощущений? – «Можно предположить, что мышление народов с алфавитным типом письменности, скорее всего, будет отличаться от мышления культур, письменность которых представлена иероглифами. Китайская культура – одна из немногих, которая сохранила с древности свою систему письма. Письменность в Китае – иероглифическая. Для такого типа письма характерна опора на визуализацию. Изначально во время развития китайской письменности каждый иероглиф представлял из себя частично изображение, частично символ. Так, даже в современном письме мы можем встретить иероглифы, которые по своему начертанию напоминают описываемый предмет – человек , гора, река» (из выпускной квалификационной работы студентки Санкт-Петербургского государственного университета Юлии Новиковой «Сравнительный анализ методов презентации историко-художественного наследия Китая на примерах Государственного Эрмитажа и Государственного музея истории религии», 2018 г.).
И тогда, что вполне закономерно, «сам по себе иероглиф представлял собой предмет для созерцания и наслаждения, что особенно заметно в культурах Китая и Японии. Подобное восприятие письменной культуры приводит к сложению искусства и каллиграфии. Последнее в результате оказывает влияние на становление живописного искусства в Китае. Картины представляют собой единство образов и каллиграфических подписей. Процесс работы над картиной во многом схож с тем медитативным состоянием, сопровождающим работу каллиграфа – многие каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства» (Там же).
Изысканная самоценность каллиграфии оставила свои следы не только на китайской рисовой бумаге «сюаньчжи». Иероглифы подчас становились сердцевиной национальных архитектурных объектов, таких, например, парк Ихэюань близ Пекина, где располагается летний императорский дворец: «Парковый ансамбль Ихэюаня представляет собой „сады в саду“ (по аналогии с известными изделиями китайских резчиков из слоновой кости, так называемыми „шарами в шаре“). Этот сад, именуемый Садом благодеяния и мира (Дэхэюань), был центром театральных представлений при императорском дворе во время правления Цяньлуна (XVIII в.). В общих планах китайских садов нередко угадывается рисунок иероглифа „юань“ (сад, парк). Так, например, „сад в саду“ – Сад развлечений в Ихэюане выстроен согласно каллиграфии этого письменного знака» (из статьи Евгении Завадской «Ихэюань – сад, творящий гармонию» // книга «Сад одного цветка» (под ред. Н. И. Пригарина), Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1991 г.).
Особое восхищение у посетителей парка Ихэюань вызывает то место, где традиционная китайская литература, одухотворенная живопись и изящная каллиграфия гармонично сливаются в триумвират эстетического наслаждения: «В галерее Чанлан {входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО} 273 пролета. Она тянется зигзагами по берегу озера Куньминху, связывая друг с другом павильоны и беседки, расположенные у подножия горы Ваньшоушань. Ярко-красные колонны, сине-зеленые краски орнамента, украшающего резные балки перекрытия, дополняются расписными панелями с изображениями пейзажей, жанровых сцен, иллюстрирующих классическую китайскую прозу, и с великолепной каллиграфией кисти Цяньлуна. Между пролетами размещены резные беседки (тин), где можно отдохнуть, утолить жажду. С древности в Китае существовало предписание, согласно которому на каждой десятой ли (примерно через пять с половиной километров) строили беседку (тин)» (Там же).
