Ранние диалоги Платона
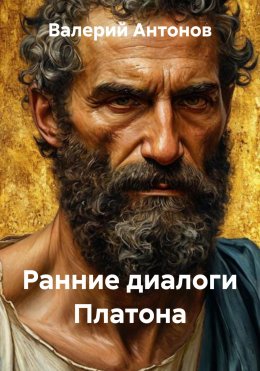
Введение к ранним диалогам Платона: философский акт в эпоху кризиса.
Ранние диалоги Платона – «Апология Сократа», «Критон», «Евтифрон», «Лахет», «Хармид», «Протагор», «Горгий» и другие – представляют собой уникальный феномен в истории мысли. Они являются не только отправной точкой европейской философской традиции, но и живым свидетельством интеллектуального переворота, совершенного Сократом и запечатленного гением его ученика. Эти тексты, созданные на излете «золотого века» Афин, отражают глубокий кризис полисной идеологии и рождение нового типа рефлексии, основанной на бескомпромиссной силе логики и требовании к личной ответственности.
Возникнув в условиях политической нестабильности после Пелопоннесской войны, крушения традиционных ценностей и расцвета софистического релятивизма, ранние диалоги предлагают радикальный ответ на вызовы эпохи. Если софисты провозглашали человека мерой всех вещей, а традиционная мораль держалась на общественных условностях, то Сократ, выступающий центральной фигурой этих диалогов, совершает поворот к личности, но личности, основанной на поиске универсальной истины. Как убедительно показал Ф.Х. Кессиди, сократические беседы были не просто абстрактными дискуссиями, а напряженными интеллектуальными битвами за душу полиса, попыткой найти незыблемое этическое основание для общества, переживающего распад.Философско-исторический контекст: между полисом и личностью Тематическим ядром диалогов является этика, понятая не как свод правил, а как «этика личности». Сократ исследует сущностные понятия – добродетель (арете), справедливость (дике), мужество, благочестие (осиотес) – переводя их из сферы социальных условностей в область личного знания и ответственности. Как отмечал А.Ф. Лосев, здесь происходит «отрыв понятия от вещи», закладывающий основу для будущей платоновской теории идей.Специфика ранних диалогов: эленхос, апория и рождение философского субъекта Методологической основой служит эленхос – сократический опрос, который современная наука (благодаря работам Г. Властоса) понимает как сложную двуединую практику, сочетающую:
1. Деструктивную функцию – разрушение ложного знания и иллюзии компетентности.
2. Конструктивную функцию – неявное указание на путь к истине через демонстрацию противоречий.
Логический тупик, апория, в которой заканчивается большинство ранних диалогов, предстает не как неудача, а как дидактический и протрептический прием. Он создает у читателя «интеллектуальный зуд», состояние «ученого незнания», которое является единственно честной позицией для начала подлинного философского исследования. В интерпретации Х.-Г. Гадамера, апория – это не конец пути, а открытие горизонта для дальнейшего вопрошания, где истина рождается как событие в диалоге.
Современные исследовательские подходы раскрывают многомерность этого феномена.Многогранность интерпретаций: от логики к духовной практике · Историко-филологический подход (Властос, Ч. Кан) сосредоточен на решении «Сократического вопроса» – проблеме разграничения исторического Сократа и литературного образа, созданного Платоном. В то время как Властос предлагал строгие критерии для выделения «сократического» ядра, Кан настаивал на том, что даже ранние диалоги являются целостными литературными произведениями, с самого начала нацеленными на изложение философии самого Платона.
· Аналитическая традиция (Т. Ирвин) видит в Платоне систематического философа, решающего логические парадоксы. Ее представители скрупулезно анализируют структуру аргументов, выявляя лежащие в их основе предпосылки и проверяя их на непротиворечивость.
· Континентальная (герменевтическая) традиция (Гадамер, С.С. Аверинцев) рассматривает диалоги как целостные художественно-философские произведения, где форма неотделима от содержания. Аверинцев блестяще показал, что сократический диалог – это «драма идей», где логика выполняет роль судьбы, ведущей к интеллектуальному катарсису.
· Историко-философский и культурологический подходы (П. Адо, М. Фуко) раскрывают эленхос как «духовное упражнение» и практику «заботы о себе» (epimeleia heautou). В этом свете философия предстает не как теория, а как искусство жизни, технология преобразования субъекта и его способа бытия в мире.
· Источник для реконструкции учения исторического Сократа (с неизбежными оговорками).
· Блестящие литературные произведения, где драматургия служит философским целям.
· Полигон для отработки фундаментальных логических и этических проблем.
· Модель диалогического общения, остающаяся актуальной для современной герменевтики и философии.
Они знаменуют собой переход от «наивного» морализирования к рефлексивной философии, основанной на логике и требовании к внутренней согласованности знания. Именно в этих текстах рождается фигура философа не как всезнающего мудреца, а как вопрошающего искателя истины, чья миссия – «пробуждать души» и побуждать их к самостоятельному и ответственному мышлению. В этом – непреходящая ценность и сила ранних диалогов Платона.
Характеристика ранних (сократических) диалогов Платона
Ранние диалоги Платона – это корпус текстов, в которых философ, находясь под непосредственным влиянием своего учителя, запечатлел его личность, метод и круг проблем. Их можно охарактеризовать следующими фундаментальными чертами:
1. Сократический Центризм:
Фигура Сократа является абсолютным смысловым и драматургическим центром. Он выступает не как рупор авторских идей Платона, а как исторический Сократ – ироничный, вопрошающий, направляющий беседу.
Цель – не изложение готовой догмы, а живой процесс совместного поиска истины.
2. Этическая Проблематика:
Диалоги сосредоточены на исследовании фундаментальных этических понятий (добродетель – арете, справедливость, мужество, благочестие, умеренность).
Вопрос стоит не «как поступать правильно?», а «что есть сама сущность правильного?». Это поиск универсальных определений.
3. Диалектический Метод (Эленхос):
Основной инструмент – сократический метод опроса (эленхос). Сократ предлагает собеседнику дать определение какому-либо понятию.
Путем последующих вопросов и логического анализа это определение опровергается, выявляя его внутреннюю противоречивость и поверхностность.
Метод обнажает иллюзию знания у собеседника, приводя его к осознанию собственного невежества («Я знаю, что ничего не знаю»).
4. Апорический Финал:
Большинство ранних диалогов заканчиваются апорией (от греч. aporia – безвыходное положение, тупик). Участники беседы не приходят к положительному ответу на главный вопрос.
Смысл апории – не в скепсисе, а в педагогике. Тупик разрушает ложные стереотипы и мотивирует читателя на самостоятельное, более глубокое размышление. Истина не дается, а лишь намечается в процессе ее поиска.
5. Историческое и Философское Значение:
Как исторический документ – это главный источник сведений о личности и учении исторического Сократа, а также уникальный срез интеллектуальной жизни Афин V века до н.э.
Как философский проект – эти диалоги представляют собой «интеллектуальный переворот», сместивший фокус философии с космологии на этику и проблему человека. Они заложили основы европейской рациональной традиции, основанной на диалоге, логике и поиске универсалий.
Таким образом, общая формула раннего диалога: Сократ + этический вопрос + эленхос = апория. Это не законченные трактаты, а философские драмы, разыгрывающие акт познания в реальном
Тематическое ядро: «Этика личности» как ответ кризису полиса.
· Традиционная мораль: Изначально арете (добродетель) понималась как набор качеств, делающих человека полноценным членом полиса – воина, гражданина, семьянина. Это была этика «чести и славы», укорененная в общественных институтах.
· Вызов софистов: В V веке до н.э. софисты (Протагор, Горгий) подвергли эту традицию сомнению. Их тезис «человек есть мера всех вещей» вел к релятивизму: добродетель – это не объективная сущность, а то, что выгодно или считается таковой в каждом конкретном полисе. Они предлагали техне – искусство убеждать и добиваться успеха, а не познавать истину.
· Сократический ответ: Сократ, внешне похожий на софиста (тоже задает вопросы, тоже подвергает сомнению традицию), на деле занимает прямо противоположную позицию. Он ищет не мнение (doxa) о добродетели, а знание (episteme) о ней, то есть ее универсальную и неизменную сущность.
Замечание А.Ф. Лосева о «отрыве понятия от вещи» является фундаментальным. Проиллюстрируем его на примерах из диалогов:
· В «Евтифроне» Сократ спрашивает: «Что такое благочестие (осиотес)?» Евтифрон дает примеры: «преследовать нечестивца». Но Сократ настаивает: «Я просил тебя объяснить не тот или иной частный вид благочестия, а самую его идею». Он ищет не перечень благочестивых поступков (вещей), а логическое определение самой сущности благочестия (понятия).
· В «Лахете» обсуждается мужество. Полководец Лахет определяет его как «стойкость в строю». Но Сократ показывает, что мужество бывает и в морском бою, и в болезни, и в бедности. Следовательно, мужество – это не конкретный вид поведения, а некая единая форма (eidos), проявляющаяся в разных ситуациях. Здесь уже явственно проступают контуры будущей теории идей.
Этот метод – требование общего определения для частных проявлений – и есть тот философский инструмент, который «отрывает» идею справедливости от конкретных справедливых законов, а идею прекрасного – от прекрасных девушек или коней.
Перевод этики в область личного знания влечет за собой колоссальную индивидуальную ответственность. Знание, по Сократу, не бывает безразличным; оно конституирует субъекта.
· Интеллектуалистическая этика: Знаменитый тезис «Никто не зол по доброй воле» (часто встречающийся в ранних диалогах) означает, что зло – следствие незнания, ошибки в рассуждении. Тот, кто поистине знает, что есть добро, не сможет поступить иначе. Таким образом, этика становится функцией гносеологии.
· «Познай самого себя» и «Забота о себе»: Как блестяще показал французский историк философии Пьер Адо, сократовский метод – это практика «духовных упражнений». Цель диалога – не просто найти определение, а преобразовать себя и собеседника. Беседуя о мужестве, Сократ заставляет Лахета задуматься о том, является ли он сам мужественным человеком. Это и есть epimeleia heautou – забота о себе, своей душе (psyche), которая, как утверждается в «Апологии», куда важнее заботы о теле и богатстве.
· Грегори Властос (аналитическая традиция) видел в этом ядро «сократовского парадокса»: добродетель – это знание, а значит, ей можно научить (что и пытается делать Сократ). Однако апории показывают, что это знание оказывается чрезвычайно труднодостижимым.
· Мишель Фуко (в лекциях «Герменевтика субъекта») акцентировал именно практический аспект. Для него сократический диалог – это технология себя, процедура, в ходе которой индивид превращает себя в этического субъекта, способного к самоконтролю и исполнению морального закона, который он познал самостоятельно, а не получил извне.
· Отечественная наука (в работах М.А. Солоповой) также подчеркивает, что «личностное измерение» у Сократа не означает субъективизма. Напротив, через личное усилие разума индивид открывает для себя объективный логический порядок, лежащий в основе космоса и этики. Таким образом, личное знание оказывается сопричастным универсальному логосу.
Тематическое ядро ранних диалогов – это грандиозная попытка спасти этику от релятивизма, обосновав ее на непоколебимом фундаменте разума. Путь к этому лежит через радикальное вопрошание, которое переводит мораль из сферы общепринятого (nomos) в сферу лично добытого и проверенного знанием (logos). Именно этот поворот, этот «отрыв понятия от вещи», закладывает не только основы платоновского идеализма, но и всю дальнейшую западную философскую традицию, для которой вопрос о том, как мы можем знать, что есть добро, остается центральным.
Метод (Эленхос): от логической процедуры к духовному преобразованию.
Метод (Эленхос): Сократический метод – это не просто «опровержение». В зарубежной науке (напр., у Грегори Властоса) выделяют две основные функции эленхоса:
1. Деструктивная: Разрушение ложного знания, иллюзии компетентности.
2. Конструктивная: Неявное указание на путь к истине через демонстрацию противоречий. Эленхос подразумевает, что истина существует и она непротиворечива. Цель – не унизить собеседника, а «пробудить его душу» к самостоятельному поиску. Российский философ С.С. Аверинцев подчеркивал, что сократический диалог – это «драма идей», где логика служит катарсису.
Современные исследования показывают, что деструктивная и конструктивная функции не просто сосуществуют, а диалектически взаимосвязаны: разрушение (раз-рушение) ложного знания есть одновременно акт строительства нового интеллектуального и экзистенциального состояния собеседника.
Грегори Властос является ключевой фигурой в современном понимании эленкса. Он раскрыл его логическую структуру, показав, что Сократ исходит из нескольких неписаных правил:
· Принцип непротиворечивости: Истина должна быть логически последовательной. Обнаружение противоречия в убеждениях собеседника доказывает, что он не обладает знанием.
· Принцип синергии: Сократ опровергает не произвольные тезисы, а те, которые его собеседник искренне признает в качестве своих устоявшихся убеждений. Опровергается, таким образом, вся система взглядов человека.
Пример из «Горгия»: Сократ приводит Калликла к противоречию между его восхищением сильной личностью, которая преступает закон, и его же неприятием человека, который, будучи сильным, позволяет другим над собой издеваться. Это противоречие не просто логическая ошибка; оно вскрывает экзистенциальный разлад в душе Калликла, который одновременно хочет и быть «сверхчеловеком», и оставаться частью общества, осуждающего такой идеал.
Давайте углубим эту механику, добавив еще один критически важный принцип и рассмотрев последствия этой процедуры для собеседника.
Выделенные вами принципы Властоса – краеугольный камень современного понимания эленхоса. Давайте представим их в действии как единую систему и добавим третий, неявный, но жизненно важный принцип.
Триада принципов эленхоса по Властосу.
1. Принцип непротиворечивости (The Principle of Non-Contradiction):
o Суть: Это онтологическое основание всего метода. Сократ исходит из того, что реальность и истина устроены логически, а потому знание о них должно быть непротиворечивым. Противоречие – это индикатор лжи или заблуждения.
o На практике: Эленхос – это «логический детектор», настраиваемый на поиск внутренних противоречий в системе убеждений собеседника. Обнаружив его, Сократ доказывает не просто частную ошибку, а факт отсутствия episteme (подлинного знания) в целом.
2. Принцип синергии или «Системности убеждений» (The Principle of Synergy / Commitment):
o Суть: Сократ работает только с теми убеждениями (endoxa), которые собеседник признает своими и которые образуют некую целостную, хотя и неосознанную, картину мира.
o На практике: Сократ не навязывает свои предпосылки. Он выявляет имплицитные убеждения самого собеседника (например, что «лучше претерпеть несправедливость, чем совершить ее» или что «стыдно быть обиженным») и сталкивает их лбами с их же собственными заявлениями (например, что «сильный имеет право на несправедливость»). Опровергается не тезис, а позиция собеседника в целом.
3. Принцип «Равноправия аргументов» (The Principle of Equipollence):
o Суть: Это неявное, но мощное правило. Все убеждения, признанные собеседником как свои, имеют для него равный вес и авторитет. Сократ не позволяет ему в процессе опровержения отбросить одно из них как «неважное». Если ты признал, что справедливость – это благо, а потом заявляешь, что несправедливость полезна, ты не можешь просто проигнорировать первое утверждение. Оба они – часть твоего мировоззрения, и они должны сосуществовать.
o На практике: Именно этот принцип превращает логический конфликт в экзистенциальный тупик. Собеседник не может легко выбраться из апории, потому что он вынужден признать правоту всех своих собственных убеждений, которые вдруг оказались взаимоисключающими.
Пример из «Горгия»: От логики к экзистенции.
· Шаг 1 (Выявление убеждений): Сократ выявляет два фундаментальных убеждения Калликла:
1. Убеждение А (от традиционной морали): Быть обиженным и не дать сдачи – позорно и по-рабски (Горгий, 483a).
2. Убеждение Б (от «сверхчеловека»): Сильный и умный человек (сильный в ницшеанском смысле) по природе имеет право преступать закон и обижать других, и это – подлинная справедливость.
· Шаг 2 (Создание напряжения): Сократ применяет Принцип синергии и Принцип равноправия. Оба убеждения для Калликла истинны и значимы. Он не готов отказаться ни от одного.
· Шаг 3 (Применение Принципа непротиворечивости): Сократ показывает, что эти убеждения несовместимы. Если сильный имеет право обижать (Б), то что мешает другому, еще более сильному, обидеть его самого? А согласно его же убеждению (А), быть обиженным – позорно. Таким образом, идеал Калликла – «сильный, обижающий других» – логически ведет к его же собственному nightmare scenario: «сильный, но обижаемый, а значит, позорный».
· Результат (Апория как экзистенциальный разлад): Калликл оказывается в ловушке. Он не может отказаться ни от А (это слишком глубоко укоренено в его культурном коде), ни от Б (это его новый, желанный идеал). Логический тупик обнажает экзистенциальный разлад: его «я» разорвано между двумя несовместимыми моделями идентичности – «традиционный грек-гражданин» и «сверхчеловек-тиран». Он хочет наслаждаться безнаказанностью «сверхчеловека», но не может вынести позора «жертвы», который является неизбежной тенью его же идеала.
Таким образом, механика эленхоса, блестяще проанализированная Властосом, работает как логический катализатор экзистенциального кризиса. Она не просто доказывает, что собеседник ошибся, а демонстрирует ему, что он сам себе противоречит, что его жизненная позиция внутренне несостоятельна. Это и есть тот самый «катарсис», о котором говорил Аверинцев: болезненное, но необходимое разрушение ложной целостности личности, без которого невозможно рождение нового, более подлинного «Я», готового к поиску настоящей истины. Эленхос – это хирургическая операция на душе, проводящаяся скальпелем логики.
2. «Драма идей» как катарсис: Герменевтический и экзистенциальный взгляд.
Метафора С.С. Аверинцева о «драме идей» чрезвычайно продуктивна. Она позволяет увидеть в диалоге:
· Сюжет и конфликт: Есть завязка (вопрос «что есть X?»), развитие действия (поиск определений и их опровержение), кульминация (осознание апории) и развязка (катарсис – интеллектуальное и эмоциональное очищение).
· Роль логики: Логика в этой драме выполняет функцию, аналогичную закону судьбы в трагедии. Она безлична, неумолима и ведет персонажа к неизбежному финалу – осознанию своего незнания. Это и есть катарсис: болезненное, но очищающее избавление от иллюзий и самоуверенности.
Эту линию развивает Х.-Г. Гадамер. Для него эленхос – это не метод в смысле технического инструмента, а форма подлинного общения (диалога), в котором рождается понимание. Апория – это не конец пути, а начало подлинного вопрошания, открытость для истины, которая является не предметом владения, а событием в диалоге.
Метафора Аверинцева и ее развитие у Гадамера позволяют нам увидеть в эленхосе не эпистемологическую процедуру, а онтологическое событие, в котором преобразуется сам способ бытия человека-в-мире.
1. Драматургия как философская форма: От сюжета к преображению
Ваше описание драматургической структуры точно схватывает формальную сторону. Но давайте посмотрим на нее как на путь души:
· Завязка (Протазис): Вопрос «Что есть X?» – это не просто тема для обсуждения. Это вызов, брошенный самодовольному существованию. Собеседник, как трагический герой в начале пьесы, пребывает в состоянии гибрис – интеллектуальной гордыни, уверенный в своем знании.
· Развитие действия (Эпитазис): Поиск и опровержение определений – это серия «перипетий» (внезапных поворотов), где почва уходит из-под ног героя. Каждое опровержение – это удар по его идентичности, построенной на ложных основаниях.
· Кульминация и Развязка (Катастрофа и Катарсис): Осознание апории – это момент катастрофы, крушения всего мировоззренческого каркаса. Но, как и в трагедии, это разрушение – не конец, а очищение (катарсис). Аристотель понимал катарсис как очищение от страстей (страха и жалости) через их проживание. В сократическом диалоге происходит интеллектуальный и экзистенциальный катарсис: очищение от иллюзий, догм и ложной самоуверенности. Душа, освобожденная от «мусора» мнимых знаний, обретает состояние вопрошающей открытости. Это и есть рождение философского субъекта.
2. Гадамер: Эленхос как герменевтический опыт и событие истины
Развитие Гадамером этой линии радикально меняет наш взгляд на цель диалога.
· Истина как событие, а не предмет: Для Гадамера, истина – это не некий статичный объект, который можно «иметь» (как имеют мнение). Это событие (Geschehen), которое случается в процессе диалогического общения. Апория – это не провал в поиске объекта, а кульминационный момент этого события – момент, когда старая, неадекватная интерпретация мира рушится, открывая пространство для новой.
· Открытость вопрошания: В апории собеседник оказывается в состоянии «продуктивной негативности». Его знание опустошено, но именно эта пустота делает его открытым для Другого – для истины, которая может явиться только в диалоге. Как пишет Гадамер, «быть в состоянии диалога – значит быть готовым позволить сказать что-то себе другому». Эленхос и есть та практика, которая формирует эту готовность.
· Герменевтический круг в действии: Диалог – это воплощение герменевтического круга. Собеседники исходят из своих пред-пониманий (часто ложных), сталкиваются с их неадекватностью (в апории) и возвращаются к вопросу с новым, более глубоким пониманием его сложности. Сам вопрос «Что есть мужество?» после «Лахета» звучит уже иначе, он обогащен пройденным путем.
3. Синтез: Логика как Судьба и Диалог как Искусство Бытия
Соединяя Аверинцева и Гадамера, мы видим целостную картину:
· Логика – это безличная Судьба (Аверинцев). Она выполняет роль Ананки (Необходимости), которая неумолимо ведет героя к его судьбе – встрече с его собственным незнанием. Противоречие – это мойра логики, ее рок.
· Диалог – это пространство свободы и встречи (Гадамер). В рамках этой судьбы собеседник сохраняет свободу: признать свою ошибку или уйти, как Калликл, ожесточившись. Подлинный диалог – это риск, акт мужества, в котором человек соглашается подчиниться «логической судьбе», чтобы обрести более высокую свободу – свободу от заблуждения.
Эта драма является искусством бытия (techne tou biou) в античном смысле. Ее цель – не просто передача информации, а формирование определенного типа человека: смиренного перед лицом истины, но активного в ее поиске, умеющего сомневаться и вопрошать.
«Драма идей» – это не просто красивая метафора. Это ключ к пониманию того, что философия для Платона была не системой доктрин, а живым, драматическим actом самопреобразования. Эленхос, ведущий к апории, – это кульминация первого акта этой драмы. Он не дает ответа, но радикально меняет самого вопрошающего, подготавливая его ко второму акту – возможному прорыву к истине, который уже будет не просто усвоением информации, а личностным прозрением, рожденным в огне диалога.
3. Эленхос как «духовное упражнение»: Технология себя.
Взгляд Пьера Адо и Мишеля Фуко позволяет нам увидеть в эленхосе практику «заботы о себе» (epimeleia heautou).
· Цель – преобразование субъекта. Задача Сократа – не наполнить голову собеседника информацией, а изменить его самого, его способ существования. Опровергая готовые ответы, он заставляет душу двигаться, приходить в состояние удивления (начало философии, по Платону) и активного поиска.
· Эленхос как самопознание. Проходя через процедуру эленхоса, собеседник не столько узнает что-то о мужестве или справедливости, сколько узнает о себе: насколько его убеждения непрочны, насколько его жизнь не соответствует провозглашаемым им же принципам. В этом смысле эленхос – это практическое исполнение дельфийской максимы «Познай самого себя».
Давайте детально развернем эту перспективу, углубившись в концепции Адо и Фуко и показав, как именно эленхос функционирует как «технология себя».
Подход Пьера Адо и Мишеля Фуко переводит понимание эленхоса из гносеологической в экзистенциально-практическую плоскость. Философия здесь – это не теория, а образ жизни, а ее методы – конкретные психотехники для работы над собой.
1. «Забота о себе» (Epimeleia Heautou) как философский императив.
И Адо, и Фуко показывают, что знаменитое сократовское «познай самого себя» (γνῶθι σαυτόν) было лишь частью более широкого императива – «заботься о себе» (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ).
· Смещение акцента: Познание – не конечная цель, а средство и составная часть этой заботы. Нельзя познать себя, не прилагая усилий по преобразованию себя, и нельзя по-настоящему заботиться о себе, не познав свою природу, свои слабости и заблуждения.
· Эленхос как ядро этой заботы: Именно сократический диалог является главной практикой, реализующей этот императив. Это не дискуссия ради победы, а духовное упражнение (askēsis), в котором участвуют оба собеседника. Для Сократа это упражнение в педагогике и служении истине, для собеседника – в мужестве, смирении и самопознании.
2. Механика преобразования: Как эленхос работает как «технология себя».
Фуко, анализируя античные «техники себя», описывает эленхос как процедуру, позволяющую индивиду осуществить определенные операции со своим собственным сознанием, чтобы трансформировать себя.
· «О-существление» (Objectivation) убеждений: Первый шаг – вытащить смутные, неотрефлексированные мнения (doxai) из глубин сознания и облечь их в четкие, логические формулировки («Мужество – это стойкость в строю»). Эленхос заставляет собеседника объективировать свои внутренние установки, превратить их в объект для критического рассмотрения.
· «Испытание» (Examination) на прочность: Второй шаг – подвергнуть эти объективированные убеждения стресс-тесту на логическую непротиворечивость. Это аналог физического упражнения, где мышца рвется, чтобы стать сильнее. Здесь рвется ткань ложного знания, чтобы на ее месте могло возникнуть знание истинное.
· «От-чуждение» (Alienation) от ложного «Я»: Апория – ключевой момент. Переживание тупика – это переживание краха той идентичности, которая была построена на неверных основаниях. Собеседник вдруг осознает: «Тот, кто думал, что знает, что такое справедливость, – это не я». Происходит отчуждение от прежнего, «невежественного Я». Это болезненный, но необходимый акт самоотречения.
· Создание «места» для нового Я: Опустошенность после апории – это не вакуум, а пространство возможности. Очищенное от догм и предрассудков, оно становится вместилищем для подлинного, вопрошающего «Я», которое больше не отождествляет себя с набором готовых ответов.
3. Эленхос как практика свободы.
С точки зрения Адо, конечная цель всех духовных упражнений – достижение внутренней свободы.
· Свобода от страстей (pathē): Ложные мнения порождают ложные страсти (страх, жадность, жажду власти). Доказывая их несостоятельность, эленхос лишает эти страсти их интеллектуальной основы. Зачем стремиться к власти как к высшему благу, если в ходе диалога выяснилось, что ты не можешь даже определить, что такое «благо»?
· Свобода для разума (logos): Освободившееся место занимает активный, вопрошающий разум. Состояние апории – это и есть состояние максимальной свободы мысли, не скованной догмами. Человек теперь способен следовать за аргументом туда, куда он ведет, а не туда, куда ему хочется.
4. Отечественный контекст: «Испытание на человечность».
В отечественной традиции этот взгляд находит отклик в интерпретациях, акцентирующих антропологическое измерение платоновской мысли. Ранние диалоги видятся не только как гносеологические трактаты, но как «испытание на человечность». Эленхос проверяет не только знания собеседника, но его способность к сомнению, диалогу, самокритике и моральной рефлексии – то есть, в конечном счете, его способность быть философом, а значит, по Сократу, и подлинным человеком.
Взгляд Адо и Фуко позволяет нам увидеть в сократическом эленхосе мощнейшую психотехнику античности. Это не просто «метод ведения диалога», а:
· Духовная практика по преобразованию собственного бытия.
· Этика интеллектуальной честности, доведенная до уровня аскезы.
· Технология самопреодоления, где через разрушение ложной идентичности происходит рождение субъекта, способного к подлинному вопрошанию и, следовательно, к подлинной жизни.
Эленхос – это упражнение в том, чтобы быть, а не просто знать. И апория в этом свете – не конец пути, а свидетельство того, что упражнение выполнено правильно: старый, неавторитетный голос умолк, и в наступившей тишине может прозвучать голос истины.
4. Отечественный контекст: от формальной логики к экзистенциальному смыслу.
В отечественной традиции, помимо Аверинцева, эту тему развивал А.Ф. Лосев. Он подчеркивал, что сократический диалог – это живой, интуитивно-диалектический процесс, который нельзя свести к формальной логике. Лосев видел в эленхосе проявление «субстанциального характера» античной философии, где мысль неотделима от бытия и жизни мыслящего индивида. Разрушая ложное знание, Сократ очищает место для подлинного, онтологически укорененного знания-бытия.
Лосев предлагает взгляд на эленхос, который выводит его за рамки не только формальной логики, но и отчасти герменевтики, укореняя его в самой структуре бытия. Давайте развернем эту глубокую мысль.
Отечественный контекст и онтологический эленхос А.Ф. Лосева.
В отличие от западных аналитических (Властос) или даже континентальных (Гадамер, Адо) подходов, Лосев предлагает взгляд на эленхос как на фундаментальный онтологический акт, в котором раскрывается сама природа реальности.
1. Критика формально-логического редукционизма.
Лосев решительно выступал против сведения диалектики Платона к формальной логике. Для него эленхос – это не просто система правильных умозаключений, а живой, интуитивно-диалектический процесс.
· Живой процесс: Диалог для Лосева – это не застывшая логическая схема, а "драма живой человеческой мысли", столкновение не просто мнений, а целостных личностей с их экзистенциальными позициями. Логика здесь – не внешний судья, а имманентная пружина этого столкновения.
· Интуитивно-диалектический: Это ключевой термин. Лосев подчеркивает, что Сократ оперирует не готовыми понятиями, а "интуициями сущностей". Он заставляет собеседника не просто перебирать определения, а всматриваться в саму суть (eidos) явления, пытаться ее "ухватить" умственным взором. Диалектика – это не спор, а "логос о сущем", искусство видеть, как сущность проявляет себя в противоречиях.
2. «Субстанциальный характер» античной философии: Тождество бытия и мышления.
Это центральный пункт лосевской интерпретации. В отличие от новоевропейского субъект-объектного отношения, где мысль противопоставлена бытию, для античного (и особенно платоновского) сознания мысль (logos) и бытие (on) субстанциально едины.
· Мысль как бытие: Заблуждение – это не просто ошибка в вычислении. Это онтологический дефект, ущербный способ бытия души. Ложное мнение – это когда душа прилепляется к чему-то неистинному, мнимому, и потому сама становится менее "сущей", менее реальной.
· Эленхос как онтологическая чистка: Следовательно, разрушая ложное знание, Сократ совершает не гносеологическую коррекцию, а онтологическое врачевание души. Он выжигает из нее причастность к небытию (лжи, иллюзии), чтобы освободить место для причастности к подлинному бытию – Идее. Опровержение – это акт помощи душе в ее возвращении к самой себе, к своей собственной истинной и разумной природе.
3. Знание-бытие (Gnosis-On) как цель эленхоса.
Целью диалога, по Лосеву, является не просто получение информации, а обретение онтологически укорененного знания.
· Знание как причастность: Познать Идею Справедливости – значит не дать ей вербальное определение, а стать причастным ей, уподобиться ей. Знание тождественно бытию: чтобы знать справедливость, надо быть справедливым. Чтобы знать мужество, надо быть мужественным.
· Апория как подготовка онтологического сдвига: Поэтому апория – это не просто тупик. Это момент, когда почва старого, неаутентичного бытия уходит из-под ног. Это kenosis (опустошение), необходимое для того, чтобы душа стала восприимчивой к интуиции подлинного бытия. Она очищает не только интеллект, но и само экзистенциальное "место" в душе для нового, онтологически полноценного способа существования.
4. Лосев и другие традиции: Синтезирующая позиция.
Лосевская трактовка не отрицает другие подходы, но помещает их в более широкий, онтологический контекст:
· По отношению к Властосу: Лосев согласился бы, что логическая непротиворечивость важна, но увидел бы в ней не правило игры, а отражение онтологической цельности и непротиворечивости самого бытия. Противоречие в речи – симптом противоречия в бытии души.
· По отношению к Гадамеру: Идея "события истины" очень близка Лосеву. Но для Гадамера это событие происходит в диалоге между людьми, а для Лосева – в первую очередь в диалоге души с самим бытием, где собеседник – лишь катализатор.
· По отношению к Адо/Фуко: Концепция "духовного упражнения" и "заботы о себе" почти напрямую перекликается с лосевским "врачеванием души". Однако Лосев делает более сильный онтологический акцент: забота о себе – это не просто этика или технология себя, а метафизическая необходимость возвращения души в ее естественное, умопостигаемое состояние.
Таким образом, отечественная традиция в лице А.Ф. Лосева предлагает нам увидеть в сократическом эленхосе метафизический инструмент. Это практика, с помощью которой:
1. Индивид прорывается от мнения (doxa), привязанного к миру становления, к знанию (episteme), причастному миру вечных сущностей.
2. Душа не просто "узнает что-то", а онтологически преображается, становясь более реальной, более "сущей", воссоединяясь с источником своего бытия – миром идей.
Эленхос, в этом свете, – это не просто первый шаг философии, а ее квинтэссенция: постоянное усилие по утверждению бытия через отрицание небытия в себе.
5. Эленхос как ядро философского акта.
Таким образом, сократический эленхос предстает не как простой метод опровержения, а как многомерная практика, объединяющая в себе:
1. Логическую процедуру (выявление и разрешение противоречий по Властосу).
2. Драматургическое действие (катарсис через «драму идей» по Аверинцеву и Гадамеру).
3. Этико-экзистенциальное упражнение («забота о себе» и преобразование субъекта по Адо и Фуко).
Его конечная цель – не победа в споре, а «пробуждение души», приведение ее в состояние, готовое к восприятию истины. Апория, таким образом, – это не провал, а успех метода: она маркирует момент гибели наивной самоуверенности и рождения подлинного, вопрошающего философского отношения к миру и к себе. Именно в этом «пустом» после эленхоса пространстве и может произрасти настоящее знание.
Давайте оформим этот вывод, подчеркнув его ключевые импликации и место в истории мысли.
Эленхос как Ядро Философского Акта – Рождение Философствующего Субъекта.
Эленхос – это не «шаг» в философском методе, а сам акт философствования в его изначальной, чистой форме. Это практика, в которой гносеология, онтология и этика слиты в нерасторжимое единство.
1. Логическая процедура (Работа с Logos): Эленхос обеспечивает интеллектуальную честность. Без этой безжалостной проверки на непротиворечивость любое «пробуждение души» рискует скатиться в безответственный мистицизм или риторику. Это скелет метода, его структурная основа.
2. Драматургическое действие (Работа с Pathos): Эленхос обеспечивает экзистенциальную вовлеченность. Без драмы, катарсиса и личного столкновения с апорией логика остается холодной и безжизненной игрой ума. Это кровь и плоть метода, его энергия и движущая сила.
3. Духовное упражнение (Работа с Ethos): Эленхос обеспечивает личностное преображение. Без цели преобразовать самого субъекта, его способ бытия в мире, и логика, и драма теряют свой высший смысл. Это душа метода, его конечная цель.
Ваша характеристика апории как «успеха метода» и «пустого пространства» – ключевая. Это позволяет провести мощную параллель с концепцией kenosis (греч. κένωσις – опустошение) в мистико-философской традиции.
· Апория – это kenosis интеллекта: Насильственное или добровольное опустошение ума от всех готовых ответов, догм и «мнений» (doxai). Это акт смирения разума перед лицом незнания.
· Цель kenosis – plerosis (наполнение): Опустошение создает сосуд, способный вместить нечто новое и более высокое. Апория подготавливает душу к восприятию истины не как внешней информации, а как внутреннего озарения, рождающегося из глубины этого «пустого» и потому открытого пространства.
Таким образом, эленхос – это ритуал философского инициации, где через kenosis апории рождается новый тип субъективности: «homo interrogans» – человек вопрошающий.
Этот синтез позволяет увидеть радикальную новизну Сократа и Платона:
· Разрыв с досократиками: В отличие от поиска архе (первоначала) в природе, Сократ переносит поиск основы в логос и в душу человека. Эленхос – это метод этого «поворота к человеку».
· Разрыв с софистами: В отличие от софистов, использовавших логику для победы и убеждения, Сократ использует ее для поиска истины и преобразования себя и собеседника. Эленхос – это анти-риторика.
· Заложение фундамента западной философии: В этом акте – корни платоновской диалектики, аристотелевской логики, августиновской интроспекции, картезианского метода радикального сомнения и кантовской критики чистого разума. Все они, так или иначе, являются вариациями на тему «пробуждения души» через испытание ее собственными основаниями.
Сократический эленхос, рассмотренный через призму современных исследовательских традиций, предстает не как архаичный прием, а как живая парадигма философского поиска. Это – прото-акт философии, в котором:
· Рождается субъект (через катарсис и духовное упражнение).
· Испытывается истина (через логическую процедуру).
· Конституируется само пространство мысли как открытое, вопрошающее и диалогическое.
Именно поэтому диалоги Платона, особенно ранние, остаются неиссякаемым источником философского вдохновения: они запечатлели не результат мысли, а сам процесс мышления как драму человеческого духа, стремящегося к истине. Апория – это не конец, а свидетельство того, что диалог был подлинным, а душа собеседника и читателя – затронута по-настоящему.
Апория как философский итог: Тупик в конце диалога – это не признак неудачи, а дидактический и протрептический прием (протрептик – побуждение к занятию философией). Апория создает у читателя «интеллектуальный зуд», состояние «ученого незнания», которое является единственно честной позицией для начала подлинного философского исследования. Этот прием показывает, что этические понятия не могут быть просто заучены, как мнение софистов, а требуют глубинного переосмысления.
· Проблема «Сократического вопроса»: Роль Платона здесь сложнее. Ранние диалоги – это ядро так называемого «Сократического вопроса» – проблемы разграничения исторического Сократа и Сократа литературного. Большинство зарубежных исследователей (Властос, Ч. Кан) сходятся во мнении, что в ранних диалогах Платон в основном аутентично передает метод и тип философствования своего учителя. Однако это уже «платоновский Сократ» – художественный образ, служащий целям самого Платона. Отечественная платонистика (М.А. Солопова, Ю.А. Шичалин) также акцентирует, что даже в самых ранних текстах мы имеем дело не с протоколом бесед, а с философско-художественной реконструкцией, где уже проглядывают контуры будущей платоновской системы (например, идея о примате души над телом в «Апологии» и «Критоне»).
Мы выделили два краеугольных камня, на которых стоит все современное понимание ранних диалогов Платона: функциональная роль апории и проблема «Сократического вопроса». Давайте детально развернем каждый из этих пунктов, углубив их за счет нюансов и современных научных дебатов.
Апория как философский итог: Дидактика «ученого незнания»
Апории – это не тупик, а стратегический ориентир, переворачивающий привычное отношение к знанию.
1. Гносеологическая «перезагрузка»: Апория выполняет функцию, аналогичную картезианскому радикальному сомнению. Она разрушает наивно-реалистическое отношение к языку и понятиям. Собеседник (и читатель) понимает, что слова «справедливость» или «мужество», которые он привык употреблять, не имеют для него ясного и устойчивого содержания. Это обвал «символического порядка», который заставляет вернуться к самым основам.
2. Этическая провокация: Апория ставит под вопрос не только знание, но и жизненную практику. Если никто не может определить, что такое благочестие («Евтифрон»), то на каком основании Евтифрон предает собственного отца суду? Если мы не знаем, что такое мужество («Лахет»), можем ли мы считать себя мужественными или воспитывать в нем детей? Апория выявляет пропасть между жизнью и рефлексией, заставляя эту рефлексию совершить.
3. Создание «сообщества вопрошания»: Апория нивелирует иерархию между Сократом и его собеседником. В точке незнания оказываются все. Это создает не сообщество обладателей истины, а «философскую общину» (koinonia), объединенную совместным поиском. Читатель также приглашается в это сообщество, испытывая тот же «интеллектуальный зуд».
4. Связь с будущей теорией идей: Апория демонстрирует, что чувственный опыт и обыденное сознание неспособны дать определение этическим понятиям. Это неявно указывает на то, что их источник и сущность лежат в ином, умопостигаемом плане бытия. Таким образом, апория готовит философское основание для введения мира Идей как единственного способа разрешить эти тупики.
Проблема «Сократического вопроса»: Где заканчивается Сократ и начинается Платон?
· Грегори Властос и «эволюционистская модель»: Властос предложил строгие критерии для разделения «сократического» и «платонического» периодов. Для него ранние диалоги – это в основном исторический Сократ, чья философия характеризуется:
o Интеллектуалистической этикой («добродетель – это знание»).
o Методом эленхоса.
o Отсутствием теории идей и учения о бессмертии души в ее метафизическом смысле.
o Тезисом «никто не зол по доброй воле».
· Ч. Кан и «унитарный подход»: Кан оспорил эту модель. Он утверждает, что Платон с самого начала был системным мыслителем, а «сократические» диалоги – это не стадия развития, а литературный жанр, выбранный для определенных целей. «Сократ» Платона – с самого начала рупор его собственных идей, просто на раннем этапе эти идеи выражены в негативной, вопрошающей форме. Для Кана не существует «исторического Сократа», доступного нам помимо литературных интерпретаций.
· Компромиссная позиция: Большинство современных исследователей занимают промежуточную позицию. Они признают, что Платон в ранних диалогах стремился запечатлеть дух, метод и тип проблематики исторического Сократа. Однако сам художественный отбор, драматургия и неизбежная интерпретация превращают этот образ в философский конструкт – «платоновского Сократа», который служит целям самого Платона.
· А.Ф. Лосев и М.А. Солопова: Подчеркивают художественно-философское единство диалогов. Для них попытка жестко отделить Сократа от Платона методологически порочна, так как мы имеем дело с целостным произведением искусства, где историческая достоверность подчинена философской задаче. Солопова указывает, что даже в «Апологии» мы видим не стенограмму суда, а философский манифест, где Платон средствами драмы отстаивает определенный тип мудрости.
· Ю.А. Шичалин: Акцентирует школьный контекст. Диалоги создавались не как исторические документы, а как учебные тексты для Академии. Их цель – не зафиксировать прошлое, а обучить определенному способу мышления. Фигура Сократа здесь является идеальной дидактической моделью философа. Поэтому вопрос о том, «где тут Сократ, а где Платон», для самого Платона и его первых читателей мог не стоять так остро, как для современных филологов.
Примеры «прорастания» платонизма в ранних диалогах:
· «Апология» и «Критон»: Идея примата души над телом и необходимости заботиться о душе в первую очередь – это уже шаг к платоновскому дуализму и учению о бессмертии души.
· «Горгий»: Миф о загробном суде в конце диалога – это уже не просто сократическая этика, а развернутая эсхатологическая картина, предполагающая онтологическое обоснование справедливости, что характерно для зрелого Платона.
· Поиск определений: Сам поиск единой сущности (eidos) за множеством проявлений – это методологическая предпосылка теории идей.
Таким образом, ранние диалоги Платона – это динамическое поле напряжения между верностью учителю и собственным философским гением автора.
· Апория – это не финал, а инкубатор подлинной философии, выводящий мысль за пределы привычного.
· «Сократический вопрос» напоминает нам, что перед нами – не фотографический снимок, а философский портрет поразительной глубины. В нём исторический Сократ и гений Платона сливаются воедино, порождая образ, навсегда определивший самую суть того, что значит быть философом.
Именно в этом напряжении между верностью духу учителя и мощью собственной мысли рождается уникальный феномен, который мы называем философией Платона.
Исследовательские подходы к ранним диалогам можно условно разделить на несколько ключевых традиций.
Этот подход является фундаментом, на котором строятся все дальнейшие интерпретации. Его суть – не в эстетическом или философском восприятии текста, а в его использовании как исторического источника для решения конкретной научной проблемы.
1. Методология и «Свидетельские показания».
Исследователи, работающие в этой парадигме, действуют как следователи, имеющие три основных типа показаний, каждое из которых проблематично:
· Платон: Самый полный и философски насыщенный источник. Но главный вопрос – где в его диалогах заканчивается Сократ и начинается сам Платон? Для решения этого используется «принцип развития»: предполагается, что философия Платона эволюционировала, и в ранних диалогах он был ближе к учению учителя.
· Ксенофонт: Его «Воспоминания о Сократе» и другие сократические сочинения изображают добропорядочного моралиста, дающего практические советы. Это создает «загадку Ксенофонта»: как один и тот же человек мог вдохновить и Платона, и Ксенофонта? Часто считается, что Ксенофонт, будучи солдатом и практиком, упростил и приземлил образ Сократа, не поняв глубины его философских поисков.
· Аристофан: В комедии «Облака» Сократ изображен как шарлатан, софист и «спутник небесных явлений». Это карикатура, но карикатура, основанная на узнаваемых чертах. Аристофан фиксирует внешнее, популярное восприятие Сократа афинянами, что является ценным историческим свидетельством о его публичном образе.
2. Зарубежная наука: Дилемма «Эволюционизм и Унитаризм»
Ваше противопоставление Властоса и Кана – это стержень современной дискуссии.
· Грегори Властос и «Эволюционистская модель»: Властос предложил не просто интуитивное разделение, а строгий набор критериев:
o Метод: В ранних диалогах – исключительно деструктивный эленхос. В средний период появляется позитивная диалектика как метод восхождения к Идеям.
o Этика: Ранний Сократ утверждает, что добродетель едина (знание блага), а ее частные проявления (мужество, благочестие) неотделимы друг от друга. Зрелый Платон рассматривает добродетели как отдельные качества души.
o Метафизика: Для раннего Сократа не существует отдельного мира Идей. Теория Идей – продукт зрелого творчества Платона.
o Психология: Тезис «Никто не зол по доброй воле» подразумевает, что знание автоматически ведет к правильным поступкам. У зрелого Платона появляется учение о трехчастной душе, где разуму приходится бороться со страстями и вожделениями.
· Ч. Кан и «Унитарный» или «Протрептический» подход: Кан атаковал саму основу эволюционизма. Он доказывал, что диалоги Платона с самого начала были задуманы как части единого литературно-философского проекта.
o Цель – не историческая, а протрептическая. Ранние диалоги, заканчивающиеся апорией, должны были не зафиксировать учение Сократа, а спровоцировать читателя, вывести его из состояния самодовольства и подготовить к восприятию более сложных идей, которые изложены в средних диалогах.
o «Сократ» – это литературная маска, которую Платон использует для разных целей на протяжении всей своей карьеры. Поэтому искать в ранних диалогах «чистого» Сократа – наивно.
3. Отечественная наука: От идеологии к текстологии.
В.Ф. Асмус, выполняя социальный заказ, стремился найти в Сократе «материалистические» и «критические» элементы, противопоставляя его «идеалисту» Платону. Это была своеобразная «историко-филологическая хирургия», направленная на идеологическое размежевание.
Современная российская наука, освободившись от этого груза, движется в двух основных направлениях:
· Тонкий историко-философский анализ (А.В. Лебедев): Лебедев и его школа занимаются скрупулезной реконструкцией досократической и ранней сократической мысли. Они рассматривают диалоги Платона как сложный сплав, где переплетены идеи самого Сократа, критика софистов, полемика с досократиками и собственные инновации Платона. Задача – не просто отделить одного от другого, а понять их интеллектуальное взаимодействие.
· Филолого-герменевтический подход (М.А. Солопова, Ю.А. Шичалин): Этот подход близок к идеям Кана, но со своим акцентом. Он рассматривает корпус текстов Платона как «органическое целое», создававшееся для нужд платоновской Академии. Ранние диалоги видятся не как «юношеские опыты», а как продуманный вводный курс в философию, где апория является дидактическим инструментом первой важности.
Итог: Историко-филологический подход, пройдя путь от наивного доверия тексту к сложным методам критического анализа, показал, что «Сократический вопрос» не имеет окончательного ответа. Однако сам процесс его исследования оказался невероятно продуктивным, заставив по-новому прочитать тексты Платона, оценить их литературное мастерство и понять, что образ Сократа – будь он историческим или литературным – стал катализатором, породившим одну из величайших философских систем в истории.
Это направление, зародившееся в англоязычной философской среде, применяет к текстам Платона инструментарий современной логики, философии языка и этики, рассматривая его как коллегу-философа, с которым можно и нужно вести строгий концептуальный спор.
1. Методология: От текста к аргументу.
Аналитики не столько интерпретируют диалоги как целостные литературные произведения, сколько реконструируют и оценивают представленные в них аргументы. Их работа часто выглядит так:
· Формализация: Логическая структура сократических рассуждений переводится в виде последовательности посылок и выводов. Например, опровержение определения мужества в «Лахете» может быть представлено как силлогизм, чтобы проверить его валидность.
· Выявление имплицитных предпосылок: Аналитики стремятся выявить не только явные, но и скрытые предпосылки, которые делают аргумент Сократа работающим. Например, что такое «знание» для Сократа? Является ли оно тождественным «истинному мнению»? Эти вопросы становятся центральными.
· Критическая оценка: Реконструированный аргумент подвергается критике с позиций современной логики. Является ли он убедительным? Не содержится ли в нем логической ошибки (например, подмены понятия, порочного круга)? Цель – не осудить Платона, а прояснить философскую проблему.
2. Ключевые проблемы, решаемые аналитической традицией.
· «Сократическая ошибка» (The Socratic Fallacy): Этот термин ввел Питер Гич. Речь идет о том, можно ли искать определение X, не имея предварительного критерия для распознавания примеров X. Сократ в «Евтифроне» как будто утверждает, что нельзя узнать, благочестив ли поступок, не зная определения благочестия. Аналитики спорят, является ли это глубокой эпистемологической проблемой или логическим тупиком.
· Интеллектуалистическая этика и «Слабость воли» (Akrasia): Тезис «Никто не зол по доброй воле» является для аналитиков полем битвы. Как совместить его с очевидным фактом, что люди часто совершают поступки, зная, что они дурны? Теренс Ирвин в своей фундаментальной работе «Платонова этика» тщательно анализирует, что Сократ (а затем и Платон) подразумевает под «знанием». Является ли это чисто пропозициональным знанием или чем-то вроде устойчивого мотивационного состояния? Аналитики показывают, что за этим тезисом стоит радикальная теория мотивации, согласно которой знание о благе является единственным и достаточным мотивом для действия.
· Единство добродетелей: Являются ли мужество, справедливость, благочестие и т.д. частями единого знания о благе (как утверждается в «Протагоре»), или это независимые качества? Аналитики скрупулезно разбирают аргументы «за» и «против» в разных диалогах, показывая внутреннюю напряженность и развитие мысли у самого Платона.
· Природа эленхоса: Аналитики, вслед за Властосом, стремятся дать логическое описание сократического метода. Каковы правила этой игры? Что именно опровергается: тезис собеседника или его притязание на знание? Является ли эленхос дедуктивным или индуктивным методом?
3. Вклад и критика аналитической традиции.
Вклад:
o Прояснение понятий: Аналитики проделали титаническую работу по прояснению платоновской терминологии (arete, episteme, doxa, eidos), что необходимо для любого серьезного исследования.
o Демифологизация Платона: Они показали, что Платон – не мистик, изрекающий откровения, а rigorous thinker, чьи аргументы можно и нужно подвергать рациональной критике.
o Установление стандартов строгости: Эта традиция задала высокую планку аргументации в платоноведении, требуя точности и логической последовательности.
Критика:
o Редукционизм: Противники обвиняют аналитиков в том, что они «выпотрошивают» диалоги, игнорируя их литературную форму, драматургию, иронию и мифологическую образность. Вопрос «Какую логическую проблему решает этот миф?» может упускать его экзистенциальную или психологическую функцию.
o Анахронизм: Применение современной логической аппаратуры к античному тексту может искажать оригинальный замысел. Платон мыслил не в категориях аналитической философии XX века.
o Потеря целого: Сосредоточившись на отдельных аргументах, аналитики иногда упускают из виду общую философскую цель диалога, его «драму идей».
Итог: Аналитическая традиция, несмотря на спорность некоторых ее методов, оказала огромное влияние, заставив читать Платона как философа проблем, а не догм. Она показала, что апории в ранних диалогах – это не просто педагогические приемы, а отражение genuine logical puzzles, которые продолжают волновать философов и по сей день. Работа таких ученых, как Ирвин, Властос или Гич, предоставила мощнейший инструментарий для того, чтобы вести содержательный диалог с Платоном на языке строгой аргументации.
Если аналитики видят в диалогах трактаты, «испорченные» литературной формой, то континентальная традиция считает эту форму содержательной и конститутивной для самой философии Платона. Диалог – не оболочка для идей, а единственно адекватный способ их бытия и передачи.
1. Философские основания: Истина как Событие и Встреча.
· Герменевтика Х.-Г. Гадамера: Для Гадамера платоновский диалог – это не исторический документ и не набор аргументов, а модель самого понимания. Ключевые идеи:
o Истина рождается в диалоге: Истина (aletheia) – это не объект, который можно иметь, а событие (Geschehen), которое случается между собеседниками. Она «раскрывается» в процессе вопрошания и ответа.
o Апория как герменевтический импульс: Тупик, в который заходит беседа, – это не провал, а момент высшей продуктивности. Он разрушает наивную уверенность и открывает горизонт для подлинного вопрошания. Апория – это условие возможности понимания, ибо только осознав свое незнание, человек становится truly open to the truth.
o Роль пред-понимания: Собеседники входят в диалог со своими «предрассудками» (пред-пониманием). Задача диалога – не отбросить их, а критически их протестировать и преобразовать в процессе «слияния горизонтов» участников беседы.
· Феноменологический взгляд (напр., Я. Пэтока): Этот подход акцентирует, что диалог есть феномен интенциональной жизни сознания. Вопросы Сократа – это не логические ловушки, а приемы, направленные на поворот сознания (periagoge) от мира мнений (doxa) к созерцанию сущностей (eide). Диалог – это тренировка интенциональности, перенаправление ее на умопостигаемые объекты.
2. Зарубежная наука: Диалог как образ жизни.
Помимо Гадамера, эту линию развивали и другие мыслители, для которых диалог был практикой, формирующей субъекта.
· Пьер Адо: Рассматривал философию как «духовное упражнение». С этой точки зрения, каждый сократический диалог – это практика работы над собой. Цель – не столько найти определение, сколько через испытание логикой преобразовать свой этос, свой способ бытия в мире. Участие в эленхосе – это аскеза, очищающая душу от страстей и ложных мнений.
· Жак Деррида: В своих поздних работах обращался к Платону, чтобы показать, как письмо (pharmakon – и лекарство, и яд) в диалогах одновременно и передает смысл, и подрывает любые притязания на окончательную, неизменную истину. Диалогическая форма сама по себе является для Деррида актом деконструкции философского догматизма.
3. Развитие в отечественной науке: Филология как философия.
Отечественные исследователи, часто будучи блестящими филологами, внесли уникальный вклад, рассматривая литературную форму как философский код.
· С.С. Аверинцев: «Драма идей». Его анализ идет дальше констатации литературности. Он показывает, как Платон использует структуры греческой трагедии:
o Судьба и Логика: В трагедии герой сталкивается с безличным Роком (Moira). В диалоге его роль выполняет безличная и неумолимая Логика. Она ведет собеседника к его «судьбе» – апории.
o Катарсис: Осознание незнания – это интеллектуальный и экзистенциальный катарсис, очищение от гибрис (самоуверенности) и рождение нового, вопрошающего субъекта.
o Связь с комедией проявляется в иронии Сократа, которая создает дистанцию и позволяет увидеть несостоятельность претензий собеседников.
· А.А. Тахо-Годи: Миф как философемы. Ее работы – блестящая иллюстрация тезиса о неразрывности формы и содержания. Она доказала, что мифы у Платона – это не риторические украшения и не уступка неразвитому сознанию, а особый, символический способ философского высказывания.
o Миф говорит там, где силлогизм бессилен. Эсхатологические мифы в «Федоне», «Горгии» и «Государстве» говорят о посмертной участи души, о которой невозможно иметь пропозициональное знание. Они до-формляют интуицию, которую логика не может выразить до конца.
o Миф – это продолжение диалектики иными средствами, обращенное не только к разуму, но и ко всей целостности человеческой души.
Континентальная традиция видит в платоновском диалоге универсальную модель человеческого отношения к истине. Это отношение – не монологическое присвоение, а диалогическое вопрошание, вовлекающее всего человека – его разум, его экзистенцию, его воображение. Апория, ирония, миф и сама драматургическая форма – это не внешние аксессуары, а конститутивные элементы философского акта, который стремится не просто информировать, а преображать.
Этот подход рассматривает диалоги как «симптом» и одновременно «ответ» на глубокие кризисы афинского полиса. Он показывает, что философские вопросы Сократа были не отвлеченными, а вырастали из самой сердцевины социальной и интеллектуальной жизни его времени.
1. Зарубежная наука: Философия как «Техника Себя» в контексте полиса.
· Пьер Адо: «Духовное упражнение».
o Суть: Адо рассматривает философию не как теорию, а как образ жизни и совокупность практик (askēsis), направленных на преобразование себя. Ранние диалоги – это учебники таких упражнений.
o Контекст: В условиях распада традиционных полисных ценностей и религиозных норм философия предлагает новую, индивидуальную основу для этики. Вопрос «Что такое добродетель?» – это не академический интерес, а попытка найти внутренний стержень, когда внешние опоры рухнули.
o Пример: Апория – это не неудача, а успешно выполненное упражнение в смирении интеллекта, необходимое для его последующего исцеления и преображения.
· Мишель Фуко: «Забота о себе» (epimeleia heautou).
o Суть: В своих поздних лекциях Фуко анализирует, как в античной культуре формировались «техники себя» – процедуры, с помощью которых индивиды воздействуют на собственную душу, чтобы преобразовать себя и достичь определенного состояния бытия.
o Контекст: Сократический диалог для Фуко – это ключевая социальная практика античного города, одна из главных «техник себя». Эленхос – это не просто спор, а ритуал, в ходе которого индивид проверяет и преобразует себя, свою жизнь и свои убеждения, чтобы стать этическим субъектом.
o Пример: Беседа Сократа с Алкивиадом в одноименном диалоге – это классический акт «заботы о себе», где философ помогает молодому политику осознать, что он не заботился о самом главном – о своей душе.
2. Отечественная наука: Социально-политический контекст как ключ к философии.
· Ф.Х. Кессиди: «Сократ» в контексте кризиса полиса.
o Суть: Кессиди напрямую связывает содержание диалогов с историческими событиями: Пелопоннесской войной, чумой, олигархическим переворотом и последующим восстановлением демократии, казнившей Сократа.
o Контекст: Кризис афинской демократии был кризисом ее идеологии. Софисты были интеллектуальными выразителями этого кризиса, доказывая относительность законов и морали. Ответ Сократа был направлен на поиск нового, незыблемого основания для морали и знания, которое могло бы спасти полис от распада.
o Пример: Спор с софистами в диалогах – это не просто академический диспут, а битва за душу полиса. Когда Сократ настаивает на объективности блага и справедливости, он предлагает альтернативу как традиционному морализаторству, так и разрушительному релятивизму софистов.
Позвольте мне лишь расставить дополнительные акценты, подчеркивающие уникальность этого феномена.
· В философско-историческом аспекте: Ранние диалоги действительно знаменуют «антропологический поворот» в греческой мысли. Если досократики спрашивали: «Из чего состоит космос?», то Сократ спрашивает: «Как должно жить человеку в этом космосе?». Этот поворот был ответом на ситуацию, когда старые, мифологические ответы на этот вопрос перестали работать.
· Современные исследования: Действительно, ушли от упрощенных трактовок. Сегодня мы видим в ранних диалогах «лабораторию философского сознания». Они уникальны тем, что в них зафиксирован не результат, а сам процесс рождения философии как рефлексивной, критической и диалогической деятельности.
Таким образом, четыре рассмотренных подхода не противоречат, а взаимодополняют друг друга, создавая стереоскопическую картину:
1. Историко-филологический дает нам текст и ставит проблему аутентичности.
2. Аналитический вооружает нас инструментом для анализа логической структуры аргументов, заложенных в этом тексте.
3. Континентальный (герменевтический) показывает, как эта структура оживает в диалогическом событии, обращенном к преобразованию человека.
4. Историко-философский и культурологический помещает это событие в живой контекст эпохи, показывая, что философский поиск был неотделим от поиска выхода из кризиса целой цивилизации.
Ранние диалоги Платона остаются живыми именно потому, что они – не система догм, а приглашение к диалогу, обращенное через века. Они фиксируют момент, когда человек впервые с такой радикальностью и ясностью задал себе вопросы: «Что я знаю?», «Как мне жить?» и «Что есть истина?». И сам способ поиска ответов – через диалог, сомнение и испытание логикой – стал главным открытием, определившим путь европейской философии.
1. Апология Сократа (Ἀπολογία Σωκράτους)
o Не совсем диалог, а скорее речь. Сократ защищается на суде против обвинений в нечестии и развращении молодежи.
2. Гиппий Больший (Ἱππίας μείζων)
o Исследует понятие «прекрасного» (καλόν).
3. Гиппий Меньший (Ἱππίας ἐλάττων)
o Рассматривается проблема того, лучше ли творить зло добровольно или по неведению.
4. Евтифрон (Εὐθύφρων)
o Обсуждается природа благочестия (благочестивого поступка). Диалог происходит перед судом над Сократом.
5. Ион (Ἴων)
o Рассматривается природа поэтического творчества и вдохновения. Сократ доказывает, что поэт творит не благодаря знанию, а по божественному наитию.
6. Критон (Κρίτων)
o Сократ в тюрьме отказывается от предложения бежать, аргументируя это долгом гражданина подчиняться законам государства.
7. Лахес (Λάχης)
o Исследует понятие мужества.
8. Лисис (Λύσις)
o Посвящен исследованию природы дружбы (φιλία).
9. Протагор (Πρωταγόρας)
o Один из самых объемных диалогов этого периода. Сократ спорит с софистом Протагором о том, можно ли научить добродетели.
10. Хармид (Χαρμίδης)
o Обсуждается понятие благоразумия (σωφροσύνη).
11. Эвтидем (Εὐθύδημος)
o Критика софистических методов спора и словесных уловок.
При обращении к корпусу ранних диалогов Платона необходимо учитывать несколько методологически важных моментов, существенно влияющих на их интерпретацию:
1. Проблема хронологии и стилометрический анализ. Точная датировка создания диалогов остается предметом научных дискуссий. Современная платонистика опирается преимущественно на данные стилометрического анализа – статистического исследования языковых особенностей и стилистических patterns (частотности частиц, синтаксических конструкций и т.д.). Этот объективный метод позволил выявить группы диалогов, схожих по языковым характеристикам, и выстроить их относительную хронологию. Однако абсолютные даты написания большинства текстов остаются гипотетическими.
2. Проблема «переходных» диалогов Ряд текстов, традиционно включаемых в число ранних, демонстрируют черты философской трансформации. Диалоги, такие как «Горгий» и «Менон», занимают промежуточное положение:
· В «Горгии» при сохранении структуры эленхоса и критики риторики появляется мощный эсхатологический миф о посмертном суде, что свидетельствует о формировании у Платона собственной онтологической картины, выходящей за рамки строго сократовской этики.
· В «Меноне» ключевым становится введение теории припоминания (анамнесис), предлагающей решение апории о возможности познания. Это прямой шаг к созданию теории Идей и метемпсихоза, характерных для среднего периода.
Эти диалоги показывают, что граница между «сократическим» и «платоническим» является не резкой, а эволюционной, и сам Платон в своем творчестве осуществлял диалектический переход от наследия учителя к построению собственной системы.
3. Проблема атрибуции и спорные случаи. Канон ранних диалогов не является абсолютно фиксированным. Аутентичность некоторых сочинений, традиционно приписываемых Платону, продолжает оспариваться. Наиболее яркий пример – «Алкивиад I», который:
· По тематике (забота о себе, самопознание) и фигуре Сократа соответствует парадигме ранних диалогов.
· Однако отдельные стилистические и доктринальные особенности заставляют часть исследователей сомневаться в его принадлежности Платону или относить его к более позднему времени создания.
Этот случай наглядно иллюстрирует, что корпус текстов Платона – это не статичный монолит, а динамическое поле филологических и философских изысканий.
Несмотря на все хронологические и атрибуционные сложности, существует устойчивый корпус текстов, образующих «классическое» ядро ранних диалогов.
4. «Классическое ядро» для исследователя. · Апология Сократа (речь на суде)
· Критон (о справедливости и законе)
· Евтифрон (о благочестии)
· Лахет (о мужестве)
· Хармид (о благоразумии)
· Лисий (о дружбе)
· Протагор (о teachability добродетели)
· Ион (о поэтическом вдохновении)
Именно с этого ядра целесообразно начинать систематическое знакомство с философией Платона, так как оно с наибольшей ясностью демонстрирует сократический метод, тип проблематики и тот интеллектуальный фон, на котором вызревала одна из величайших философских систем человечества.
Рекомендуемый библиографический список ключевых работ по изучению ранних диалогов Платона, с краткими аннотациями, отражающими их основной вклад.
1. Vlastos, Gregory. Socrates: Ironist and Moral Philosopher. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
· Описание: Фундаментальная работа, задавшая стандарты современного аналитического подхода к «Сократическому вопросу». Властос предлагает строгие критерии для выделения «сократического» периода в творчестве Платона, детально анализирует сократический метод (эленхос), иронию и ключевые этические парадоксы («никто не зол по доброй воле»). Книга является точкой отсчета для всех последующих дискуссий.
2. Vlastos, Gregory. (Ed.) The Philosophy of Socrates: A Collection of Critical Essays. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971.
· Описание: Важнейший сборник статей, в котором ведущие специалисты (самим Властосом, Теренсом Ирвином, Джеймсом Уайлом и др.) обсуждают метод, этику и эпистемологию сократических диалогов. Статья Властоса «The Paradox of Socrates» является классикой жанра и задает тон всей книге.
3. Irwin, Terence. Plato's Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1995.
· Описание: Систематическое и глубокое исследование этической теории Платона, начиная с ранних диалогов. Ирвин скрупулезно анализирует аргументы, исследуя, как Сократ (а затем и Платон) понимает связь между добродетелью, знанием и счастьем. Книга ценна своим вниманием к логической структуре и философской обоснованности позиции Платона.
4. Kahn, Charles H. Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
· Описание: Знаковая работа, оспаривающая «эволюционистскую» модель Властоса. Кан доказывает, что диалоги с самого начала были частью единого литературно-философского проекта Платона. Он рассматривает ранние («сократические») диалоги как протрептические произведения, подготавливающие читателя к идеям зрелого периода, а не как исторический отчет об учении Сократа.
5. Gadamer, Hans-Georg. Dialogue and Dialectic: Eight Hermeneutical Studies on Plato. New Haven: Yale University Press, 1980.
· Описание: Классика герменевтического подхода. Гадамер видит в платоновском диалоге не просто форму, а суть философского метода, где истина рождается в процессе диалогического общения. Его эссе радикально переосмысляют роль апории, иронии и вопроса, показывая их как конститутивные элементы понимания.
6. Foucault, Michel. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France, 1981–1982. New York: Picador, 2005.
· Описание: В своих лекциях Фуко помещает фигуру Сократа и практику самопознания в контекст истории «заботы о себе» (epimeleia heautou) как фундаментальной практики античной культуры. Его анализ показывает сократический диалог как ключевую «технологию себя», направленную на преобразование субъекта.
1. Асмус, В.Ф. Платон. М.: Мысль, 1969.
· Описание: Классическая монография, не утратившая своей ценности. Хотя работа была написана в советский период и несет на себе отпечаток марксистской терминологии (противопоставление «материалиста» Сократа «идеалисту» Платону), она содержит глубокий и детальный анализ всех диалогов Платона, включая ранние. Асмус прекрасно разбирает аргументацию и философскую проблематику.
2. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Искусство, 1969.
· Описание: Грандиозный труд, рассматривающий философию в единстве с эстетикой и культурой. Лосев предлагает уникальную онтологическую интерпретацию, видя в сократическом эленхосе не просто логическую процедуру, а акт, в котором проявляется «субстанциальный характер» античной мысли, где понятие отрывается от вещи и начинается жизнь идеи.
3. Кессиди, Ф.Х. Сократ. М.: Мысль, 1976.
· Описание: Одна из лучших отечественных монографий, посвященных фигуре Сократа. Кессиди мастерски воссоздает историко-культурный контекст, показывая связь философии Сократа с кризисом афинского полиса и полемикой с софистами. Книга является образцом историко-философского и культурологического подхода.
4. Аверинцев, С.С. «Платон» // Аверинцев С.С. Собрание сочинений. Переводы. Т.1. СПб., 2006.
· Описание: Блестящие эссе, в которых Аверинцев анализирует диалоги Платона как «драму идей». Он показывает, как литературная форма (ирония, миф, драматургия) неотделима от философского содержания, а логика выполняет роль судьбы, ведущей к интеллектуальному катарсису.
5. Солопова, М.А. Платон. М.: РГГУ, 2013.
· Описание: Современное и компактное введение в философию Платона, написанное с учетом новейших достижений мировой науки. Солопова уделяет значительное внимание ранним диалогам, рассматривая их в контексте единого замысла Платона и дидактических задач его Академии.
6. Тахо-Годи, А.А. «Миф у Платона как действительное и воображаемое» // Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979.
· Описание: Важнейшая работа, демонстрирующая, что миф в диалогах Платона – не украшение, а особый, символический способ философского высказывания. Тахо-Годи доказывает, что миф является продолжением диалектики, обращенным ко всей целостности человеческой души.
Этот список предоставляет надежную основу для глубокого изучения ранних диалогов Платона с различных методологических позиций.
Апология Сократа (речь на суде).
«Апология Сократа» Платона представляет собой не столько защитительную речь в общепринятом смысле, сколько манифест философского служения, где сама жизнь и смерть Сократа становятся главным аргументом в споре между истиной и мнением, между долгом перед божественным призванием и конформизмом человеческой толпы.
Сократ, стоя перед судом афинян, избирает стратегию, парадоксальную с точки зрения обычной судебной риторики. Вместо того чтобы льстить судьям и умолять о пощаде, он выстраивает свою защиту как последовательное изложение и оправдание своего образа жизни. Его речь можно разделить на три фундаментальных акта, раскрывающих суть конфликта:
1. Опровержение «давней клеветы» и объяснение источника своей миссии.
Сократ начинает не с формальных пунктов обвинения, а с разоблачения того карикатурного образа, который сложился о нем в массовом сознании под влиянием комедии Аристофана «Облака» и подобных ей памфлетов. Он предстает не как «софист» или «натурфилософ», исследующий «небесное и подземное», а как человек, получивший от дельфийского оракула повеление проверить утверждение о своей мудрости. Это расследование привело его к ключевому открытию: его мудрость заключается в осознании собственного неведения. «Я знаю, что ничего не знаю» – это не смирение, а отправная точка для подлинного философского поиска, противопоставленная самоуверенному невежеству тех, кто мнит себя знающим.
2. Философское служение как причина ненависти.
Сократ прямо связывает свою непопулярность с исполнением божественной воли. Его метод «испытания» (эленхос) – диалоги с политиками, поэтами и ремесленниками – выявлял не их узкоспециальные навыки, но фундаментальное невежество в вопросах добродетели, справедливости и блага. Это вызывало глубочайшую обиду и ненависть, усугубляемую действиями его молодых последователей, которые, подражая ему внешне, использовали его методы для насмешек и самоутверждения. Таким образом, обвинения в «развращении молодежи» и «безбожии» предстают не как причина, а как следствие его деятельности, болезненная реакция общества на пробуждение от догматической спячки.
3. Доказательство принципов делами и отказ от компромисса.
Кульминацией защиты становятся не слова, а поступки. Сократ напоминает судьям о двух случаях, когда он, рискуя жизнью, отказался участвовать в беззаконии: при демократии, воспротивившись незаконной казни стратегов после битвы при Аргинусах, и при тирании Тридцати, отказавшись выполнить преступный приказ арестовать невиновного Леонта. Эти примеры доказывают, что его верность справедливости не была пустым звуком. Завершает же свою линию защиты он принципиальным отказом от традиционных для афинского суда унизительных приемов: приводить плачущих детей и родственников, дабы разжалобить судей. Для Сократа такой путь был бы предательством философии, ибо оправдаться можно только «посредством разъяснения и убеждения», а не «просьбами», унижающими достоинство и суда, и подсудимого.
«Апология» – это глубоко трагический и одновременно победоносный текст. Сократ проигрывает судебный процесс, но выигрывает главный спор. Он показывает, что суд над ним – это на самом деле суд Афин над самими собой, испытание их способности жить по законам разума и справедливости. Его последующее предложение о наказании в виде пожизненного содержания на Публике и непоколебимость перед лицом смертного приговора лишь подтверждают эту позицию. Диалог Платона становится вечным напоминанием о цене, которую приходится платить за то, чтобы оставаться верным истине, и о том, что подлинное благочестие заключается не в ритуале, а в служении добру через неустанную работу разума.
1: Вступление. Ответ на старые обвинения.ПОСЛЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕЙ. Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 18a-18e, 19b):
οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ διαβάλλοντες… ἀκούοντες γὰρ οἴονται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν…«Πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἀπολογήσασθαι… ἀκούοντες… ὡς ἔστι Σωκράτης σοφός ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ under the earth (τὰ under γῆς) πάντα ἀνεζητηκώς, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. Ἔστιν δὲ οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οἱ ταύτην τὴν φήμην διασπείραντες, οἱ δεινοί μου κατήγοροι. Ἀκούοντες γὰρ οἴονται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν.
Εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πάλαι κατηγοροῦντες…»
Перевод и структурирование:
(18a-c) «Прежде всего, мне следует защищаться… от первых моих обвинителей и от их первых клевет… Вы слышали их с детства, они убеждали вас в истинности многих лживых обвинений против меня. Говорят, что есть некий Сократ, мудрый муж, мыслящий о небесном и исследующий все, что под землею, и слабейший аргумент превращающий в сильнейший.
(18d) Вот кто мои клеветники… ибо слушающие их думают, что те, кто исследуют такие вещи, не признают и богов.
(18e) Эти-то люди, о мужи афиняне, и распространили эту молву, они и есть мои грозные обвинители.
(19b) Обвинителей этих много, и обвиняют они уже давно…»
Сократ начинает свою защиту не с ответа на официальное обвинение Мелета, а с опровержения «давней клеветы». Этот риторический ход считается гениальным, и вот как его объясняют исследователи.
1. Почему Сократ начинает со «старых обвинителей»? Стратегическая глубина.
Комментарий зарубежного исследователя (Регинальд Хэкни, "Платон: Апология Сократа"):
«Сократ понимает, что настоящая опасность исходит не от юридического обвинителя Мелета, а от того предубеждения, которое годами складывалось в умах судей. Он апеллирует не к закону, а к психологии толпы. Обвинение в "безбожии" и "развращении молодежи" было лишь симптомом более глубокого недуга – непонимания и страха перед его философским методом. Атакуя корень проблемы – "давнюю клевету", – он пытается вырвать сорняк, на котором вырос формальный донос».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит четкое различие между "первыми" и "последними" обвинителями. "Первые" – это не конкретные лица, а коллективный образ общественного мнения, сформированный комедией Аристофана "Облака" и подобными ей памфлетами. В "Облаках" Сократ изображен как софист, занимающийся пустыми и вредными умствованиями. Таким образом, Сократ борется не с человеком, а с карикатурой на себя, созданной в массовом сознании. Это делает его задачу невероятно трудной».
2. Суть «давней клеветы»: Сократ как «натурфилософ» и «софист».
Текст оригинала указывает на три компонента клеветы:
1. «Мыслящий о небесном» (τὰ μετέωρα φροντιστής): Исследующий природу космоса.
2. «Исследующий все, что под землею» (τὰ under γῆς πάντα ἀνεζητηκώς): Изучающий явления, не доступные глазу.
3. «Слабейший аргумент превращающий в сильнейший» (τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν): Владение искусством риторики для доказательства заведомо ложных тезисов.
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит, "Сократ на суде"):
«Сократ мастерски объединяет два несовместимых с его реальной деятельностью образа. Образ натурфилософа (в духе Анаксагора, который действительно исследовал "небесное") и образ софиста (в духе Протагора, учившего риторике за деньги). Афиняне не видели между ними разницы, для них это был общий тип "ученого бездельника", подрывающего традиционные устои. Сократ же был ни тем, ни другим. Его "мудрость" была практической и этической, а не космологической или риторической».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Обвинение в "изучении небесного" было политическим. После истории с Анаксагором, которого изгнали за утверждение, что солнце – раскаленный камень, такие занятия считались покушением на божественность светил, а значит, и на религиозную основу полиса. Обвинение в "сильных речах" было социальным: народ боялся, что такие люди, как Сократ, могут "переубедить" молодежь, отвратить ее от родителей и общественных обязанностей. Сократу предъявили обвинение в "подрыве государственного строя", но в замаскированной форме».
3. Связь с «безбожием»: логика общественного предрассудка.
Ключевая фраза: «слушающие их думают, что те, кто исследуют такие вещи, не признают и богов».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев, "Плутарх и античная биография"):
«В традиционном греческом сознании (т.н. "полисная религия") боги неотделимы от устоявшегося космического и социального порядка. Тот, кто пытается рационально объяснить гром и молнию (как Фалес) или движение солнца (как Анаксагор), посягает на сферу, принадлежащую Зевсу и Гелиосу. Следовательно, он "не чтит богов" так, как предписывает отеческий обычай. Его бог – это безличный закон природы (λόγος), а не персонажи мифов. Для афинского ремесленника или крестьянина, составлявшего суд гелиастов, разница была непонятна, и Сократ, с его вопросами и сомнениями, автоматически попадал в категорию "безбожников"».
Начиная свою защиту с опровержения «давней клеветы», Сократ (и Платон) демонстрирует глубокое понимание природы обвинения. Он борется не с юридической формулировкой, а с мифом о себе, созданным в массовом сознании. Этот миф объединил в себе страх перед натурфилософией, подрывавшей традиционную религию, и перед софистикой, угрожавшей общественной морали. Комментаторы единодушно отмечают, что, указывая на это, Сократ пытается сместить фокус с конкретного преступления на философский спор, показать судьям истинную суть своей деятельности и отделить себя от карикатурного образа «мудреца-безбожника», созданного Аристофаном и другими. Его последующее объяснение своей «человеческой мудрости» и миссии, полученной от дельфийского оракула, станет прямым ответом именно на это, первое и самое грозное обвинение.
Слава, дарованная оракулом.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 20d-21a, 23a-b):
«Ταύτην τὴν φήμην, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἔσχον οὐδὲν ἄλλο πράττων ἢ σοφίας τινός… μάρτυρα δὲ ὑμῖν παρέξομαι τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς… ἀνεῖλεν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι.
…ἐγὼ γὰρ δὴ τοῦτο ὑπ' ἐμαυτοῦ οὐδὲν οἶδα· τὸ δὲ δὴ οἶδα, τί καὶ λέγει ταῦτα ὁ θεός, καὶ ψεύδεται γὰρ οὐδέποτε.
…ἡ γὰρ ἐντεῦθεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἡ ἀπέχθειά μοι γέγονεν καὶ ἡ πολλὴ διαβολή… ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιῶν… ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστέταγμαι…»
Перевод и структурирование:
(20d-21a) «Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости… Свидетелем моей мудрости… я приведу вам бога, который в Дельфах… [Херефон] спросил [у Пифии], есть ли кто на свете мудрее меня. И Пифия ему ответила, что никого нет мудрее.
(21b) …Ибо я сам сознаю, что я ни мудр, ни мало, ни много… Что же хочет бог сказать [этим изречением] и что он подразумевает? Ибо он, конечно, не лжет; это не в его природе.
(23a-b) …Вот с этого времени, о мужи афиняне, и пошла на меня вражда и клевета… А я, занимаясь этим… лишь выполняю повеление бога…»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот эпизод – стержень всей защитительной речи. Сократ превращает обвинение в божественную миссию, радикально переворачивая ситуацию.
1. Стратегический и теологический смысл апелляции к Дельфам.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Апелляция к оракулу – это гениальный риторический и философский ход. Во-первых, это религиозный аргумент, который невозможно опровергнуть. Сократ предстает не безбожником, а, напротив, исполнителем воли самого Аполлона. Во-вторых, оракул придает его частному, индивидуальному поиску вселенский, сакральный смысл. Его "исследование" (ἐξέτασις) – это не праздное любопытство, а богоугодное дело. Тем самым он противопоставляет свое "благочестие" – формальному благочестию обвинителей, которые, преследуя его, идут против воли бога».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский, "Соперники христианства"):
«Сократ совершает революцию в понимании отношения человека к божеству. Традиционная религия предполагала пассивное принятие воли богов через гадания и жертвы. Сократ же получает от бога не готовый ответ, а загадку, которую он должен разгадать собственным умом и трудом. Его благочестие – это не ритуал, а активное интеллектуальное служение (λατρεία), состоящее в самопознании и испытании других. Это глубоко личностная религия, непонятная и потому пугающая для большинства».
2. Парадокс оракула и сущность «человеческой мудрости».
Сократ не объявляет себя мудрым. Напротив, он в недоумении и начинает расследование, которое приводит его к открытию.
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо, "Что такое античная философия?"):
«Мудрость, которую признает за собой Сократ, – это "человеческая мудрость" (ἀνθρωπίνη σοφία), которая состоит в осознании собственного неведения. Это не позитивное знание, а мета-знание – знание о границах своего знания. Оракул делает Сократа философом в точном смысле слова: не обладателем мудрости (софос), но любящим мудрость (фило-софос), вечно стремящимся к ней. Его проверка политиков, поэтов и ремесленников показывает, что все они, обладая некоторым знанием, мнят себя знающими и в других, более важных вещах (о добре, зле, справедливости), где они на самом деле невежественны».
Аргументированное разъяснение (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Открытие Сократа просто и гениально: "Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого". Его знание – это знание о незнании. Проверяя других, он не просто издевается над ними, а пытается пробудить в них это же знание – сознание своей ограниченности, которое есть начало подлинной мудрости. Но люди, вместо того чтобы задуматься, обижаются. Так философский поиск истины оборачивается социальным конфликтом».
3. Как божественная миссия порождает человеческую вражду.
Сократ прямо связывает свой философский метод, санкционированный богом, с причиной ненависти к себе.
Комментарий зарубежного исследователя(Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates: A Philosophical Interpretation"):
«Сократ проводит прямую причинно-следственную связь: "Бог повелел -> Я стал испытывать людей -> Они возненавидели меня -> Возникла клевета". Он представляет себя невинной жертвой, выполняющей долг. Его "преступление" – это необходимая и благородная услуга городу, подобная службе овода, который жалит ленивую лошадь (полис), чтобы она не заснула. Трагедия в том, что город предпочитает убить овода, чтобы спасти свой покой».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Здесь Платон через Сократа формулирует классический конфликт философа и толпы. Философ, следующий высшей правде (волей бога), неизбежно вступает в противоречие с правдой мнения (δόξα), на которой держится обывательская жизнь. Ненависть к Сократу – это ненависть "мнения", почувствовавшего свою несостоятельность перед лицом "знания". Таким образом, суд над Сократом – это не суд над преступником, а суд "мнения" над "знанием", который "знание" заранее обречено проиграть в силу своей малочисленности и непонимания».
Эпизод с дельфийским оракулом является философским и риторическим центром «Апологии». Сократ трансформирует обвинение в безбожие в рассказ о своей божественной миссии. Его «мудрость», ставшая причиной клеветы, оказывается не гордым всезнайством, а, наоборот, осознанием своего неведения – единственно доступной человеку формой мудрости. Комментаторы единодушно подчеркивают, что этот ход позволяет Сократу:
1. Обосновать свою деятельность как высшую форму благочестия.
2. Раскрыть этическую суть своей философии как поиска истины через осознание ignorance.
3. Объяснить социальный механизм конфликта: философ, пробуждающий людей от догматической спячки, неизбежно вызывает их гнев и становится козлом отпущения за их уязвленное самолюбие. Это не оправдание перед судом, а оправдание самого образа жизни философа перед лицом истории.
Испытание мудрецов: политики, поэты, ремесленники.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 21b-22e):
Ἐκ τούτου δὴ ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ὠπήειν… καὶ διὰ τὴν τέχνην ὀρθῶς ἄν μοι ἐδόκουν σοφώτεροι εἶναι… ἀλλ'… οἰόμενοι διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐργάζεσθαι καὶ ἐν τοῖς μέγιστος σοφοὶ ἔσεσθαι…»«Ἀπῄειν οὖν ἐπ' ἐκεῖνόν τε τὸν χρόνον… ὡς ἐμοὶ ἐδόκει σοφώτερος εἶναι… ἐνόμιζέ τι εἰδέναι… Μετὰ τοὺς πολιτικοὺς ὠπήειν τοὺς ποιητάς… ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιαζόντες… Перевод и структурирование:
(21b-d) «Отправился я тогда к одному из тех, кто слывет мудрым… Побеседовав с ним, я увидел, что этот человек… на самом деле не мудр… И тогда я понял, что на самом-то деле я мудрее его: ведь мы оба, пожалуй, ничего не знаем по-настоящему прекрасного и доброго, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я, если уж не знаю, то и не думаю, что знаю.
(22a-c) После государственных людей ходил я к поэтам… и сразу мне стало ясно, что не мудростью могут они творить то, что творят, а некоей природной способностью и в исступлении, подобно прорицателям… Ибо они говорили прекрасные творения, но ничего не понимали в том, что они говорили.
(22d-e) После этого обращался я к ремесленникам… И действительно, они знали то, чего я не знал, и в этом отношении были мудрее меня. Но… из-за того, что они хорошо владели своим искусством, каждый из них считал себя самым мудрым и в других, самых важных matters.»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот «отчет» о своей исследовательской деятельности Сократ представляет как эмпирическое доказательство правоты оракула. Его метод – это не просто беседа, а систематическое эпистемологическое расследование.
1. Методология «испытания»: Эленхос как инструмент божественной воли.
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократический диалог"):
«Сократ не просто "беседует" с мудрецами; он подвергает их перекрестному допросу (ἔλεγχος), цель которого – проверить последовательность и обоснованность их убеждений. Он исходит из гипотезы, что подлинное знание (ἐπιστήμη) должно быть когерентным и выдерживать логическую проверку. Обнаруживая противоречия в их словах, он демонстрирует, что их "мудрость" – это всего лишь набор необоснованных мнений (δόξαι). Таким образом, его метод – это не софистическое жонглирование словами, а серьезная попытка добраться до истины, обнажив ложное знание».
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега, "История античной философии"):
«Сократ действует как "акушер мысли" (майевтика), но в данном случае он помогает родиться не истине, а осознанию ее отсутствия. Его вопросы – это хирургический инструмент, вскрывающий внутреннюю пустоту мнимой компетентности. Это болезненная процедура, и реакция "пациентов" – гнев и обида – совершенно естественна. Сократ не просто устанавливает факт неведения, а показывает его причину: "знание" его собеседников не является рефлексивным, они не могут дать отчета (λόγον διδόναι) в том, что, как им кажется, они знают».
2. Три категории «мудрецов» и специфика их неведения.
Сократ выстраивает прогрессию, показывая, что проблема ложного знания универсальна.
· а) Политики (οἱ πολιτικοὶ): Власть без знания о Благе.
o Комментарий (Алексей Федорович Лосев): «Политики для Сократа – самые опасные из невежд. Они управляют полисом, не имея определения, что такое справедливость, благо или доблесть (ἀρετή). Их мудрость – это умение манипулировать толпой, а не познание сущности вещей. Сократ показывает, что политика, не основанная на этическом знании, есть не что иное, как техника обмана и произвола».
· б) Поэты (οἱ ποιηταί): Вдохновение без рефлексии.
o Комментарий (Михаил Леонович Гаспаров): «Разоблачение поэтов – ключевой момент. В древности поэт считался учителем народа. Сократ низводит его с этого пьедестала, утверждая, что творчество – это иррациональный акт (ἐνθουσιασμός), а не плод разума. Поэт – лишь пассивный проводник, он не понимает глубинного смысла своих же произведений. Следовательно, он не может быть авторитетом в вопросах истины и добродетели».
· в) Ремесленники (οἱ χειροτέχναι): Частное мастерство и вселенское невежество.
o Комментарий (Пьер Адо): «Ремесленники – самая трагическая фигура в этом ряду. Они – единственные, кто обладает подлинным знанием (τέχνη) в своей узкой области. Однако это частное знание порождает в них интеллектуальную гордыню – иллюзию, что их компетенция распространяется и на самые важные вопросы человеческой жизни (о смысле жизни, о смерти, о душе). Таким образом, Сократ демонстрирует, что специализированное знание не тождественно мудрости и даже может ей препятствовать».
3. Философский и социальный итог «расследования».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«Итогом этого грандиозного социального эксперимента становится формула сократовского неведения: "Я знаю, что ничего не знаю". Но это не скепсис, а фундамент для нового типа знания. Сократ открывает разрыв между "техническим" умением (делать, создавать) и "этическим" знанием (понимать, как жить). Афинское общество, все сферы которого – политика, культура, ремесло – были построены на первом, он ставит перед необходимостью второго. Его вина в том, что он обнажил эту экзистенциальную пустоту в сердцеве самого процветающего общества».
Комментарий зарубежного исследователя (Чарльз Х. Кан, "Платон и сократический диалог"):
«Этот пассаж объясняет, почему Сократ стал "самым мудрым". Не потому, что он обладал позитивным знанием, а потому, что он один осознал фундаментальный эпистемологический принцип: границы человеческого познания. Его миссия, таким образом, оказывается негативной терапией души, очищением ее от ложных мнений, чтобы подготовить почву для подлинного знания. Его "безбожие" и "развращение молодежи" – это на самом деле болезненный, но необходимый процесс духовного очищения города».
Эпизод с испытанием мудрецов служит Сократу эмпирическим обоснованием его миссии. Он демонстрирует суть своей философии: переход от мнения (δόξα) к знанию (ἐπιστήμη) лежит через осознание собственного неведения. Систематический характер его расследования (политики -> поэты -> ремесленники) показывает, что проблема не в отдельных личностях, а в фундаментальной эпистемологической ошибке всего общества, состоящей в смешении технической компетенции с этической мудростью. Именно эта всеобщая "терапия", назначенная ему богом, и сделала его непопулярным, породив ту самую "давнюю клевету", с опровержения которой он начал свою защиту.
Истинная мудрость в осознании незнания.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 22e-23b):
…ὃς δ' ἂν ὡς σοφὸς ὢν μὴ εἰδῇ, τούτῳ παρακελεύεται διὰ τοῦ χρησμοῦ ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν.»«…ἐμαυτῷ συνῄδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ… τούτου δ' ἐμοὶ αἴτιον ἡ ἐμὴ σοφία… ...ἀλλὰ τῷ ὄντι γάρ, ὦ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι… ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός… Перевод и структурирование:
(22e-23a) «…Я ушел, сознавая самому себе, что я ничего не знаю… А причиной этому – моя человеческая мудрость… И, вероятно, в самом деле только бог мудр… и этим своим изречением он желает показать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит.
(23b) …А кто, подобно Сократу, знает, что его мудрость в действительности не имеет никакой цены, тот и есть самый мудрый [согласно богу].»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот вывод – не смирение, а радикальное эпистемологическое заявление, которое комментаторы рассматривают как поворотный пункт в истории западной мысли.
1. «Осознание незнания» (ἡ εἰδὼς οὐκ εἰδώς) как положительное знание.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократово "я знаю, что ничего не знаю" – это не агностицизм и не скептицизм в пирроновском смысле. Это – фундаментальное открытие. Это знание о себе, знание о природе человеческого познания. Это негативное знание обладает огромной позитивной силой: оно является необходимым условием для любого подлинного поиска истины. Оно очищает интеллектуальное поле от догм и предрассудков, открывая пространство для философии. Таким образом, "незнание" Сократа – это не пустота, а плодородная почва, в которой только и может произрасти истинное знание (ἐπιστήμη)».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит четкую границу между божественной и человеческой природой. Абсолютная мудрость (σοφία) принадлежит только богу. Человеку доступна лишь "мудрость", понимаемая как любовь к мудрости (φιλο-σοφία), то есть вечное стремление, поиск, движение к недостижимому идеалу. Сократ, осознавая свое неведение, становится первым подлинным "философом" в этом строгом смысле слова. Все же остальные, мнящие себя знающими, – это не философы, а лишь обладатели мнений».
2. Теологический смысл: человек как истолкователь божественного знака.
· Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Сократ совершает теологическую революцию. Он переносит центр тяжести с традиционного, ритуального благочестия на благочестие интеллектуальное и интерпретативное. Бог больше не просто посылает знамения, которые нужно принять. Он посылает загадку (оракул), которую человек должен разгадать своим собственным разумом. Истинное служение богу для Сократа – это не принесение жертв, а работа по пониманию его воли, которая выражается в философском исследовании себя и других. Таким образом, его "незнание" – это акт высшего смирения перед богом и одновременно акт высшей интеллектуальной свободы».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«В этом пассаже рождается новый тип религиозного сознания. Сократ стоит у истоков идеи, что бог есть Истина, а не просто сила. Служить такому богу – значит искать истину. Сократово "незнание" – это не отрицание познания, а установка на адекватность: лишь осознав дистанцию между человеческим разумом и божественной истиной, можно начать ее преодолевать. Это прямая противоположность "самоуверенному знанию" его обвинителей, которые, по его логике, в своей догматической слепоте гораздо ближе к настоящему безбожию».
3. Социально-этическое значение: "незнание" как основа добродетели.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ выводит знаменитую формулу: "Добродетель есть знание". Осознание собственного неведения – это первый и главный акт этого знания. Тот, кто не знает, что он не знает, не будет и стремиться к знанию. Следовательно, он не сможет стать добродетельным, ибо будет действовать исходя из ложных предпосылок. Таким образом, "человеческая мудрость" Сократа – это не просто интеллектуальная позиция, это фундамент этики. Она является необходимым условием для исправления души и жизни в согласии с добром».
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо):
«Парадокс Сократа в том, что, объявив человеческую мудрость "ничтожной", он придает человеческому разуму беспрецедентное значение. Именно потому, что мы лишены божественного всеведения, мы обречены на философскую жизнь – жизнь в поиске. Это "незнание" является двигателем всей философской практики. Оно заставляет человека постоянно заботиться о себе (ἐπιμελεῖσθαι ἑαυτοῦ), о своей душе, что, по Сократу, и есть высшая цель человеческого существования. Его миссия – будить ото сна тех, кто уверен в своем знании, и возвращать их к этой фундаментальной заботе».
Пункт о сущности человеческой мудрости является кульминацией положительной программы Сократа. Его "незнание" – это:
1. Эпистемологический принцип: Разграничение между догматическим мнением и критическим знанием, открывающее пространство для философии.
2. Теологический акт: Высшая форма благочестия, состоящая в смиренном истолковании божественной воли через работу собственного разума.
3. Этический императив: Необходимое условие для заботы о душе и стремления к добродетели.
Обвинители видят в Сократе того, кто все разрушает. Сам же он представляет себя как тот, кто закладывает единственно возможный фундамент для подлинного знания, добродетели и благочестия. В его устах утверждение о "ничтожности" человеческой мудрости звучит не как принижение человека, а как возвышение того, что ему подлинно доступно – бесконечного стремления к Истине.
Причина ненависти и новые обвинители.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 22e-23e, 23c-d):
οἱ οὖν ἐξεταζόμενοι ὑπ' αὐτῶν ἐμοὶ ὀργίζονται… λέγοντες ὡς ἔστι τις Σωκράτης μάλα μιαρὸς ἀνὴρ οἵους τοὺς νέους διαφθείρει.»«Ἐκ δὲ τοῦ ἐμοῦ σκοπεῖν δὴ ταῦτα γέγονέν μοι ἀπράγμονι θruπὴ καὶ ἀπέχθεια… οἱ νέοι… ἀκούοντες μὲν τοὺς ἐξεταζομένους, μιμοῦνται δὴ ἐμὲ αὐτοὶ καὶ ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν… Перевод и структурирование:
(22e-23a) «Вот от этого самого исследования… и возненавидели меня многие… и притом жесточайшей ненавистью.
(23c) …Следующие за мною по собственному почину молодые люди… слыша, как их испытывают, и сами пытаются подражать мне и испытывать других.
(23d) …И вот те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня, и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей.»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ переходит от объяснения сути своей миссии к анализу ее социальных последствий. Он рисует механизм того, как философский поиск порождает клевету.
1. «Исследование» (σκέψις / ἐξέτασις) как причина «ненависти» (ἀπέχθεια).
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ вскрывает психологический механизм обиды. Его "исследование" – это не просто беседа, это публичная демонстрация некомпетентности и самодовольства уважаемых граждан. В культуре, основанной на чести и публичном признании (τιμή), быть выставленным на посмешище в словесном поединке – это тяжелейшее унижение. Естественной реакцией на такое унижение является не саморефлексия, а гнев, направленный вовне – на того, кто это унижение причинил. Таким образом, ненависть к Сократу – это защитная реакция "мнения" (δόξα), атакованного "знанием" (ἐπιστήμη)».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Сократ был "непрактичным человеком" (ἀπράγμων) в том смысле, что не участвовал в политической гонке за властью и богатством. Но его "непрактичная" деятельность – задавание вопросов – оказалась социально взрывоопасной. Он показывает, что самый опасный для общества человек – не корыстолюбец, а бескорыстный искатель истины, потому что он одним своим существованием ставит под вопрос устои, на которых держится жизнь корыстолюбцев».
2. Феномен «молодых подражателей»: искажение метода и рождение карикатуры.
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит, "Сократ на суде"):
«Это ключевой момент защиты. Сократ проводит четкую границу между собой и своими последователями. Он действует по велению бога и с определенной целью – познать смысл оракула. Его юные подражатели, лишенные этой божественной санкции и глубинного понимания цели, используют его метод как оружие для насмешки и самоутверждения. Они перенимают внешнюю, разрушительную сторону его метода (опровержение), но не внутреннюю, созидательную (заботу о душе). В результате общество видит лишь негативный эффект и приписывает его злому умыслу самого Сократа».
Аргументированное разъяснение (Алексей Федорович Лосев):
«Платон тонко характеризует социальный тип "псевдо-сократиков". Это – неизбежный спутник любого великого учителя. Ученики, не проникшие в суть учения, выхватывают его отдельные приемы и доводят их до карикатуры. Если Сократ был "оводом", жалившим из любви к лошади, то его подражатели – это слепни, которые кусаются просто потому, что такова их природа. Обвинение в "развращении молодежи" основано на действиях именно этих карикатурных последователей, которых сам Сократ не может и не хочет контролировать».
3. Механизм переноса вины: почему гнев обращен на Сократа.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс):
«Сократ описывает классический процесс создания "козла отпущения". Испытуемые испытывают стыд и когнитивный диссонанс, когда их мнимая мудрость разбивается. Признать свою ошибку – значит признать свое невежество, что болезненно для самолюбия. Гораздо проще найти внешнюю причину своего дискомфорта: не "я ошибался", а "меня сбили с толку коварными речами". Таким образом, Сократ становится фокусом, в котором сходятся все обиды и раздражения от столкновения с собственной интеллектуальной ограниченностью».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский):
«Обвинительная формула "Сократ развращает молодежь" рождается из естественного непонимания сути философии. Для обывателя, воспитание – это передача готового набора знаний и норм. Метод Сократа – это не передача знаний, а пробуждение мысли, которое выглядит как разрушение старых норм. То, что для философа является "очищением" от ложных мнений, для отцов города выглядит как "развращение", то есть лишение молодежи тех нравственных ориентиров, которые они сами считают незыблемыми. Сократ сеет сомнение, а в глазах общества, сомнение в устоях тождественно их отрицанию».
В этом пункте Сократ завершает создание причинно-следственной цепи, объясняющей его присутствие в суде:
1. Божественная воля (оракул) порождает философскую миссию (исследование).
2. Философская миссия, вскрывающая невежество, порождает общественную ненависть.
3. Ненависть усугубляется действиями молодых подражателей, которые, не понимая сути метода, используют его как орудие насмешки.
4. Жертвы этого процесса, не желая винить себя, переносят вину на первоисточник, создавая образ "безбожника и развратителя" – Сократа.
Таким образом, Сократ представляет себя не как преступника, а как неизбежную жертву собственного служения истине и богу. Обвинения – это не причина, а следствие, симптом той болезни самодовольного невежества, которую он пытался исцелить.
Опровержение обвинения в развращении молодежи.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 24c-25c):
…ὡς ἔοικεν, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες Ἀθηναῖοι βελτίους ποιοῦσιν αὐτοὺς καὶ καλοὺς κἀγαθούς, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω.»«Εἰπέ μοι, ὦ Μέλητε… τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ;… «Οὐκοῦν οἱ ἵπποι… εἰσὶν οἱ βελτίους ποιοῦντες, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων; ἢ πάντες μὲν ἱππικοὶ δύνανται βελτίους ποιεῖν ἵππους, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων;»
Перевод и структурирование:
– …По-видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я один порчу.(24c-25a) «– Ну вот, Мелет, скажи-ка ты мне… кто именно делает их [молодых людей] лучшими?… (25b) – …Не правда ли, что в отношении лошадей бывают такие, которые делают их лучшими, и лишь один какой-нибудь, кто портит? Или совсем наоборот: способность делать лошадей лучшими принадлежит немногим – именно тренерам лошадей, а большинство, если имеют с ними дело и пользуются ими, портят их?»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
В этом эпизоде Сократ переходит от общей защиты к прямому диалектическому поединку с Мелетом, разоблачая логическую несостоятельность обвинения.
1. Стратегический прием: приведение обвинения к абсурду.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ использует свой классический метод эленхоса (опровержения) прямо в суде. Он вынуждает Мелета принять предпосылку, что "делать молодежь лучше" – это особое искусство (τέχνη), подобное искусству коневодства. Далее он демонстрирует, что в любой специализированной области улучшение – это удел немногих экспертов, в то время как большинство, не обладая этим искусством, непреднамеренно портит. Таким образом, тезис Мелета, что "все улучшают, а один Сократ портит", оказывается абсурдным с логической и практической точки зрения. Это не опровержение фактов, а демонстрация нелепости самой логической структуры обвинения».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Сократ наносит удар в самую слабую точку обвинения – его демagogic character. Обвинение было рассчитано на предрассудок толпы: "все хорошие граждане воспитывают молодежь по заветам отцов, а Сократ один учит их сомневаться". Сократ показывает, что с точки зрения логики это бессмыслица. Воспитание – это не стихийный процесс, а сложное искусство. Если следовать логике Мелетa, то лучшим воспитателем должен быть сапожник или кожевник, ведь "все" афиняне занимаются ремеслом, а не философией. Сократ выставляет обвинение как примитивное и невежественное».
2. Аналогия с коневодством: знание vs. невежество.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Аналогия с лошадьми (ἵπποι) – не просто удачный пример. Она несет глубокую смысловую нагрузку. Лошадь в античной культуре – символ благородства, но также и дикой силы, которую необходимо обуздать и направить искусным тренером (ἱππικός). Так и молодежь, полная энергии и страстей, нуждается не в том, чтобы ее оставили в покое ("все" афиняне), а в опытном и мудром наставнике. Сократ намекает, что его деятельность – это и есть попытка такого духовного "тренерства", в то время как "все" остальные, поощряя нерефлексивное принятие мнений, лишь "портят" молодые души, оставляя их необученными и недисциплинированными».
Аргументированное разъяснение (Алексей Федорович Лосев):
«Платон устами Сократа проводит мысль, что добро (благо) не может быть результатом бессознательной деятельности толпы. Оно является продуктом знания. Если бы "все" афиняне действительно делали молодежь лучше, то это означало бы, что все поголовно обладают знанием о добродетели. Но это очевидным образом не так. Следовательно, Мелет либо лжет, либо не понимает, о чем говорит. Аналогия с лошадьми делает этот логический провал наглядным и унизительным для обвинителя».
3. Доказательство отсутствия злого умысла.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ подводит Мелета к ключевому вопросу: "Неужели я умышленно развращаю молодежь?" Это ловушка. Если Мелет ответит "да", то это будет нелепо: зачем разумному человеку умышленно вредить тем, с кем он общается, навлекая на себя их месть и ненависть? Если "нет", то Сократ невиновен, так как за неумышленный проступок положено не наказание, а увещевание. Сократ показывает, что само обвинение иррационально: оно приписывает ему поведение, противоречащее здравому смыслу и природе человека, стремящегося к благу».
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит):
«В этом диалектическом пассаже Сократ не столько доказывает, что он не развращал молодежь, сколько демонстрирует, что обвинение против него логически невозможно. Мелет не может последовательно объяснить ни механизм "развращения", ни его мотив. Обвинение рассыпается не под напором контраргументов, а под тяжестью собственной внутренней противоречивости. Сократ представляет себя как человека, чья деятельность, даже если она и вызывает беспокойство, не подпадает под категорию уголовного преступления, так как лишена главного его признака – злого умысла (κακία)».
Диалог с Мелетом служит Сократу для того, чтобы:
1. Продемонстрировать невежество обвинителя: Показать, что Мелет не задумывался о логических основаниях своего доноса.
2. Разрушить популистскую риторику обвинения: Опровергнуть тезис о том, что добродетель является продуктом коллективного, нерефлексивного действия "всех".
3. Обосновать экспертный статус философа: Через аналогию с тренером лошадей намекнуть, что воспитание – это искусство (τέχνη), требующее знания, которым он, Сократ, как раз и пытается овладеть.
4. Снять с себя признак злого умысла: Доказать, что обвинение в умышленном вреде абсурдно и противоречит человеческой природе.
Этот эпизод – не просто защита, а наглядный урок сократовского метода для судей: он показывает, как с помощью логики можно разоблачить пустоту и предрассудок, стоящие за формальным юридическим актом.
Опровержение обвинения в безбожии.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 26b-27e):
…ἆρ' οὖν τά γε δαιμόνια οὐ θεῶν ἢ θεῶν παῖδας νομίζομεν; φῂς ἢ οὔ;»«Ἀδικεῖ Σωκράτης… οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινὰ εἰσηγούμενος… ...εἰ γὰρ δὴ καὶ δαιμόνια νομίζω, ὥς φησι Μέλητος ἐπισκώπτων, δαιμόνιά γέ τινὰ ἀνάγκη με νομίζειν εἶναι. Перевод и структурирование:
(26b-c) «[Мелет говорит, что] Сократ преступает закон тем, что… богов, которых признает город, не признает, а признает другие, новые божественные знамения (δαιμόνια).
(27b-d) – …Ведь если я признаю божественные знамения, как утверждает Мелет, насмехаясь, то мне уже никак невозможно не признавать и гениев (δαίμονες).
(27d-e) – …А не считаем ли мы гениев или богами, или детьми богов? Согласен ты с этим или нет?»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ использует формальную логику, чтобы показать, что обвинение Мелета внутренне противоречиво и, следовательно, абсурдно.
1. Логический парадокс: «новые божественные знамения» (δαιμόνια καινά).
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ выявляет фатальную двусмысленность в формулировке обвинения. Термин "δαιμόνια" может означать "сверхъестественные существа" (демонов, гениев), отличных от богов (θεοί), но он также неразрывно связан с божественной сферой. Сократ заставляет Мелета признать, что "δαιμόνια" по определению являются либо богами, либо порождениями богов. Следовательно, вера в "δαιμόνια" логически влечет за собой веру в богов. Обвинение, утверждающее, что Сократ верит в "δαιμόνια", но не верит в богов, столь же противоречиво, как утверждение "Сократ верит в детей, но не верит в родителей". Это не доказательство того, что Сократ благочестив, но это неопровержимое доказательство того, что его обвинитель не мыслит логически».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит тончайшее богословское различение. Традиционная религия полиса была мифологической и ритуалистической. "Божественное знамение" (δαιμόνιον) Сократа – это уже философско-религиозное понятие, внутренний голос, запрещающий ему делать дурное. Обвинители, будучи неспособны понять эту тонкость, подводят его "знак" под традиционную категорию "новых божеств", что само по себе было уголовным преступлением (как в случае с Анаксагором). Сократ же, не вдаваясь в метафизику, берет это слово в его общепринятом, народном значении и показывает, что даже в этом смысле обвинение несостоятельно».
2. Религиозный контекст: «гении» (δαίμονες) как посредники.
Комментарий зарубежного исследователя (Роберт Паркер, "Афинская религия: История"):
«В обыденном афинском веровании δαίμονες занимали промежуточное положение между богами и людьми. Это были божественные силы, духи-покровители или даже обожествленные герои. Идея о том, что они являются "детьми богов", была широко распространена. Сократ апеллирует к этому общепринятому представлению. Его аргумент безотказен для суда присяжных: если вы верите в то, во что верит любой афинянин, касательно природы δαίμονες, то вы должны признать, что мое признание "δαιμόνια" автоматически означает мою веру в богов. Мелет, отрицая это, ставит себя в положение человека, оспаривающего основы народной религии».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«Сократ действует здесь как блестящий ритор. Он принимает язык мифа, на котором говорит обвинение, и на этом же языке его разбивает. Он не говорит: "Мое δαιμόνιοн – это не новый бог, а внутренний моральный принцип". Вместо этого он говорит: "Давайте поговорим о ваших же δαίμονες". И оказывается, что на языке мифа вера в "детей богов" невозможна без веры в самих богов. Таким образом, Сократ демонстрирует, что обвинители настолько ослеплены ненавистью, что не способны к последовательному мышлению даже в рамках собственной, традиционной религиозной системы».
3. Юридическое значение опровержения: разрушение состава преступления.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ показывает, что в обвинении отсутствует главный элемент – объективная сторона преступления. Нельзя одновременно быть обвиненным в "безбожии" (отрицании традиционных богов) и во "введении новых божеств". Это взаимоисключающие пункты. Либо он отрицает всех богов (и тогда не может вводить новых), либо вводит новых (и, следовательно, богов признает). Мелет, пытаясь усилить обвинение, совместил две разные статьи, чем и воспользовался Сократ для демонстрации полной юридической несостоятельности доноса».
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Этот логический триумф Сократа имеет трагическую подоплеку. Он доказывает, что обвинение ложно, но не доказывает, что он невиновен в глазах судей. Суд – это не академический диспут, а политический театр. Сократ выигрывает спор, но проигрывает в публичном восприятии. Его виртуозная логика могла быть воспринята как издевательство над верованиями простых людей, как софистическая уловка. Он показывает, что Мелет – глупец, но тем самым лишь усугубляет обиду и раздражение тех, кто идентифицирует себя с этим глупцом и традицией, которую тот, по их мнению, представляет».
Опровержение обвинения в безбожии является образцом сократовской логики:
1. Принятие предпосылки: Сократ берет формулировку обвинения как данность.
2. Выявление скрытого смысла: Он анализирует ключевой термин "δαιμόνια" в его общеупотребительном значении.
3. Демонстрация противоречия: Он показывает, что вера в "δαιμόνια" логически влечет за собой веру в богов, делая обвинение внутренне противоречивым и абсурдным.
4. Юридический вывод: Обвинение не соответствует формальному составу преступления, так как объединяет взаимоисключающие тезисы.
Однако, как отмечают комментаторы, эта безупречная логическая победа в зале суда оборачивается поражением в борьбе за общественное мнение, где страхи и предрассудки сильнее любого, даже самого безупречного, аргумента.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 23b-c, 31b-32e):
…ταῦτα διαπραττόμενος ἐγὼ σχολὴν ἄγειν οὐδεμίαν δυνατὸς γέγονα οὔτε τῶν τῆς πόλεως πράξεων ἄξιον λόγου οὐδὲν οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ' ἐν ἀπορίᾳ εἰμὶ μυρίᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν.»«…ταύτην τὴν ἐμὴν εἰωθυῖαν ἐργασίαν ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστετάχθαι καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπῳ ᾧπέρ τίς ποτε καὶ ἄλλη θεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προστάξαι… «Εἰ γὰρ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλειν… οὐδὲν γὰρ ἄξιον ὑμῖν οὔτε ἐμοὶ οὔτε τῇ πόλει ἔσεσθαι πράξαντα ἄνδρα δίκαιον πρὸς ὑμᾶς πολιτευόμενον…»
Перевод и структурирование:
(23b-c) «…Эта моя привычная деятельность [исследование себя и других] есть повеление бога, данное и через оракулы, и через сны, и всяким другим способом, каким вообще когда-либо давалось человеку какое-либо божественное повеление…
(23b, 31b) …Занимаясь этим, я не имел возможности заняться чем-либо достойным упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но пребываю в крайней бедности из-за служения богу.
(31d-32a) …Ведь если бы я давно попытался заниматься политическими делами, то давно бы уже погиб… И не случилось бы ничего хорошего ни для вас, ни для меня, если бы я, будучи справедливым человеком, пытался вести политику среди вас…»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ переходит от защиты к утверждению своей жизненной позиции. Он объясняет социальные последствия своего философского призвания – бедность и неучастие в политике – не как недостатки, а как доказательство верности своему долгу.
1. «Служение богу» (λατρεία τῷ θεῷ) как высший долг.
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо, "Что такое антическая философия?"):
«Сократ описывает свою жизнь как форму религиозного служения. Его философская деятельность – это "работа" (ἐργασία), "служба" (λατρεία), прямое "повеление" (προστάττω) божества. Это превращает философию из частного досуга (σχολή) в публичную миссию, сравнимую по своей обязывающей силе с должностью полководца или жреца. Его бедность – не случайность, а следствие этого выбора: он не может брать плату, ибо служит не людям, а богу, и все его время поглощено этим служением. Таким образом, он представляет себя не как бездельника, а как самого занятого и полезного слугу города, хотя и в непривычной для него роли».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский, "Соперники христианства"):
«Сократ создает модель "аскезы философа". Он сознательно отказывается от материальных благ и общественного положения ради высшей цели – "попечения о душе". Его бедность – это не несчастье, а доказательство свободы и независимости. Он не зависит от государства, которое могло бы его наказать лишением должности, и от толпы, которую мог бы разгневать, стремясь к ее расположению. Эта автономия является необходимым условием для выполнения его миссии – говорить городу неприятную правду».
2. Почему философ не может быть политиком: конфликт справедливости и выживания.
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Объяснение Сократа, почему он не участвовал в политике, – это одно из самых радикальных заявлений в античной мысли. Он утверждает, что человек, стремящийся к подлинной справедливости, не может выжить в афинской политической системе. Политика, по его мнению, требует компромиссов, угождения толпе и участия в несправедливых действиях (как в случаях Леонтия Саламинского и Аргинусских стратегов). Философ, который ставит истину и справедливость выше собственной безопасности, либо будет немедленно уничтожен, либо вынужден стать несправедливым. Таким образом, его неучастие – это не трусость, а форма морального сопротивления».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Сократ проводит четкую грань между "частным" учителем добродетели и "публичным" политическим деятелем. На частном поприще он может, рискуя лишь своей личной безопасностью, будить совесть отдельных граждан. На публичной арене он стал бы угрозой для всей системы нерефлексивных мнений (δόξα), на которой держится власть, и был бы немедленно устранен. Его "даймонион" (внутренний голос) всегда удерживал его от политики, и он интерпретирует это как божественную защиту, позволившую ему выполнить свою миссию до конца. Политика – это область коллективного безумия, в которую разумный человек может войти, лишь перестав быть разумным».
3. «Овод» как альтернативная форма служения полису.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Сократ предлагает иную, не-политическую модель гражданственности. Он служит городу не тем, что голосует в Народном собрании или командует войсками, а тем, что исполняет роль "овода" (μύωψ), который жалит "благородную, но обленившуюся лошадь" (полис). Его служба – это интеллектуальная и этическая "терапия" города. Он будит его от догматической спячки, заставляет задуматься о главном – о добродетели, справедливости и истине. В долгосрочной перспективе, с точки зрения Сократа, эта служба гораздо важнее для здоровья полиса, чем любая политическая карьера, ибо она лечит не симптомы, а причину нравственной болезни».
Аргументированное разъяснение (Михаил Леонович Гаспаров):
«Сократ признается, что его частная миссия была для него единственным способом остаться в живых и приносить пользу. Участвуя в политике, он бы погиб, не успев ничего сделать. Оставаясь частным лицом, он смог воспитать нескольких учеников и оставить после себя идею, которая переживет и его самого, и его судей. Его отказ от политики – это не бегство от ответственности, а выбор более эффективной, хотя и более рискованной, формы служения – служения идее».
Объясняя свою миссию и неучастие в политике, Сократ завершает создание образа философа как:
1. Служителя божества, чья деятельность освящена высшим авторитетом и потому не может быть оценена обычными мерками успеха (богатство, должность).
2. Аскета, сознательно принимающего бедность и социальную маргинализацию как плату за интеллектуальную независимость.
3. Неполитического гражданина, чья лояльность полису выражается не в участии в его институтах, которые он считает коррумпированными, а в прямой "терапии" душ его сограждан.
4. "Овода", чья функция – причинять полезную боль, пробуждая город к самопознанию, без которого любое политическое действие слепо и разрушительно.
Таким образом, бедность и аполитичность Сократа предстают не как недостатки, а как следствие последовательного и героического выбора в пользу служения истине.
Дела как доказательство принципов.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 32a-33a):
Καὶ πάλιν, ὅτε ὀλιγαρχία ἦν, Τριάκοντα… ἐκέλευσαν… ἐπαγαγεῖν ἀπὸ Σαλαμῖνος τὸν Σαλαμίνιον Λέοντα… ἐγὼ δὲ οἴκαδε ἀπῄειν.»«Ἐγὼ γὰρ μόνος τῶν πρυτάνεων οὐκ εἴασα… παρά τοὺς νόμους… Перевод и структурирование:
(32a-d) «Тогда я, единственный из пританов [членов правящего совета], восстал против того, чтобы вы поступили противозаконно… [речь идет о незаконном суде над стратегами после битвы при Аргинусах]. Вы грозили и мне, и другим… но я решил, что лучше стану на стороне права и справедливости, нежели из страха перед тюрьмой или смертью стану на сторону неправды.
(32c-e) И снова, когда наступила олигархия, то Тридцать Тиранов… велели нам впятером привезти из Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его… а я тогда просто ушел домой, не послушавшись несправедливого приказа.»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Эти два примера служат Сократу не просто иллюстрацией его храбрости, а окончательным доказательством того, что вся его жизнь была последовательным воплощением философского принципа: «поступать справедливо важнее, чем сохранять жизнь».
1. Противостояние демосу: дело Аргинусских стратегов (406 г. до н.э.).
Исторический контекст (Комментарий Михаила Леоновича Гаспарова, "Занимательная Греция"):
«После победы афинян в морской битве при Аргинусах стратеги не смогли подобрать тела погибших из-за шторма. Разгневанный народ, подстрекаемый демагогами, решил судить их всех скоплением, что было грубейшим нарушением афинского закона, требовавшего суда над каждым в отдельности. Сократ, будучи в тот день председателем Совета (пританом), единственный отказался голосовать за это беззаконие, рискуя быть растерзанным толпой».
Философский смысл (Комментарий Грегори Властоса, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Этот эпизод демонстрирует, что принцип Сократа "подчиняться скорее богу, чем людям" распространяется и на демократическое большинство. Для него законность и справедливость стоят выше воли народа, когда эта воля становится тиранической. Он доказывает, что его "неповиновение" – не анархия, а высшая форма лояльности по отношению к истинным основам полиса – его законам и нравственным принципам. Он ослушался людей, чтобы повиноваться Закону».
2. Противостояние олигархии: дело Леонта Саламинского (404 г. до н.э.)
Исторический контекст (Комментарий Джеймса А. Кольяса, "The Trial of Socrates"):
«Режим "Тридцати тиранов", пришедший к власти после поражения Афин в Пелопоннесской войне, проводил политику террора. Леонт был одним из многих, кого они хотели уничтожить без суда, чтобы конфисковать его имущество. Приказ "впятером" привезти его был тестом на лояльность, вовлекавшим исполнителей в соучастие в преступлении. Сократ, просто уйдя домой, совершил акт гражданского неповиновения, за который в те дни легко можно было поплатиться жизнью».
Этический смысл (Комментарий Алексея Федоровича Лосева, "История античной эстетики"):
«В этих двух примерах Сократ проявляет последовательность, недоступную обычным людям. Он противостоит и демократии, впавшей в произвол, и олигархии, основанной на насилии. Его позиция – это позиция вне-политической совести. Он показывает, что существует высшая справедливость, которая не зависит от формы правления. Философ служит не партии и не режиму, а нравственному закону, который для него тождественен божественной воле. Его "даймонион" запрещал ему участвовать в несправедливости, кем бы она ни совершалась».
3. Риторическое и дидактическое значение примеров.
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«Сократ апеллирует к фактам, известным судьям. Он не просит верить ему на слово. Он говорит: "Вот два случая, когда я мог быть казнен властью демоса и властью тиранов. Я не побоялся тогда. Почему вы думаете, что я побоюсь сейчас?" Эти примеры превращают его из подсудимого в судью над самим судом. Он напоминает афинянам, что они уже дважды были на стороне беззакония, и он дважды противостоял им, оставаясь верным закону. Кто здесь настоящий защитник отеческих устоев?»
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит):
«Этими примерами Сократ окончательно снимает с себя обвинение в "развращении молодежи". Каким образом человек, который в одиночку противостоял беззаконию и рисковал жизнью за справедливость, может учить молодежь дурному? Напротив, его жизнь – это урок высшей добродетели. Он доказывает, что его учение не является пустыми словами; он воплотил его в своих поступках в моменты наивысшей опасности. Это апелляция не к логике, а к совести судей».
Приводя примеры своей стойкости, Сократ:
1. Доказывает последовательность: Он защищал закон и справедливость при демократии и при тирании.
2. Обосновывает свою "неполитичность": Он показывает, что его отказ от карьеры был не трусостью, а сознательным выбором в пользу роли нравственного контролера, который возможен только "вне системы".
3. Снимает с себя последние подозрения: Демонстрирует, что человек, дважды рисковавший жизнью за правду, не может быть "безбожником" и "развратителем", ибо сама его жизнь – это воплощение благочестия (служения высшей правде) и добродетели.
4. Ставит моральный ультиматум суду: Он предлагает судьям сделать выбор: осудить его, как когда-то они осудили стратегов, встав на путь беззакония, или оправдать, признав ценность того принципа, за который он всегда стоял.
Этими фактами биографии Сократ завершает свою защиту, представая не просто философом, но и героем-гражданином, чья верность справедливости проверена в самых суровых испытаниях.
Отказ унижаться и нарушать достоинство.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 34c-35c, 38d-e):
«Ἐγὼ δ' οὐδὲν δρᾶν τούτων μέλλω… κινδυνεύων, ὡς γέ μοι φαίνεται, ἐσχάτῳ κινδύνῳ… οὐδὲ δίκαιον… δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ καὶ δεήσει ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν τε καὶ πείθειν.
…οὐ γὰρ τῷ δεῖσθαι δεῖ ἀποφεύγειν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ τῷ ἀληθείαν λέγειν…»
Перевод и структурирование:
(34c-35c) «Я же ничего такого делать не намерен… хотя и подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опасности… И мне кажется, что это и не правильно… просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того чтобы разъяснять дело и убеждать.
(38d-e) …Ибо не просьбами должно избегать наказания, о мужи афиняне, а тем, что представляешь суду ясные доказательства и говоришь правду…»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот отказ – не просто риторический прием, а прямое следствие всей философской системы Сократа. Он ставит истину и личное достоинство выше жизни.
1. Противостояние судебной «театральности»: логос против пафоса.
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ проводит фундаментальное различие между двумя видами убеждения: "убеждать, разъясняя" (πείθειν διδάσκοντα) и "убеждать, умоляя" (πείθειν δεόμενον). Первое апеллирует к разуму и справедливости (логос), второе – к эмоциям и милосердию (пафос). В афинской судебной практике второе было нормой: подсудимые приводили плачущих детей, родственников, друзей, чтобы растрогать судей. Для Сократа такой способ – это форма лжи и моральной коррупции. Он превращает суд из органа правосудия в театр жалости, где побеждает не тот, кто прав, а тот, кто искуснее играет на чувствах».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Сократ отказывается не от защиты, а от её унизительной, с его точки зрения, формы. Он говорит судьям: "Вы – не зрители трагедии, а я – не актер. Вы пришли вершить суд, а я пришел представить свои доводы. Давайте не будем смешивать роли". Этим он бросает вызов всей системе афинского правосудия, построенной на риторике и воздействии на толпу. Он требует от суда невозможного – быть беспристрастным разумом, а не эмоциональной массой».
2. Философское достоинство (ἀρετή) и забота о душе.
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо, "Что такое античная философия?"):
«Отказ Сократа – это практическое применение его учения о том, что главная забота человека должна быть направлена не на тело и не на жизнь, а на душу (ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς). Унижаться, плакать и просить – значит наносить вред своей душе, ее добродетели и достоинству. Для философа сохранить душу незапятнанной важнее, чем сохранить жизнь. Его защита – это демонстрация того, что он прожил жизнь в соответствии со своими принципами, и готов так же умереть».
Аргументированное разъяснение (Алексей Федорович Лосев):
«Сократ рассматривает суд как последнее и главное испытание своей жизни. Если он станет унижаться, то вся его предыдущая жизнь, все его утверждения о примате добродетели над выгодой окажутся ложью. Его достоинство философа и гражданина для него дороже оправдательного приговора, купленного ценой морального самоуничтожения. Он предпочитает быть осужденным, оставаясь Сократом, чем быть оправданным, превратившись в жалкого просителя».
3. Риторическая стратегия: создание образа непоколебимого мудреца.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Этот отказ – также блестящий, хотя и рискованный, риторический ход. Сократ сознательно занимает позицию морального превосходства. Он говорит судьям: "Я уважаю вас настолько, что не стану унижать вас моими слезами, предполагая, что вы можете принять решение не на основе закона и истины, а на основе жалости". Этим он ставит их перед тяжелым выбором: либо оправдать его, подтвердив свой статус беспристрастных служителей правосудия, либо осудить, доказав, что они – всего лишь разгневанная и манипулируемая толпа, которую он презирает».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский):
«Сократ ведет себя не как подсудимый, а как учитель, дающий последний урок своим согражданам. Урок заключается в том, что существует нечто более важное, чем страх смерти, – это верность себе и истине. Его отказ от "жалких речей" – это педагогический прием, призванный шокировать аудиторию и заставить ее задуматься о подлинных ценностях. Он превращает свой суд в публичную лекцию о философском образе жизни, где смертный приговор становится лишь иллюстрацией к тезису».
Отказ Сократа от традиционных способов защиты является:
1. Логическим следствием его философии: Если добродетель – это знание, а зло – невежество, то суд должен быть местом представления знаний и аргументов, а не состязанием в актерской игре.
2. Актом моральной чистоты: Он предпочитает смерть с чистой душой и незапятнанным достоинством жизни, купленной ценой самоуничижения.
3. Высшей формой уважения к суду (и к себе): Он требует от суда соответствия высокому идеалу правосудия, тем самым бросая ему вызов.
4. Мощным риторическим оружием: Эта позиция создает образ человека, настолько уверенного в своей правоте, что он не нуждается в милости, а требует справедливости.
Этот шаг окончательно отделяет Сократа от обычных подсудимых и показывает, что его процесс – это не просто суд над человеком, а суд над двумя противоположными концепциями жизни: жизнью, основанной на мнении, страхе и эмоциях, и жизнью, основанной на знании, достоинстве и разуме.
Критон (о справедливости и законе)
Диалог Платона «Критон» – это глубокая философская притча о столкновении двух мировоззрений: мира человеческих страстей, прагматизма и общественного мнения (δόξα), олицетворяемого Критоном, и мира разума, принципов и абсолютной этики, воплощенного Сократом. Сюжетно диалог строится вокруг попытки Критона убедить друга совершить побег из тюрьмы, однако его подлинный смысл раскрывается в последовательном переходе от эмоциональной убежденности к логическому анализу, от частного случая к универсальным законам.
Уже в завязке диалога Платон мастерски создает контраст между суетливой тревогой Критона, готового на взятки и нарушение законов ради спасения жизни друга, и спокойной рассудительностью Сократа, чье душевное равновесие перед лицом смерти становится первым воплощением его философских убеждений. Этот конфлиг углубляется по мере развития беседы, где каждый аргумент Критона – о репутации, деньгах, долге перед семьей – систематически разбирается и отвергается как несостоятельный в свете высших этических принципов.
Ключевым поворотом диалога становится сократовский методологический маневр: он отказывается от обсуждения практических последствий побега и сводит вопрос к единственно значимой проблеме – справедливости самого действия. Этот переход подготавливает почву для формулирования аксиом сократовской этики: нельзя творить несправедливость, даже в ответ на несправедливость, и нельзя причинять зло, даже ради благих целей. Эти принципы, добровольно принятые Критоном, становятся логической основой для кульминационной части диалога – речи Законов, где сама сущность государства обращается к Сократу.
В этом мысленном эксперименте Законы предстают не как безличная сила, а как разумный порядок, породивший, воспитавший и защитивший гражданина. Молчаливое согласие Сократа жить в Афинах и пользоваться их благами трактуется как добровольный договор, нарушить который – значит совершить предательство по отношению к себе и к основам общественной жизни. Побег, даже как ответ на несправедливый приговор, становится актом разрушительной несправедливости, угрожающей самим устоям полиса.
Финал диалога – это торжество философского этоса над человеческими слабостями. Сократ, слышащий голос Законов «как корибанты слышат звуки флейт», принимает смерть не как поражение, а как акт высшей свободы и верности своим убеждениям. Его решение – это не покорность судьбе, а сознательный выбор в пользу души над телом, разума над страстью, вечных принципов над сиюминутными выгодами. «Критон» thus становится не только прощанием с Сократом, но и вечным напоминанием о том, что подлинная этика требует от человека готовности платить высшую цену за свою внутреннюю правоту.
Содержание: Критон приходит в тюрьму до рассвета. Сократ удивляется его раннему визиту и тому, что сторож его впустил. Критон объясняет, что он здесь частый гость и дал сторожу взятку.43 a-b Сократ. Что это ты пришел в такое время, Критон? Или уже не так рано? … Критон. Довольно давно. Оригинальный текст (43 a-b):
Κρίτων: Ἱκανὸν ἤδη χρόνον.Σωκράτης: Τί τοῦτο, ὦ Κρίτων, ὀψὲ ἥκεις; ἢ οὐ πάνυ ὀψέ; Κρίτων: Οὐ μέντοι. Σωκράτης: Πῇ δὴ ὥρα; Κρίτων: Ὄρθρος. Σωκράτης: Θαυμάζω ὅτι σε ἐπέτρεψεν ὁ φύλαξ εἰσελθεῖν. Κρίтон: Συνήθης δή μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλὰ δεῦρο ἰέναι· καὶ δέ τι καὶ χάριν μοι ἔχει. Σωκράτης: Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι; Перевод:
Критон: Довольно давно.Сократ: Что это, Критон, ты пришел так поздно? Или не совсем поздно? Критон: Нет, что ты. Сократ: Который же час? Критон: Ранний рассвет. Сократ: Удивляюсь, что сторож позволил тебе войти. Критон: Он уже привык ко мне, Сократ, из-за того, что я часто хожу сюда; и даже кое-чем обязан мне. Сократ: Ты только что пришел или давно? Философский анализ и диалектическая структура
Данный эпизод, кажущийся на первый взгляд лишь бытовой экспозицией, выполняет ключевую диалектическую и драматургическую функцию, закладывая фундамент для всей последующей дискуссии.
1. Диалектическое начало:
Диалог открывается не с эмоционального призыва Критона, а с вопроса Сократа, который сразу задает интеллектуальный, а не эмоциональный тон. Его первая реплика – «Ты пришел так поздно? Или не совсем поздно?» – это классический сократический прием. Вместо того чтобы поддаться обстоятельствам (тюрьма, ожидание казни), Сократ анализирует их. Он фиксирует внимание на временнóм парадоксе: визит до рассвета можно трактовать и как "поздний" (ночь еще не кончилась), и как "ранний" (день еще не начался). Этим самым Сократ дистанцируется от суеты и непосредственности переживания, переводя разговор в плоскость точных определений. Это – первичный акт философского осмысления ситуации.Ирония и установление дистанции Сцена строится на контрасте двух позиций:2. Драматургическая функция: Создание контраста · Позиция Критона: Прагматичная, человеческая, эмоционально заряженная. Его ответы кратки, он не склонен к философским отвлечениям. Факт его долгого ожидания («Довольно давно») и взятки сторожу («кое-чем обязан мне») рисует портрет деятельного друга, готового на все, чтобы спасти товарища. Он действует в рамках человеческих, "договорных" отношений (χάριν – "услуга", "благодарность").
· Позиция Сократа: Созерцательная, аналитическая, спокойная. Его удивление по поводу сторожа – это не просто любопытство, а указание на ненормальность ситуации, которая, однако, не вызывает в нем страха. Он спит глубоким сном, в то время как Критон, свободный человек, измучен бессонницей и тревогой. Этот контраст визуально и символически воплощает главный конфликт диалога: столкновение обывательского, основанного на мнениях (δόξα) прагматизма и философского, основанного на знании (ἐπιστήμη) принципа.
3. Философская роль:
Ранний визит Критона – это не просто деталь сюжета. Он символизирует "до-философское" состояние проблемы. Критон приходит из мира суеты, неправедных законов (взятка) и эмоционального давления. Его "давнее" ожидание – метафора его внутреннего нетерпения и желания действовать немедленно, не утруждаясь глубоким анализом. Сократ же, только пробуждаясь, олицетворяет ясный, незамутненный разум, который должен будет проснуться в Критоне. Таким образом, эта завязка является диалектической прелюдией: она выявляет проблему на уровне характеров и поступков, чтобы затем, в основной части диалога, возвести ее на уровень универсальных законов и логических доводов. Мир Критона (взятки, договоренности, спешка) будет последовательно разобран и отвергнут миром Сократа (закон, справедливость, истина), и первый шаг к этому – спокойная, ироничная констатация их различий в самой первой фразе.Подготовка почвы для основной проблемы 2. Восхищение душевным спокойствием Сократа
Содержание: Критон объясняет, что не будил Сократа, чтобы тот поспал подольше. Он выражает свое восхищение тем, как легко и кротко Сократ переносит свое несчастье.43 b-c Сократ. Почему же ты не разбудил меня сразу… Критон. Я давно удивляюсь тебе… как легко и кротко ты его переносишь. Оригинальный текст (43 b-c):
Κρίτων: Οὔ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἐγὼ εἴην τοιοῦτος ἀλγῶν καὶ περιπαθῶν. Καὶ δὴ καὶ ἐγὼ πάλαι σοῦ θαυμάζω, ὁρῶν ὡς ἡδέως καθεύδεις. Καὶ ἑκὼν ἐπέσχον, ἵνα σοι ὡς πλεῖστον ἀπολαύσαις εἴης. Καὶ πολλάκις μὲν καὶ ἐν τῷ παντὶ βίῳ ἐμαυτὸν ἐνέγραψα εὐδαιμονέστερον εἶναι τῇ φύσει σου, νῦν δὲ πολὺ μᾶλλον οἰκτίρω σε, ὁρῶν ὡς ῥᾳδίως καὶ πρᾳέως φέρεις τὸ δυσδαιμονεῖν.Σωκράτης: Διὰ τί οὖν οὐκ εὐθὺς ἐπηγέρεις, ἀλλὰ ἡσύχως ἐκάθησο; Перевод:
Критон: Нет, клянусь Зевсом, Сократ, я и сам бы не был в таком состоянии [букв. "таким"], скорбя и страдая. И действительно, я давно удивляюсь тебе, видя, как приятно ты спишь. И я умышленно воздержался, чтобы ты мог насладиться [сном] как можно дольше. И часто за всю мою жизнь я считал себя по природе более счастливым, чем ты, но сейчас я гораздо больше жалею тебя, видя, как легко и кротко ты переносишь свое несчастье.Сократ: Почему же ты не разбудил меня сразу, а сидел спокойно? Философский анализ и диалектическая структура
Этот пассаж представляет собой не просто комплимент, а драматургическую конфронтацию двух несовместимых жизненных позиций, где восхищение Критона одновременно является и недоумением, и непониманием.
Вопрос Сократа («Почему же ты не разбудил меня сразу?») продолжает линию спокойной аналитики. Он наблюдает за поведением Критона так же, как наблюдал за временем его прихода. Этот вопрос вынуждает Критона обнажить свои чувства и, что важнее, свою систему ценностей. Сократ, сам того прямо не требуя, провоцирует собеседника на исповедь, которая станет материалом для последующего философского разбора.1. Диалектический прием: Сократическая ирония как катализатор В ответе Критона Платон мастерски выстраивает полную антитезу, раскрывающую пропасть между обывательским и философским пониманием «счастья» (εὐδαιμονία) и «несчастья» (δυσδαιμονεῖν).2. Философская антитеза: Противостояние внешнего и внутреннего блага · Позиция Критона (δόξа – мнение): Его мировоззрение основано на внешних благах и эмоциональных реакциях.
o «Скорбя и страдая» (ἀλγῶν καὶ περιπαθῶν): Для Критона это единственно возможная и даже нормальная реакция на несправедливый приговор. Страдание – это зло, которого нужно избегать любой ценой.
o «Считал себя по природе более счастливым» (ἐμαυτὸν… εὐδαιμονέστερον): Здесь ключ к его системе ценностей. Счастье для Критона – это обладание тем, чего, как он полагал, был лишен Сократ: вероятно, богатством, безопасностью, общественным признанием. Его «жалость» (οἰκτίρω) проистекает из этой же логики: он измеряет благополучие Сократа своими мерками и видит трагедию там, где Сократ видит возможность проявить добродетель.
o «Легко и кротко ты переносишь свое несчастье» (ῥᾳδίως καὶ πρᾳέως φέρεις τὸ δυσδαιμονεῖν): Это кульминация непонимания. Критон интерпретирует душевную силу Сократа как пассивное «несчастье», которое тот «переносит». Он не способен увидеть, что для Сократа это не «перенесение беды», а активное следование добродетели, которое и есть подлинное счастье, недоступное для понимания извне.
· Позиция Сократа (ἀρετή – добродетель): Спокойный сон Сократа – это не просто психологическая устойчивость, а зримое воплощение его философии. Для него душа (ψυχή) важнее тела, а согласие с самим собой и с понятиями справедливости важнее внешних обстоятельств. Его сон демонстрирует, что его внутреннее состояние не зависит от угрозы физической смерти. Таким образом, Сократ уже живет согласно тому принципу, который будет доказывать в ходе диалога: не жизнь как таковая, а праведная жизнь имеет ценность.
Платон сначала показывает нам философский идеал в лице спящего Сократа, а затем заставляет его логически обосновать свое поведение. Критон, восхищаясь, но не понимая сути, становится рупором недоумения обычного афинянина. Его слова – это вызов, на который Сократу предстоит ответить всей последующей беседой. Диалог thus far показывает: истинная философия – это не набор теорий, а практическое умение жить и умирать в согласии с разумом, что и делает «несчастного» Сократа по-настоящему счастливым, а «счастливого» и жалеющего его Критона – глубоко несчастным и полным страха.3. Роль в структуре диалога: Демонстрация тезиса перед его доказательством
Содержание: Критон сообщает, что корабль с Делоса, с прибытием которого должна состояться казнь Сократа, может прийти сегодня, а значит, казнь произойдет завтра. Сократ спокойно принимает эту весть и рассказывает о пророческом сне, который, по его мнению, означает, что корабль прибудет только на следующий день.43 c – 44 b Сократ. Какое же? Уж не пришел ли с Делоса корабль… Сократ. В добрый час, Критон! Если так угодно богам, пусть так и будет. Оригинальный текст (43 c – 44 b):
Сократ: Ὄναρ γάρ μοι φαίνεται ἐν τῇ νυκτὶ παρελθὸν παρά τινά μοι φράζειν… Ὅρα δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μὴ τῇ ἐπιούσῃ, ἀλλὰ τῇ νῦν ἡμέρᾳ ἀφίξεται.Критон: Ἡμέραν γάρ τινα ἔχω ἀγγέλλουσαν ἀφίξεσθαι αὐτὸν Σουνιάδῃ ὄντα. … Ὥστε ἐκ τούτων, ὦ Σώκρατες, συλλογίζομαι ὅτι τῇ ἐπιούσῃ δεῖ σε τὴν ψυχὴν ἀφεῖναι· οὐ γὰρ ἄν ποτε μετὰ ταῦτα γένοιτο. Сократ: Ἀλλ᾽, ὦ βέλτιστε Κρίτων, ἐν καλῷ γε… εἰ δὲ τοῖς θεοῖς thus δοκεῖ, thus γενέσθω. Перевод:
Сократ: …ибо мне ночью привиделось во сне, как подошла ко мне некая [женщина] и сказала… Смотри же, как мне кажется, он прибудет не послезавтра, а уже сегодня.Критон: …ибо я получил известие, что он [корабль], находясь у Суния, [прибудет] в какой-то день. … Так что из этого, Сократ, я заключаю, что тебе предстоит расстаться с жизнью послезавтра; ибо это уж никак не может случиться позже. Сократ: Что ж, дорогой Критон, в добрый час… если это угодно богам, пусть так и будет. Философский анализ и диалектическая структура
Данный эпизод выполняет критически важную функцию: он смещает фокус с человеческих страхов на божественную волю и внутреннюю уверенность Сократа, вводя в диалог тему провидения, которая станет метафизическим обоснованием его последующих аргументов.
Платон сталкивает здесь два способа постижения реальности, олицетворяемые Критоном и Сократом.1. Диалектическое противопоставление двух типов знания: Логический вывод vs. Провидческое знание · Знание Критона (логика, основанная на δόξа): Его сообщение построено на цепочке мирских, пусть и точных, данных: «я получил известие» (ἀγγέλλουσαν), «я заключаю» (συλλογίζομαι). Он оперирует внешними фактами (положение корабля у мыса Суний) и человеческими расчетами. Его вывод, хотя и логичный, несет в себе тяжесть смертного приговора и является кульминацией его трагического, основанного на страхе, мировосприятия.
· Знание Сократа (сновидение, основанное на вере): В ответ на сухое заключение Критона Сократ предлагает иную эпистемологическую модель. Его пророческий сон (ὄναρ) – это не мистическое бегство от реальности, а форма высшего знания, доступного тому, кто живет в согласии с божественным. Фраза «как мне кажется» (ὡς ἐμοὶ δοκεῖ) здесь иронично перекликается с «мнением» (δόξα) Критона, но указывает на качественно иной источник – внутреннее озарение, а не внешнюю информацию.
Реакция Сократа на известие о неминуемой смерти – это квинтэссенция его философской позиции.2. Философская роль: Принятие судьбы как акт свободы · «В добрый час…» (ἐν καλῷ γε): Эта фраза – не стоическая покорность, а активное благословение. Сократ не просто покоряется судьбе, он соглашается с ней, видя в ней «благое», «прекрасное» время (καλός). Он трансформирует пассивное ожидание смерти в активное приятие божественного плана.
· «…если это угодно богам, пусть так и будет» (εἰ δὲ τοῖς θεοῖς thus δοκεῖ, thus γενέσθω): Это ключевая формула, предваряющая все последующие рассуждения. Сократ подчиняет свою судьбу не человеческому суду, а божественной воле. Этот принцип станет этическим фундаментом его отказа бежать: неповиновение законам Афин было бы неповиновением божественному установлению, которое привело его в этот город и определило его жизненный путь. Таким образом, его кажущаяся пассивность на деле является высшим актом свободного выбора в пользу послушания Логосу.
Пророчество о задержке корабля на один день имеет crucial драматургическое значение. Оно отодвигает физический срок казни, создавая тем самым философское пространство и время для беседы. Если бы казнь была сегодня, диалог был бы невозможен. Этот отсроченный срок, дарованный, согласно Сократу, свыше, превращает «Критона» из предсмертной драмы в спокойный, методичный разбор высших этических принципов. Смерть перестает быть дамокловым мечом, нависшим над разговором, и становится предметом анализа. Божественное провидение, таким образом, выступает гарантом самой возможности философии в предельной ситуации.3. Структурная функция: Создание «пространства для диалога» Этот эпизод окончательно переводит диалог из плоскости человеческой тревоги (Критон) в плоскость божественного промысла и разумного принятия (Сократ), подготавливая почву для главной темы – диалога с Законами.
Содержание: Критон излагает все доводы в пользу побега:44 b – 46 a Критон. Но, дорогой Сократ, хоть теперь послушайся меня… Критон. Право, Сократ, послушайся меня и ни в коем случае не поступай иначе. · Репутация: Друзья Сократа прослывут скупцами, которые не захотели спасти друга.
· Страх: Доносчики могут причинить вред его друзьям, но Критон готов рискнуть.
· Деньги: Деньги на побег и взятки есть, друзья готовы помочь.
· Изгнание: В Фессалии его ждут почет и безопасность.
· Несправедливость: Подчиниться несправедливому приговору – значит помочь врагам.
· Долг перед семьей: Бегство необходимо ради воспитания сыновей.
Оригинальный текст (44 b – 46 a):
Κρίτων: Νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες, πίθεοί μοι καὶ μηδὲν ἄλλως πράξῃς.Κρίτων: Ἀλλὰ ὦ βέλτιστε Σώκρατες, νῦν γε ἐμοὶ πίθεο καὶ σῶσον σεαυτόν… Μὴ οὖν μοι δείσῃς, ὦ Σώκρατες, μηδὲ ποιήσῃς ὅπερ σὺ λέγεις. Перевод:
Критон: Клянусь Зевсом, Сократ, послушайся меня и ни в коем случае не поступай иначе.Критон: Но, дорогой Сократ, хоть теперь послушайся меня и спаси себя… Не бойся же, Сократ, и не делай того, о чем ты говоришь [т.е. не оставайся]. Философский анализ и диалектическая структура
Речь Критона – это не хаотичный набор доводов, а стройная система, отражающая всю совокупность ценностей афинского общества, основанных на публичной репутации (δόξα), родственных узах и прагматической выгоде. Сократический метод требует сначала ясно сформулировать тезис оппонента, и Платон делает это, выстраивая аргументы Критона в нарастающем порядке значимости с его точки зрения.
Платон дает Критону высказаться полно и эмоционально, чтобы:1. Диалектическая функция: Презентация тезиса для последующего опровержения · Исчерпать аргументацию «мира мнений».
· Четко обозначить проблемное поле, которое Сократ будет анализировать.
· Продемонстрировать глубинное непонимание Критоном этической позиции Сократа. Критон апеллирует к страстям и внешним обстоятельствам, в то время как Сократ будет апеллировать к разуму и внутреннему закону.
2. Структура и философская роль аргументов Критона:
· А. Репутация и общественное мнение (44b-c):
o Содержание: Друзья прослывут скупцами, не сумевшими спасти друга; все решат, что их трусость и бездействие погубили Сократа.
o Философская роль: Это наименее значимый для Сократа, но наиболее значимый для Критона аргумент. Он показывает, что для обычного человека этика заключена во внешней оценке социума. Стыд перед людьми (αἰσχύνη) для Критона сильнее, чем стыд перед собственной совестью или божественным законом. Этот аргумент прямо противоположен сократовскому принципу «заботиться не о мнении большинства, а о мнении одного знающего» (ἕνα ἐπιστήμονα).
· Б. Прагматика и риск (44c-45a):
o Содержание: Страх перед доносчиками, которые могут навредить друзьям; готовность Критона и других заплатить деньги и рискнуть.
o Философская роль: Критон оперирует категориями страха, риска и денежной компенсации. Он предлагает решить моральную проблему финансовыми и политическими средствами (взятки, устройство в изгнании). Для Сократа же это – подмена этики прагматикой.
· В. Справедливость как возмездие (45c):
o Содержание: Подчиниться несправедливому приговору – значит самому участвовать в несправедливости и помогать врагам.
o Философская роль: Это наиболее сильный с философской точки зрения аргумент Критона, так как он пытается апеллировать к понятию справедливости. Однако его понимание справедливости – это закон талиона, ответное причинение зла («не дай врагам добиться своего»). Сократ позже перевернет этот аргумент, показав, что ответное зло (побег как нарушение закона) не может быть основой для справедливости.
· Г. Долг перед семьей (45c-d):
o Содержание: Необходимость бегства ради воспитания сыновей, оставление их сиротами будет позором и невыполнением отцовского долга.
o Философская роль: Критон апеллирует к одному из самых глубоких и естественных человеческих инстинктов – заботе о потомстве. Этот аргумент призван вызвать эмоциональную слабость. Однако для Сократа истинный долг отца – не просто физическое выживание, а воспитание в добродетели. Он позже поставит под сомнение, может ли человек, совершивший несправедливость (побег), научить добродетели своих детей.
Вся речь Критона пронизана духом утилитарного расчета. Он взвешивает репутационные потери, финансовые затраты, риски для друзей и выгоды для семьи. Его итоговый призыв – «не поступай иначе» – это призыв к действию, основанному на страхе, стыде и прагматизме. Этим Платон мастерски подводит к главному вопросу диалога: может ли подобный расчет быть основанием для нравственного выбора? Ответ Сократа, который последует далее, будет решительно отрицательным: этика начинается там, где заканчивается расчет и начинается следование абсолютному принципу, даже ценою жизни.3. Итоговая позиция Критона: Этика как расчет выгод и потерь
Содержание: Сократ переводит дискуссию с эмоций на уровень принципов. Он вводит ключевую идею: нужно слушаться не мнения большинства, а мнения знающего эксперта, того, кто понимает в справедливости. Он проводит аналогию с гимнастикой, где спортсмен слушает тренера, а не толпу. Так и в вопросах справедливости нужно слушать знатока, а не толпу, которая может убить тело, но не может причинить вред душе.46 b – 48 d Сократ. Милый Критон, твое усердие стоило бы очень дорого, если бы оно было еще и верно направлено… Сократ. Стало быть, друг мой, уж не так-то мы должны заботиться о том, что скажет о нас большинство… Оригинальный текст (46 b – 48 d):
Σωκράτης: …ἀλλὰ τί ἐρεῖ ὁ περὶ τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου ἐπαΐων, ὁ ἀλήθειας μάρτυς εἷς;Σωκράτης: Ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἄξια εἴη ἄν, εἰ μετὰ ὀρθότητος εἴη· εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων, τοσούτῳ χαλεπωτέρα. Σωκράτης: Οὐκ ἄρα πάνυ ἡμῖν μελετητέον, ὦ ἑταῖρε, τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμῶν… Перевод:
Сократ: …а [о том, что скажет] тот, кто понимает в справедливом и несправедливом, тот единственный свидетель истины.Сократ: Милый Критон, твое усердие было бы очень ценно, если бы оно было верно направлено; если же нет, то чем больше [усердие], тем оно пагубнее. Сократ: Стало быть, друг мой, уж не так-то мы должны заботиться о том, что скажет о нас большинство… Философский анализ и диалектическая структура
Данный пассаж выполняет роль методологического пролога ко всей последующей аргументации. Прежде чем анализировать конкретный поступок (побег), Сократ устанавливает, как вообще следует мыслить о подобных вопросах. Это переход от риторики к диалектике, от мнения к знанию.
Сократ начинает не с опровержения доводов Критона по отдельности, а с атаки на их эпистемологический фундамент – авторитет большинства (οἱ πολλοί). Его первая фраза – это не благодарность, а мягкое, но твердое указание на ошибку в самой основе: ценность усердия (προθυμία) определяется не его интенсивностью, а его направленностью (ὀρθότης). Тем самым он сразу смещает фокус с что делать на как правильно судить о том, что делать.
1. Диалектический ход: Смена предмета спора Сорат выстраивает жесткую дихотомию, которая является краеугольным камнем его философии:2. Ключевая антитеза: Мнение большинства (δόξα) vs. Знание эксперта (ἐπιστήμη) · Мнение большинства (τὶ ἐροῦσιν οἱ πολλοί):
o Характеристики: Ненадежное, невежественное, изменчивое, основанное на эмоциях и предрассудках. Оно неспособно на великие деяния – ни сделать человека мудрым, ни глупым, оно действует случайно.
o Опасность: Забота о нем разрушает способность к разумному суждению. Это прямая критика первого и главного аргумента Критона о репутации.
· Мнение знающего (τὶ ἐρεῖ ὁ ἐπαΐων):
o Характеристики: Обладает знанием (ἐπιστήμη) о предмете, в данном случае – о справедливости и несправедливости. Этот эксперт – не конкретное лицо, а нормативный идеал, воплощение объективного разума.
o Образ «единственного свидетеля истины» (ἀλήθειας μάρτυς εἷς): Это мощнейшая метафора. Истина едина и объективна, и судить о поступке должен тот, кто способен быть ее «свидетелем», а не толпа, живущая во множестве субъективных и ложных мнений.
Чтобы сделать свой абстрактный принцип ясным и неоспоримым, Сократ использует аналогию из области телесных упражнений (46c).3. Аналогия с гимнастикой: Обоснование принципа специализации · Содержание: Спортсмен, желающий сохранить и улучшить свое тело, должен слушаться одного тренера-специалиста, а не соводов многих несведущих людей. Следование мнению толпы может привести к порче и гибели тела.
· Философская роль: Аналогия выполняет две функции:
1. Доказывает универсальность принципа: То, что очевидно в телесной сфере (гимнастика), должно быть столь же очевидно в сфере души (справедливость).
2. Подготавливает учение о душе: Она вводит идею о том, что у человека есть нечто, требующее заботы и тренировки, – его душа (ψυχή). Как тело портится от неправильных упражнений, так и душа портится от несправедливых поступков.
Из этой аналогии Сократ выводит фундаментальную аксиому всей своей этики (47e – 48a):4. Введение аксиомы: Высшая ценность души «Жить – не самое важное, а важно жить хорошо… А жить хорошо – это то же самое, что жить правильно и справедливо».
Этот постулат радикально переворачивает прагматизм Критона. Целью становится не сохранение жизни (биологического существования), а сохранение качества жизни, определяемого ее нравственной чистотой. Следовательно, вопрос меняется с «Как мне выжить?» на «Какой поступок будет справедливым?». Отсюда – кульминационный вывод: душа неизмеримо ценнее тела, а потому причиняемое ей зло (несправедливость) страшнее любого зла, которое можно причинить телу, включая смерть. Большинство, угрожающее смертью, бессильно против того, кто заботится о своей душе.
Таким образом, этот этап беседы – это не просто один из аргументов, а смена парадигмы, создающая этический фундамент, на котором будет построен весь последующий диалог с Законами.
Содержание: Сократ сужает вопрос: отбросив все второстепенные соображения (деньги, репутация, дети), нужно выяснить только одно – будет ли побег справедливым поступком. Он предлагает Критону совместно исследовать этот вопрос.48 d – 49 e Сократ. …нам и следует рассмотреть, справедливо ли будет, если я сделаю попытку уйти отсюда… Сократ. Рассмотрим, мой друг, сообща… Оригинальный текст (48 d – 49 e):
