Мелодия рисовых полей
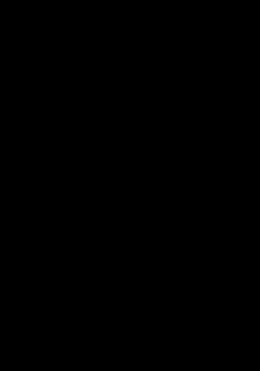
Глава 1: Блюз бетонных джунглей
Сеульский воздух в начале лета был густым, как сироп, и пах пылью, остывающим асфальтом и сладкими обещаниями ночных приключений. Для Ким Ха-Ныль, чьё имя означало "небо", этот воздух был единственной стихией, в которой она умела дышать. Она сидела, поджав под себя одну ногу в белоснежном кеде, в своём любимом кафе "Облако 9" в районе Хондэ – эпицентре всего модного, живого и достойного попадания в ленту.
Здесь всё было идеально выверено для услады глаз и объектива смартфона: неоновые облака под потолком, минималистичная мебель пастельных тонов и, конечно же, десерты, больше похожие на произведения искусства. Фирменный "Облачный мусс" Ха-Ныль – нежно-голубое суфле с лавандовым сиропом, подаваемое на облаке из сахарной ваты – уже был сфотографирован с трёх ракурсов и отправлен в онлайн-вселенную, где собрал первую сотню лайков за пять минут. Успех.
– Ты видела, что выложила Со-Ён? – пропела Джи-А, её лучшая подруга, не отрывая взгляда от своего телефона. Экран отражался в её идеально круглых очках, делая её похожей на мудрую сову, знающую все сплетни мира. – Новая коллаборация с "Cosmic Chic". Говорят, ей заплатили столько, что можно купить квартиру в Каннаме.
– Она просто умеет ловить волну, – фыркнула Ха-Ныль, лениво помешивая свой айс американо. – Сейчас в тренде "натуральность". Фильтры с веснушками, фото без макияжа, которые на самом деле сделаны с десятью слоями тонального крема "no makeup makeup"… Со-Ён просто играет по правилам.
Её мир вращался вокруг этих неписаных правил. Количество подписчиков было валютой, лайки – признанием, а умение создать вирусный контент – настоящим талантом. И Ха-Ныль считала себя талантливой. Её аккаунт, @Sky_Is_The_Limit, был её маленькой империей из десяти тысяч душ, которые следили за её походами по магазинам, обзорами на косметику и эстетичными фотографиями еды. Она была не просто девушкой, она была инфлюенсером. Микро, конечно, но с большими амбициями.
– Кстати, о трендах, – вмешалась Мин-Джу, третья участница их трио, отрываясь от своего клубничного бинсу. – Вы слышали про "Сладкую Росу"? Новое кафе на соседней улице. У них десерты делают в виде капель воды. Все блогеры уже там. Говорят, это новое "Облако 9".
Ха-Ныль поморщилась, словно съела кислый лимон. Конкуренция. Она ненавидела это слово. "Облако 9" было её территорией. Именно её пост о лавандовом муссе полгода назад сделал это место популярным.
– "Сладкая Роса"? – переспросила она с пренебрежением. – Название как у освежителя воздуха. Что там может быть особенного?
– Не скажи, – Джи-А уже нашла их аккаунт. – Смотри. Фотографии шикарные. И у них уже двадцать тысяч подписчиков. Открылись всего неделю назад.
На экране телефона Джи-А красовался десерт, действительно похожий на огромную каплю росы, лежащую на зелёном листе из белого шоколада. Внутри прозрачной оболочки из желатина плавали съедобные цветы. Красиво. Даже слишком красиво. Ха-Ныль почувствовала укол раздражения, смешанного с завистью.
– Это всё маркетинг, – бросила она. – Наверняка на вкус – просто сладкая вода. Люди поведутся на картинку, а потом разочаруются.
– А что, если нет? – мечтательно протянула Мин-Джу. – Может, сходим завтра?
И тут в голове Ха-Ныль, скучающей от летнего безделья и подогретой легкой ревностью к чужому успеху, родилась идея. Маленькая, блестящая и опасная, как осколок стекла. Шутка. Просто шутка, которая покажет всем, чего на самом деле стоит эта "Сладкая Роса".
– А давайте проверим их на прочность? – хитро улыбнулась Ха-Ныль. – У меня есть идея.
Она быстро открыла свой второй, "секретный" аккаунт – @Seoul_Truth_Teller. Это была её площадка для анонимных мнений и более смелых шуток. Всего пара тысяч подписчиков, но зато самых преданных. Она набрала текст, тщательно подбирая слова, чтобы они звучали как инсайдерская информация, как шёпот за кулисами.
"Слышали про модное местечко "Сладкая Роса"? Так вот, моя подруга работала там на кухне один день и сбежала в ужасе. Говорит, что для своих "органических" десертов они используют самые дешёвые китайские подсластители, от которых у неё началась аллергия. Красивая картинка, а внутри – химия. Не ведитесь, ребята! #SeoulFood #СладкаяЛожь"
Она прикрепила к посту одну из глянцевых фотографий из аккаунта "Росы", слегка затемнив её и наложив фильтр с эффектом треснувшего стекла.
– Ну ты даёшь! – восхищённо выдохнула Джи-А. – Жестоко.
– Это не жестоко, это справедливо, – отрезала Ха-Ныль, нажимая кнопку "Опубликовать". – Люди должны знать правду. К тому же, это просто мнение. Свобода слова.
На самом деле, её меньше всего волновала правда. Ею двигал азарт. Сможет ли она, крошечный инфлюенсер, одним постом пошатнуть репутацию заведения, которое взлетело так быстро? Это была проверка её силы.
В первую ночь пост собрал несколько сотен лайков и десятки репостов. Люди в комментариях возмущались, благодарили за "правду" и клялись никогда не ходить в "Сладкую Росу". Ха-Ныль читала это всё, лёжа в своей идеально белой кровати, и чувствовала пьянящее удовлетворение. Она была не просто винтиком в системе трендов, она могла на них влиять. Она была дирижёром в этом оркестре чужих мнений.
Следующий день прошёл в эйфории. Её "разоблачение" цитировали другие паблики, посвящённые еде в Сеуле. Хэштег #СладкаяЛожь вышел в топ. Друзья в школе смотрели на неё с восхищением. Она была в центре внимания, и это было прекрасно. Она даже не задумывалась о последствиях, ведь в её цифровом мире всё было эфемерно и не по-настоящему. Слова были просто пикселями на экране.
А потом пиксели превратились в кувалду, которая обрушилась на её семью.
Это случилось через два дня. Вечером отец вернулся с работы раньше обычного. Ха-Ныль знала этот взгляд – так он смотрел, когда крупная сделка срывалась. Сжатые губы, уставшие глаза и аура ледяного спокойствия, которая была страшнее любого крика.
– Ха-Ныль, – позвал он из гостиной. Его голос был ровным, но в этой ровности звучал металл.
Она вышла из своей комнаты, всё ещё витая в облаках своего маленького триумфа. Мать сидела на диване, нервно сжимая в руках шёлковую подушку.
– Что-то случилось, аппа? – спросила она, стараясь звучать беззаботно.
Отец положил на стеклянный столик свой планшет. На экране была открыта статья из онлайн-издания деловых новостей. Заголовок гласил: "Новое кафе "Сладкая Роса" стало жертвой кибербуллинга. Владельцы готовят иск о клевете".
Сердце Ха-Ныль пропустило удар.
– Я не понимаю, при чём тут я…
– Не понимаешь? – голос отца стал жёстче. – Владелец этого кафе – племянник господина Чхве. Того самого господина Чхве, с которым наша компания пытается заключить контракт уже полгода. Сегодня он позвонил мне. Он был в ярости. Сказал, что не будет иметь дел с семьёй, чьи дети способны на такую подлость.
Мир Ха-Ныль начал трескаться. Господин Чхве. Она слышала это имя. Отец говорил, что этот контракт – самый важный за последние пять лет.
– Но… это была просто шутка! – пролепетала она, чувствуя, как холодеют пальцы. – Просто пост в интернете!
– Шутка?! – взорвалась мать. – Ты хоть представляешь, что такое "лицо" для семьи в Корее? Репутация! Твоя "шутка" может стоить твоему отцу карьеры! Они не просто потеряли клиентов, к ним пришла санитарная проверка, журналисты! Молодая пара, которая вложила в это кафе все свои сбережения, теперь на грани банкротства!
Слова матери били наотмашь. Пара. Сбережения. Банкротство. Это были настоящие, тяжёлые слова из мира взрослых, а не лёгкие пиксели из её ленты.
– Я… я не знала… Я удалю…
– Поздно! – отрезал отец. Он выглядел старше на десять лет. – Скриншоты уже везде. IT-служба господина Чхве без труда выяснила, с какого IP-адреса был сделан пост. С нашего домашнего IP-адреса, Ха-Ныль.
Тишина в комнате стала оглушающей. Было слышно лишь тиканье часов и бешеное биение её собственного сердца. Её маленькая онлайн-империя рухнула, погребая её под своими обломками.
– Я не хотел этого делать, – медленно произнёс отец, и в его голосе прозвучала такая усталость, что Ха-Ныль захотелось провалиться сквозь землю. – Но я не вижу другого выхода. Ты слишком оторвана от реальной жизни. Ты не понимаешь, что у слов и поступков есть последствия.
Он подошёл к ней и протянул руку.
– Телефон.
Она смотрела на него, не веря. Её телефон был не просто устройством. Это была её жизнь, её друзья, её мир.
– Аппа…
– Телефон. И планшет. И ноутбук. На всё лето.
Слёзы хлынули из её глаз. Она дрожащими руками отдала ему свой драгоценный смартфон.
– Лето ты проведёшь у Хальмони. В деревне.
Деревня. Слово прозвучало как приговор к смертной казни. Деревня, где жила её строгая бабушка. Место без торговых центров, без кафе, без друзей. Место, где, как она слышала, даже интернет был роскошью.
– Нет! Пожалуйста, только не это! – взмолилась она. – Я сделаю всё, что угодно! Я извинюсь перед ними!
– Ты будешь работать, – твёрдо сказал отец. – На рисовых полях. Своими руками. Чтобы понять, чего на самом деле стоит труд, а не лайки в интернете. Завтра утром. Автобус в семь.
Он развернулся и ушёл в свой кабинет, оставив её посреди гостиной, которая вдруг стала чужой и холодной. Мать даже не посмотрела на неё. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.
Той ночью Ха-Ныль не спала. Она стояла у окна своей комнаты на двадцатом этаже и смотрела на Сеул. Город переливался миллионами огней, жил, дышал, обещал. Но для неё он погас. Её небо, казавшееся безграничным, сузилось до размеров старого автобуса, который завтра увезёт её в ссылку. В место, где нет ни подписчиков, ни лайков, ни фильтров, чтобы скрыть её отчаяние. Только бесконечные рисовые поля под палящим солнцем.
Глава 2: Дорога в никуда
Автобус пах пылью, нагретым на солнце винилом и чем-то неуловимо кислым – запахом сотен чужих поездок, въевшимся в старую обивку сидений. Он был полной противоположностью гладким, кондиционированным экспрессам, что скользили по Сеулу. Этот дребезжал на каждой кочке, его двигатель ревел так, будто ему было больно, а амортизаторы, кажется, сдались ещё во времена династии Чосон. Для Ха-Ныль это был не транспорт, а катафалк, везущий её на похороны собственной жизни.
Прощание было коротким и холодным, как декабрьский ветер с реки Ханган. Отец не обнял её. Он просто донёс её чемодан до автовокзала, вручил билет и пачку наличных, сунув их ей в руку с деловитой неотвратимостью. Его лицо было непроницаемой маской. «Хальмони будет ждать тебя на остановке в Хадоме», – вот и всё, что он сказал. Не было ни «Береги себя», ни «Я буду скучать». Лишь сухой, как прошлогодний лист, приговор. Мать и вовсе не вышла из машины. Ха-Ныль видела её силуэт за тонированным стеклом – неподвижный, отстранённый. Предательство. Со всех сторон.
Она сидела у окна, вжавшись в угол, и смотрела, как Сеул неохотно отпускает её из своих объятий. Вот промелькнули последние высотки-близнецы, их стеклянные бока ловили утреннее солнце. Вот исчезли знакомые вывески и бесконечные ряды кофеен. Город, её город, растворялся в утренней дымке, уступая место унылым пригородам, потом – широким лентам шоссе. Ха-Ныль чувствовала себя так, будто её собственную кожу сдирали слой за слоем.
Она инстинктивно потянулась к карману, где всегда лежал её телефон. Пусто. Холодная, зияющая пустота. Её пальцы нащупали лишь гладкую ткань джинсов. Фантомная боль. Её мир, её десять тысяч подписчиков, её сотни "друзей", её тщательно выстроенная цифровая личность – всё это осталось там, в Сеуле, запертое в металлическом корпусе смартфона, который теперь лежал в ящике отцовского стола. Это была не просто изоляция. Это была социальная смерть. Кто она теперь без @Sky_Is_The_Limit? Просто Ким Ха-Ныль. Девушка, совершившая глупость. Никто.
Вокруг неё сидели другие люди, совсем не похожие на тех, кого она привыкла видеть. Старушки в цветастых кофтах, с морщинистыми лицами и натруженными руками. Мужчины с обветренной кожей, пахнущие землёй и табаком. Они говорили на сатури – деревенском диалекте, который звучал для Ха-Ныль грубо и чуждо. Они везли с собой плетёные корзины и картонные коробки, перевязанные бечёвкой. Они были настоящими. И от этой их подлинности Ха-Ныль становилось только хуже. Она чувствовала себя подделкой, глянцевой картинкой, случайно попавшей в старый, пыльный фотоальбом.
Автобус свернул с шоссе на узкую дорогу, и пейзаж за окном окончательно изменился. Бесконечные, уходящие за горизонт зелёные поля. Рисовые чеки, залитые водой, блестели на солнце, как разбитые зеркала. Сначала это было даже красиво, но через час однообразный зелёный цвет начал давить, вызывать тошноту. Это была не живописная природа с открытки. Это была пугающая, всепоглощающая пустота. Небо здесь казалось огромным, беззащитным, не прикрытым верхушками небоскрёбов. Оно давило своей безграничностью.
«За что? – снова и снова прокручивала она в голове. – Это была всего лишь шутка. Глупая шутка. Все так делают. Почему именно меня наказывают так, будто я совершила государственную измену? Они просто не понимают. Никто не понимает».
Она злилась на родителей за их жестокость. На господина Чхве за его старомодные понятия о "лице" семьи. На владельцев "Сладкой Росы" за то, что они вообще существуют. На подруг, которые наверняка уже обсуждают её позор в общем чате. Она злилась на всех, но глубже, под слоями гнева и обиды, шевелился холодный, липкий страх. Страх перед неизвестностью. Перед тремя месяцами тишины и одиночества.
Наконец автобус, вздрогнув всем своим железным телом, остановился. Водитель прохрипел: «Хадом». Ха-Ныль выглянула в окно. Остановка. "Остановкой" это было назвать сложно. Просто столб с табличкой у обочины пыльной дороги. Вокруг – всё те же бескрайние поля и несколько домиков с черепичными крышами вдалеке.
Она вышла из автобуса, и её тут же окутал совершенно другой воздух. Густой, влажный, пахнущий свежескошенной травой, мокрой землёй и чем-то ещё, терпким и органическим, чего она не могла опознать. Тишина была почти физически ощутимой. Вместо гула машин – лишь стрекот цикад и далёкое мычание коровы.
На остановке её ждала невысокая, худая женщина. Хальмони. Бабушка. Ха-Ныль не видела её лет пять, но она ничуть не изменилась. Её лицо было похоже на печёное яблоко – всё в мелких, добрых морщинках. Но глаза за стёклами старомодных очков были острыми, проницательными, совсем не старческими. На ней была простая белая блузка и широкие чёрные штаны, перепачканные землёй.
Она не бросилась к внучке с объятиями. Она просто окинула её с ног до головы критическим взглядом, задержавшись на её модных рваных джинсах и футболке с логотипом известного бренда.
– Приехала, – сказала она. Это был не вопрос, а констатация факта. Голос у неё был под стать внешности – сухой и немного скрипучий. – Выглядишь, как будто тебя всю ночь жевали. Лицо белое, как рисовая бумага.
Ха-Ныль открыла рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле. Что тут скажешь?
Бабушка без труда подхватила её чемодан, который казался неуместно розовым и глянцевым в этой обстановке, и кивнула в сторону тропинки, уходящей вглубь деревни.
– Пошли. Обед стынет.
Они шли молча. Ха-Ныль едва поспевала за бабушкой, которая, несмотря на свой возраст, шагала уверенно и быстро. Деревня была ещё меньше и старее, чем показалось из окна автобуса. Низкие домики с изогнутыми крышами, каменные ограды, увитые плющом, огороды, где росло всё подряд – от капусты до огненно-красных перцев чили. У одного из домов дремал на солнце старый пёс. Он лениво приоткрыл один глаз, посмотрел на Ха-Ныль и снова заснул, решив, что она не стоит его внимания.
Дом бабушки был таким же, как и все остальные. Маленький, с двориком, в котором стояли огромные глиняные горшки для кимчи. Низкая деревянная дверь открылась со скрипом. Внутри было прохладно и пахло травами и деревом.
– Разувайся, – скомандовала бабушка.
Ха-Ныль сняла свои кеды и ступила на гладкий, прохладный деревянный пол. Обстановка была до аскетизма простой. Низкий столик в главной комнате, несколько подушек для сидения, бумажные ширмы вместо дверей. Никаких диванов, никаких плазменных панелей.
– Хальмони, – начала Ха-Ныль, собравшись с духом. Это был самый главный, самый животрепещущий вопрос. – А какой у вас пароль от Wi-Fi?
Бабушка, которая уже возилась у кухонного очага, замерла и медленно повернулась. Она посмотрела на Ха-Ныль так, будто та спросила, где здесь припаркован её личный космический корабль. В её взгляде не было злости, лишь чистое, беспримесное недоумение.
– От чего пароль?
И в этот момент Ха-Ныль всё поняла. Не просто поняла – она ощутила это каждой клеткой своего изнеженного городского тела. Интернета здесь не было. Вообще.
– Вот твоя комната, – сказала бабушка, махнув рукой в сторону раздвижной двери. – Располагайся. Через десять минут обедать.
Комната была крошечной. Кроме небольшого встроенного шкафа и низкого комода, в ней не было ничего. На полу лежал тонкий матрас-йо, застеленный простым хлопковым бельём. Единственное окно выходило прямо на рисовые поля. На эти ненавистные, бесконечные, зелёные поля.
Ха-Ныль бросила свою сумку на пол и рухнула на матрас. Она достала из кармана пустой чехол от телефона – розовый, с блестящими ушками кошки. Привычным движением она сжала его в руке, как утопающий хватается за соломинку.
Тишина. Только назойливый гул мухи, бьющейся о стекло, и далёкий, монотонный стрекот цикад. Она подошла к окну. Солнце стояло высоко, заливая поля слепящим светом. Зелень была такой яркой, что резало глаза. Казалось, эти поля простираются до самого края земли, и за ними нет ничего. Ни Сеула, ни друзей, ни её прошлой жизни. Только эта зелёная, удушающая пустота.
Приговор вступил в силу. Её ссылка началась.
Глава 3: Первый рассвет, первая пытка
Сон Ха-Ныль был чёрным и вязким, как разлитые чернила, – короткий сон без сновидений, в который она провалилась от полного эмоционального истощения. В этом сне не было ни неоновых огней Сеула, ни лайков, ни разочарованных лиц родителей. Была лишь спасительная пустота. И из этой пустоты её вырвал не будильник с модной K-pop мелодией, а звук, резкий и неумолимый, как удар бамбуковой палки.
– Ирона! Пора вставать!
Голос Хальмони был сухим и лишённым всякой сентиментальности. Он пронзил тишину комнаты, заставив Ха-Ныль вздрогнуть. Она открыла глаза. Сквозь тонкую бумагу сёдзи, заменявшую стеклянное окно, пробивался бледный, призрачный свет. Ещё даже не рассвело по-настоящему.
– Пять минут… – пробормотала она в подушку, пахнущую солнцем и травами. Это была её стандартная утренняя мантра, после которой обычно следовало ещё полчаса блаженной дрёмы.
Но здесь правила были другими. Дверь-ширма с резким шорохом отъехала в сторону, и в комнату хлынул поток холодного утреннего воздуха вместе с силуэтом бабушки.
– У полей нет пяти минут, – отрезала Хальмони. – Солнце ждать не будет. Одевайся.
Ха-Ныль села на матрасе, чувствуя себя разбитой. Всё тело болело от неудобной постели и долгой поездки. Она посмотрела на старый настенный календарь с изображением горного храма. На нём висели маленькие аналоговые часы. Стрелки показывали пять утра. Пять! В Сеуле в это время она только ложилась спать после ночных посиделок с подругами. Это было не утро. Это была глубокая, оскорбительная ночь.
– Во что… одеваться? – спросила она, понимая всю абсурдность своего гардероба, набитого брендовыми футболками и дизайнерскими джинсами, здесь, на краю света.
Бабушка молча указала на аккуратно сложенную стопку одежды на комоде. Ха-Ныль подошла и с ужасом уставилась на свой "рабочий костюм". Это были широкие, бесформенные штаны из грубой хлопковой ткани, выцветшие от бесчисленных стирок до неопределённого серо-синего цвета. К ним прилагалась рубашка с длинным рукавом такой же сомнительной расцветки и пара толстых резиновых сапог, которые выглядели так, будто пережили Корейскую войну. Венцом ансамбля была широкополая соломенная шляпа, похожая на ту, что носят фермеры в исторических дорамах.
– Это… обязательно? – с надеждой спросила Ха-Ныль.
– Если не хочешь, чтобы солнце сожгло твою городскую кожу, а пиявки поужинали твоими нежными лодыжками, – да, обязательно, – без тени улыбки ответила Хальмони и вышла.
Смирившись, Ха-Ныль начала натягивать на себя этот кошмар. Ткань была жёсткой и неприятно шуршала. Штаны висели мешком, а сапоги оказались на два размера больше и хлюпали при каждом шаге. Она посмотрела на своё отражение в тусклом зеркальце на комоде. Из него на неё смотрело пугало. Нелепое, жалкое существо, не имеющее ничего общего с иконой стиля @Sky_Is_The_Limit. Она с отвращением нахлобучила шляпу. Последний гвоздь в гроб её самооценки.
На кухне её ждал завтрак: миска риса, немного кимчи и горячий ячменный чай. Ха-Ныль съела пару ложек без всякого аппетита. Бабушка же ела быстро и сосредоточенно, как солдат перед боем.
– Поела? – спросила она, хотя ответ был очевиден. – Бери.
Она протянула Ха-Ныль пару грубых рабочих перчаток и небольшой серп странной изогнутой формы. Холодная сталь неприятно легла в ладонь. Это было по-настоящему. Это не было игрой или наказанием на словах. Это было её новое утро.
Дорога к полю заняла всего несколько минут. Они шли по узкой тропинке вдоль оросительного канала. Утренняя роса висела на траве алмазной пылью. Воздух был чистым до головокружения и наполнен тысячей незнакомых запахов. Ха-Ныль старалась не дышать. Ей казалось, что каждый вдох наполняет её лёгкие этой чуждой, деревенской жизнью. Её огромные сапоги то и дело застревали в грязи, и она едва поспевала за бабушкой, которая шла лёгкой, пружинистой походкой, словно всю жизнь только и делала, что ходила по этим тропам.
И вот они остановились. Перед ней расстилался прямоугольник затопленной земли, из которой ровными рядами торчали нежно-зелёные ростки риса. Вода была мутной, почти чёрной, её поверхность подёрнута рябью от лёгкого ветерка.
– Вот, – сказала Хальмони, указывая на сорняки, которые росли между аккуратными рядами риса. – Их нужно вырывать. С корнем. Вот так.
Она без малейшего колебания шагнула в воду. Сапоги с чавканьем погрузились в грязь. Бабушка наклонилась, её пальцы быстро и ловко нырнули под воду, ухватили сорняк у самого основания и выдернули его вместе с длинным, цепким корнем. Она бросила его на край дамбы. Движение было отточенным, почти медитативным.
– Поняла?
Ха-Ныль кивнула, хотя ничего не поняла. Как можно было отличить эти зелёные стебли от других зелёных стеблей? Для неё всё это было просто травой. Она глубоко вздохнула, зажмурилась и сделала шаг.
Холод. Ледяной, пробирающий до костей холод мгновенно пронзил резину сапог. А за ним последовало другое ощущение – вязкое, засасывающее. Грязь. Она была живой. Она облепила её сапоги, потянула вниз, пытаясь поглотить. Ха-Ныль вскрикнула и едва не потеряла равновесие.
– Не стой как цапля, – донёсся голос бабушки. – Работай.
Сгорая от стыда, Ха-Ныль неуклюже присела на корточки, стараясь удержать равновесие. Она опустила руку в перчатке в воду. Сквозь ткань она почувствовала ледяную жижу и скользкие стебли. Она наугад ухватила какой-то пучок травы и потянула. Он не поддавался. Она потянула сильнее, упираясь ногами в дно. Пучок вырвался с громким чавканьем, обдав её лицо веером грязных брызг. В руке у неё был жалкий клочок травы с обрывком корня.
Она посмотрела на бабушку. Та уже очистила целый ряд, двигаясь с методичной скоростью машины. Ха-Ныль снова опустила руку в воду. Спина, непривычная даже к малейшей нагрузке, уже начала ныть. Солнце, поднимаясь над горизонтом, перестало быть нежным и начало припекать. Шляпа спасала лицо, но шея и плечи уже горели.
Она работала, как ей казалось, целую вечность. Мышцы свело от напряжения. Пальцы в перчатках онемели от холодной воды. Она вырвала, как ей казалось, сотню сорняков, но, оглянувшись, увидела, что едва продвинулась на пару метров. А бабушка уже заканчивала третий ряд.
Унижение было почти физически ощутимым. Она, звезда соцсетей, законодательница мод в своей школе, не могла справиться с какой-то травой. Это было абсурдно. Это было несправедливо. В глазах защипало от слёз обиды и бессилия. Она сердито моргнула, пытаясь их сдержать, и в этот момент её нога поехала по скользкому дну.
Мир накренился. Она взмахнула руками, пытаясь ухватиться за воздух, но вместо этого её тело, потеряв всякую координацию, с громким плеском рухнуло назад, в объятия рисового поля.
Удар был мягким, но унизительным. Мутная, холодная вода хлынула за шиворот, в сапоги, пропитала одежду. Она села, отплёвываясь и пытаясь убрать с лица прилипшие водоросли. Грязь была везде: в волосах, в ушах, под ногтями. Она посмотрела на свои руки – они были покрыты толстым слоем чёрной, вонючей жижи.
Она подняла глаза на бабушку. Та стояла, выпрямившись, и смотрела на неё. В её взгляде не было ни жалости, ни смеха. Лишь долгий, тяжёлый, оценивающий взгляд.
– Говорят, деревенская грязь для кожи полезна, – наконец произнесла она и, не сказав больше ни слова, вернулась к своей работе.
Это было хуже, чем крик. Хуже, чем насмешка. Это было полное, абсолютное безразличие к её трагедии. Слёзы, которые она так старательно сдерживала, хлынули наружу, смешиваясь с грязью на её щеках. Она сидела посреди этого бесконечного зелёного поля, мокрая, грязная, жалкая, и рыдала. Рыдала от унижения, от бессилия, от ненависти к этому месту, к этой работе, к своей собственной нелепой жизни.
Ей казалось, что прошёл целый день, но когда бабушка наконец сказала: «Хватит. Пора завтракать», солнце едва поднялось над верхушками деревьев. Ха-Ныль, шатаясь, выбралась на сухую землю. Каждый мускул в её теле кричал от боли. Она сняла шляпу и посмотрела на своё отражение в спокойной воде оросительного канала.
Из воды на неё смотрело чудовище. Заплаканное, перепачканное грязью лицо. Волосы, слипшиеся в сосульки. И глаза – пустые, полные такого отчаяния, какого она не испытывала никогда в жизни.
Первый рассвет в деревне обернулся её личной пыткой. И впереди было ещё девяносто два таких рассвета.
Глава 4: Звук барабанов
После унизительного крещения в грязи и последующего завтрака, который Ха-Ныль проглотила молча, сгорая от стыда под спокойным взглядом бабушки, её оставили в покое. Это "милосердие" оказалось пыткой, куда более изощрённой, чем прополка сорняков. Тишина. В Сеуле тишины не существовало. Там всегда был гул – гул машин, гул толпы, гул музыки из витрин магазинов, гул уведомлений в телефоне. Этот звуковой кокон был привычной средой обитания, он убаюкивал и доказывал, что ты – часть чего-то большого, живого, вечно движущегося.
Здесь же тишина была плотной, тяжёлой, как влажное одеяло. Она давила на уши. Единственными звуками были ленивое кудахтанье кур во дворе, далёкий плач цикад, похожий на треск высоковольтных проводов, и оглушительное тиканье старых часов в главной комнате. Тик-так. Тик-так. Секунды не летели, они ползли, отмеряя вечность её ссылки.
Сначала Ха-Ныль пыталась занять себя. Она перебрала свой идеальный гардероб, с тоской поглаживая шёлковую блузку, которая здесь выглядела так же неуместно, как бриллиантовое колье на пугале. Она сделала десять разных причёсок, глядя на своё отражение в крошечном тусклом зеркале. Она даже попыталась почитать одну из старых книг бабушки, но иероглифы на пожелтевших страницах плясали перед глазами, а сюжет о добродетели и сыновьем долге вызывал лишь глухое раздражение.
К полудню беспокойство переросло в отчаяние. Она была отрезана от мира. Что сейчас делают Джи-А и Мин-Джу? Сидят в новом кафе? Обсуждают её позор? Она представила сотни сообщений в общем чате, на которые она не может ответить, тысячи постов в ленте, которые она не может увидеть. Её цифровая жизнь, вся её социальная вселенная, продолжала существовать без неё. Она стала призраком, невидимкой.
Она начала мерить шагами маленькую комнату, чувствуя, как стены сдвигаются, угрожая раздавить её. Скука была не просто отсутствием дела. Это было физическое ощущение, зуд под кожей, тревога, грозившая перерасти в панику. Ей нужно было что-то. Любой звук, любое движение, что угодно, лишь бы разбить эту оглушающую, сводящую с ума тишину.
И тут она его услышала.
Сначала это был низкий, глухой удар. Бум. Он пришёл будто из самой земли, заставив пол едва заметно вибрировать. Ха-Ныль замерла. Бум… бум-бум… Ритм. Потом к нему присоединился другой звук – высокий, резкий, металлический лязг, похожий на удар молнии. А затем – дробный, сложный перестук, быстрый и запутанный, как речь на незнакомом языке. Звуки сплетались, спорили, догоняли друг друга, создавая мощную, первобытную полифонию.
Это не было похоже ни на что, что она слышала раньше. В этом не было слащавой мелодичности K-pop или выверенного бита клубной музыки. В этом была дикая, необузданная энергия. Сила. Звук шёл откуда-то из-за дома, со стороны старых построек.
Ведомая любопытством, которое было сильнее её апатии, Ха-Ныль на цыпочках вышла из дома. Бабушка дремала на веранде, укрывшись газетой. Ха-Ныль обогнула дом и пошла по тропинке в сторону большого, обветшалого сарая с массивными деревянными воротами. Звук становился громче, проникая, казалось, прямо в грудную клетку, заставляя сердце биться в такт этому неистовому ритму.
Одна из створок ворот была приоткрыта. Ха-Ныль заглянула в тёмную щель.
Внутри сарай был огромен. Высокий потолок терялся во мраке, а сквозь щели в крыше пробивались косые столпы солнечного света, в которых, как мириады звёзд, плясали пылинки. Вдоль стен громоздилось старое сельскохозяйственное оборудование – ржавые плуги, деревянные колёса, связки сушёных трав. А в центре этого храма деревенского быта, в самом ярком солнечном луче, был он.
Джи-Хун.
Но это был не тот угрюмый парень, которого она видела вчера. Это был кто-то совершенно другой. Он сидел на низкой скамейке, окружённый инструментами. В его руках были палочки, которые мелькали с невероятной скоростью, ударяя то по большому подвешенному гонгу, то по барабану в форме песочных часов, стоявшему перед ним.
Он был полностью поглощён музыкой. Его тело было напряжено, как натянутая тетива. Футболка промокла от пота и прилипла к спине, обрисовывая рельеф мышц, о существовании которых Ха-Ныль и не подозревала. Капли пота блестели на его висках и стекали по шее. Глаза были закрыты, губы плотно сжаты. Он не просто играл. Он сражался. Он спорил. Он кричал и плакал с помощью этих звуков. В его движениях была не только отточенная техника, но и ярость, и тоска, и какая-то отчаянная, рвущаяся наружу радость.
Ха-Ныль замерла, боясь дышать. Она, видевшая выступления самых знаменитых айдолов с расстояния вытянутой руки, никогда не сталкивалась с такой первобытной, искренней энергией. На сцене звёзды были безупречны, их движения – результат сотен часов репетиций, их эмоции – часть продуманного образа. Здесь же не было ни образа, ни сцены. Был только парень в старом сарае, изливающий свою душу через грохот барабанов и звон металла. И это было… завораживающе. В этом было больше настоящего, чем во всех её выверенных постах и отфильтрованных фотографиях.
Ритм нарастал, становясь всё быстрее и сложнее, достигая крещендо. Джи-Хун вскинул голову, его тело содрогнулось от последнего, оглушительного удара, который, казалось, потряс сам воздух. Звук повис в пыльном пространстве сарая и медленно растаял, уступив место внезапной, гулкой тишине.
Несколько секунд он сидел неподвижно, тяжело дыша. Потом медленно открыл глаза. И его взгляд упёрся прямо в щель в воротах, где стояла она.
На мгновение Ха-Ныль увидела его лицо таким, каким оно было во время игры – открытым, уязвимым, полным огня. Но это длилось лишь долю секунды. Как только он осознал её присутствие, его лицо окаменело. Страсть угасла, сменившись холодной, непроницаемой маской. Он встал, провёл рукой по мокрым волосам и медленно пошёл к выходу.
Ха-Ныль отпрянула от ворот, чувствуя себя так, будто её застали за подглядыванием. Сердце колотилось. Она не знала, что сказать. И, как всегда, когда она не знала, что сказать, на помощь пришёл её острый язык – её щит и её оружие.
Он вышел из сарая, щурясь от яркого дневного света. Он был выше, чем ей показалось вчера, и теперь, без своей обычной угрюмой сутулости, казался почти внушительным. Он молча смотрел на неё, ожидая.
– Что, на дискотеку готовишься? – слова вылетели сами собой. Сарказм был её родным языком. Это была попытка вернуть всё на свои места: она – остроумная девушка из Сеула, он – непонятный парень из деревни, стучащий в какие-то кастрюли.
Джи-Хун не улыбнулся. Его взгляд стал ещё холоднее, если это вообще было возможно. Он провёл тыльной стороной ладони по лбу, стирая пот. В его жесте было столько усталого презрения, что Ха-Ныль почувствовала себя полной идиоткой.
– Городским не понять, – тихо, но отчётливо произнёс он.
В этих трёх словах было всё: и гордость, и обида, и стена, которую он мгновенно выстроил между ними. Он не стал ничего объяснять, не стал спорить. Он просто констатировал факт. Она – чужая. Она не поймёт. И ему не нужно её понимание.
Не сказав больше ни слова, он развернулся и пошёл обратно в сарай, оставив её одну под палящим солнцем. Деревянные ворота за ним с глухим стуком закрылись.
Ха-Ныль осталась стоять на тропинке, чувствуя, как горят щеки. Её едкое замечание, которое должно было уколоть его, отскочило, как горох от стены, и ударило по ней самой. Она почувствовала себя не просто чужой – она почувствовала себя невежественной.
Она побрела обратно к дому бабушки, и в ушах у неё всё ещё стоял грохот барабанов. Теперь к её тоске и скуке примешалось новое, незнакомое чувство. Раздражение на этого парня, на его непробиваемую гордость. И ещё что-то… что-то, в чём она боялась себе признаться. Невольное уважение.
Глава 5: Язык еды
Послеполуденное солнце красило рисовые поля в расплавленное золото. Ха-Ныль сидела на мару, узкой деревянной веранде, опоясывающей дом бабушки, и безучастно наблюдала за тем, как удлиняются тени. Боль в мышцах после утренней "экзекуции" превратилась из острой в тупую, ноющую, постоянную. Каждый мускул её тела, привыкший лишь к лёгкой нагрузке во время танцевальных челленджей, протестовал.
Она чувствовала себя выжатой и пустой. Скука, её главный враг, снова начала плести свою липкую паутину. Но теперь к ней примешивалось эхо того необузданного, дикого ритма из сарая. Образ Джи-Хуна – не угрюмого фермера, а одержимого своей музыкой артиста – не выходил из головы. Это раздражало. Он не вписывался в простую картину мира, которую она для него нарисовала. Он усложнял её праведный гнев, делал её страдания менее однозначными.
Из кухни донеслись звуки. Не громкие, а размеренные, успокаивающие. Лёгкий стук ножа о деревянную доску, тихое шипение масла на сковороде, бульканье чего-то в большой кастрюле. А потом пришёл запах.
Это был не тот резкий, искусственный аромат из сеульских ресторанчиков, где всё пахнет одинаково – жжёным маслом и соевым соусом. Этот запах был сложным, многослойным. Сначала – глубокий, ореховый аромат поджариваемого кунжутного масла. Затем к нему присоединился острый, дразнящий запах чеснока и зелёного лука. И под всем этим – тёплый, землистый дух готовящегося риса, фундаментальный аромат корейского дома.
Ха-Ныль, сама того не заметив, поднялась и подошла к открытой двери кухни.
Бабушка стояла к ней спиной. Её фигура в простом домашнем платье казалась маленькой, но каждое её движение было наполнено уверенностью и смыслом. Здесь не было суеты. Она не сверялась с рецептом на планшете, не отмеряла ингредиенты на электронных весах. Её руки, покрытые сетью морщин и тёмных пятнышек, двигались с врождённой грацией. Она знала. Она просто знала, сколько нужно соли, какая щепотка перца сделает вкус идеальным, в какой момент нужно убавить огонь.
На низком кухонном столе, как палитра художника, были разложены ингредиенты. Ярко-зелёная пекинская капуста, пучок изумрудного шпината, оранжевая морковь, нарезанная тончайшей соломкой, белые ростки сои. Всё это выглядело невероятно живым, свежим, только что сорванным с грядки. Ха-Ныль вспомнила вакуумные упаковки с идеально откалиброванными овощами в супермаркетах Сеула. Они выглядели похоже, но в них не было этой… жизни.
Хальмони ловко бланшировала шпинат, потом отжимала его и смешивала с кунжутным маслом, солью и толчёным чесноком. Простые движения, простой рецепт, но в воздухе витал аромат, от которого у Ха-Ныль предательски заурчало в животе. Она поняла, что по-настоящему голодна. Не от скуки, как в городе, а от физического труда и чистого воздуха.
– Подглядываешь? – не оборачиваясь, спросила бабушка. – Если есть нечего делать, помоги накрыть на стол.
Ха-Ныль вздрогнула, пойманная с поличным. Она молча взяла низкий складной столик, который стоял у стены, и вынесла его в главную комнату, поставив в центре. Затем она принесла подушки для сидения. Всё это было непривычно. Сидеть на полу, есть за низким столом.
Когда она вернулась на кухню, бабушка протянула ей несколько маленьких тарелочек – панчханов.
– Расставь.
Ха-Ныль брала их одну за другой. Вот тот самый шпинат, сигымчхи-намуль. Вот хрустящие ростки сои, кханг-намуль. Острая редька, ккактуги. И, конечно, несколько видов кимчи. В центре стола она поставила миску с дымящимся рисом и большую общую тарелку с твенджан ччигэ – густым, ароматным супом из соевой пасты с тофу и овощами. Стол был простым, без изысков, но он был полон цвета и аромата. Он выглядел… по-настоящему.
Именно в этот момент в дверь постучали.
– Входите, – крикнула Хальмони с кухни.
Дверь открылась, и на пороге появился Джи-Хун. Но он был не один. Рядом с ним стоял высокий, широкоплечий мужчина с таким же строгим лицом и высеченными из камня скулами. Его руки были огромными, мозолистыми, а взгляд – тяжёлым, изучающим. Это был его отец. А за ними пряталась маленькая девочка лет семи, с двумя смешными хвостиками и любопытными, как у мышонка, глазами.
– О, вы уже здесь, – сказала бабушка, выходя из кухни с последней тарелкой. – Проходите, садитесь. Ха-Ныль, это господин Пак и его младшая дочь, Бо-Ра. А это моя внучка из города.
Господин Пак коротко кивнул Ха-Ныль, его взгляд скользнул по ней без особого интереса. Джи-Хун избегал смотреть на неё, его лицо снова было непроницаемой маской. Лишь маленькая Бо-Ра с нескрываемым любопытством разглядывала "городскую штучку", её волосы, одежду, даже кроссовки, стоявшие у порога.
Они расселись вокруг стола. Мужчины – с одной стороны, Хальмони и Бо-Ра – с другой. Ха-Ныль опустилась на подушку рядом с бабушкой, чувствуя себя невероятно скованно. Атмосфера была совершенно не похожа на шумные ужины с подругами. Здесь царила тихая, уважительная церемония. Бабушка налила господину Паку немного соджу в маленькую рюмку, тот принял её двумя руками, поклонившись.
Они начали есть. И снова Ха-Ныль поразила тишина. Не было болтовни, не было смеха. Лишь тихое постукивание палочек о миски и звуки еды. Но эта тишина не была неловкой. Она была… содержательной. Люди были сосредоточены на еде, на процессе, на вкусе. Это было почти священнодействие.
Ха-Ныль осторожно взяла палочками немного риса, потом попробовала шпинат. И замерла. Вкус был простым, но таким чистым, таким ярким, что она невольно закрыла глаза. Свежесть зелени, ореховая нотка кунжутного масла, острота чеснока – всё это сплеталось в идеальную гармонию. Она попробовала суп. Глубокий, насыщенный, согревающий вкус твенджана был словно объятие. Это была еда, которая не просто насыщала, она утешала.
Она подняла глаза и посмотрела на Джи-Хуна. Он сидел напротив. И она увидела то, чего не замечала раньше. То, как он аккуратно положил лучший кусочек тофу в миску своей сестрёнки. То, как он с едва заметным уважением слушал разговор отца и Хальмони о погоде и видах на урожай. То, как он, поймав любопытный взгляд Бо-Ра на Ха-Ныль, едва заметно улыбнулся уголком губ и что-то тихо шепнул сестре, отчего та хихикнула, прикрыв рот ладошкой.
Её образ "деревенского грубияна" трещал по швам. Парень в сарае был огнём, страстью, бурей. Парень за столом был сыном, братом. Заботливым. Ответственным. Он был частью этой общины, этой семьи, этого мира, который она так поспешно отвергла. Он был не просто отдельным человеком, он был звеном в цепи поколений, традиций, обязанностей.
– Ты совсем не ешь, – мягко сказала Хальмони, подкладывая ей в миску кусочек кимчи. – В городе вас совсем не кормят?
Ха-Ныль покраснела и торопливо взяла палочки. Она начала есть, по-настоящему, с аппетитом. И с каждым кусочком она чувствовала, как ледяная броня обиды и одиночества, которую она носила весь день, начинает давать трещины. Эта простая, честная еда, приготовленная с любовью, была понятнее любых слов. Это был язык, который она, оказывается, знала, но давно забыла. Язык дома. Язык заботы.
Она снова посмотрела на Джи-Хуна. В этот раз их взгляды встретились. Всего на секунду. В его глазах больше не было той холодной насмешки, что в сарае. Было лишь спокойное, серьёзное любопытство. Он тоже её изучал. Он тоже пытался понять, кто она такая – эта странная, нелепая девушка из другого мира, которая плакала в грязи, а теперь сидит за одним столом с его семьёй.
Впервые с момента приезда Ха-Ныль почувствовала что-то кроме гнева и отчаяния. Это было крошечное, едва заметное семечко тепла в груди. Она всё ещё была в ссылке. Она всё ещё была одна. Но, может быть, её дорога вела не совсем в никуда.
Глава 6: Холм одиночества
После ужина, оставившего после себя неожиданное тепло и ещё более неожиданную растерянность, Ха-Ныль чувствовала, что задыхается. Вежливая тишина, заботливые жесты Джи-Хуна по отношению к сестре, уважение в глазах его отца – всё это рушило её простую, удобную картину мира, где она была несправедливо обиженной жертвой. Теперь всё усложнилось. И от этой сложности ей захотелось сбежать.
Ей нужен был глоток её собственного, привычного воздуха. Глоток цифрового мира.
Она вспомнила слова бабушки, брошенные вскользь утром: «Сигнал здесь только для птиц, да и то на самом высоком холме». Это была шутка, но в каждой шутке, как теперь понимала Ха-Ныль, была доля деревенской правды. Она дождалась, когда Хальмони уйдёт в огород поливать перцы, и выскользнула из дома, сунув в карман старый планшет бабушки, который та использовала для просмотра прогноза погоды. Это была её единственная ниточка, связывающая её с цивилизацией.
Холм был невысоким, но подъём по заросшей тропинке заставил её запыхаться. Здесь, вдали от полей, пахло по-другому – горьковатой полынью, нагретой сосновой хвоей и сухой землёй. Чем выше она поднималась, тем шире становился обзор. Вся деревня с её игрушечными домиками и изумрудными заплатками полей лежала как на ладони. Ха-Ныль едва взглянула на эту панораму. Её глаза были прикованы к экрану планшета, к маленькой иконке в углу.
Одна палочка. Неуверенная, мигающая. Потом – две. Две! Это была победа. Почти такая же сладкая, как тысяча лайков под удачным постом.
Она нашла большой плоский камень на самой вершине, нагретый за день солнцем, и села, скрестив ноги. Руки дрожали от нетерпения, когда она вводила пароль от своего секретного аккаунта. Сеть работала мучительно медленно. Каждая картинка, каждый пост прогружался целую вечность, появляясь на экране пиксель за пикселем, как проступающая фотография. Но это было неважно. Она была онлайн. Она снова была подключена к большому миру.
Лента новостей обрушилась на неё лавиной чужой, яркой жизни. Вот Джи-А постит селфи из нового модного бара в Итхэвоне. Вот Мин-Джу хвастается билетами на концерт популярной группы. Вот Со-Ён, та самая, которой она завидовала, выложила видео из своей шикарной квартиры с видом на реку Ханган. Их жизнь кипела, сверкала, переливалась всеми цветами радуги, пока она сидела здесь, в глуши, на тёплом камне, пахнущем пылью.
Она открыла их общий чат. Сотни сообщений. Они обсуждали её "ссылку" со смесью сочувствия и злорадства. "Бедняжка Ха-Ныль, её отправили картошку копать!" – писала одна. "Зато будет что в блог выложить, #фермерская_жизнь", – язвил кто-то другой. Джи-А и Мин-Джу вяло её защищали, но в их словах не было искренности. Ха-Ныль почувствовала, как внутри всё сжимается от холодной обиды. Её трагедия для них была лишь очередным развлечением, поводом для сплетен. Они не понимали. Они не могли понять.
Она попыталась написать ответ, но медленный интернет превращал каждое слово в испытание. Она хотела написать что-то едкое, остроумное, показать им, что она не сломлена. Но пальцы застыли над экраном. А что писать? Правду? О том, как она упала в грязь? О том, как плакала от унижения? О том, что её единственным развлечением за два дня стал грохот барабанов в старом сарае? Нет. Это было бы полным поражением.
Разочарование было горьким, как недозрелый хурма. Этот мир, к которому она так рвалась, вдруг показался ей плоским и фальшивым. Их радости, их проблемы – всё это казалось таким мелким, таким незначительным по сравнению с тем огромным, настоящим небом, что нависало над ней.
Она отложила планшет и подняла голову. И замерла.
Солнце уже коснулось края горизонта. Небо на западе превратилось в пылающий пожар. Облака окрасились в невероятные оттенки – от нежно-розового до огненно-оранжевого и глубокого, кроваво-красного. И весь этот свет отражался в сотнях маленьких зеркал рисовых полей у подножия холма. Они больше не были просто зелёными заплатками. Они превратились в мозаику из расплавленного золота, багрянца и индиго. Каждый чек был осколком заката, пойманным и удержанным на земле. Ветер стих, и в этой огненной воде отражались неподвижные силуэты гор на горизонте.
Красота была такой пронзительной, такой ошеломляющей, что у Ха-Ныль перехватило дыхание. Ни один фильтр, ни одна обработка не смогли бы передать этого. Это было настоящее. И она, Ким Ха-Ныль, сидела в самом центре этого великолепия, одна.
– Красиво, правда?
Голос раздался совсем рядом, заставив её вздрогнуть. Она резко обернулась.
На вершине холма, в нескольких шагах от неё, стоял Джи-Хун. Он стоял, засунув руки в карманы рабочих штанов, и смотрел не на неё, а на закат. В лучах уходящего солнца его резкие черты смягчились, а в тёмных глазах отражалось то же пламя, что и в небе. Он не выглядел ни злым, ни насмешливым. Просто спокойным.
– Что ты здесь делаешь? – спросила она, скорее от неожиданности, чем от раздражения. Её голос прозвучал глухо.
– То же, что и ты, наверное, – он перевёл на неё взгляд. – Пытаюсь сбежать.
Ха-Ныль смутилась, прикрыв собой планшет, словно это было что-то постыдное.
– Я не сбегаю. Я… пыталась позвонить. Связи нигде нет.
– Я знаю, – он кивнул. – Только здесь. И то не всегда.
Он подошёл и сел на соседний камень, на безопасном расстоянии. Некоторое время они молчали, глядя, как солнце медленно тонет за горами. Тишина больше не была гнетущей. Она была наполнена общим переживанием этого момента.
– Ты часто сюда приходишь? – наконец спросила Ха-Ныль, чтобы нарушить молчание.
– Почти каждый вечер, – ответил он, не отрывая взгляда от горизонта. – Это единственное место, где достаточно тихо.
– Тихо? – усмехнулась она. – По-моему, здесь везде слишком тихо.
– Ты не слушаешь, – просто сказал он. – Ты ждёшь знакомых звуков. А здесь нужно слушать другие. Ветер в траве. Шелест бамбука. Как вода перетекает с одного поля на другое. У каждого звука своя мелодия.
Ха-Ныль замолчала. Она и правда не слушала. Она ждала уведомлений, рингтонов, гула города.
– Так вот почему ты… – она осеклась, не зная, как закончить фразу. – …так громко стучишь в сарае? Слушаешь мелодии?
Он повернулся к ней. В его глазах промелькнуло что-то похожее на удивление. Он, кажется, ожидал очередной насмешки.
– Я не просто стучу, – сказал он, и в его голосе впервые прозвучали нотки защиты, а не агрессии. – Я пытаюсь их поймать. Сохранить.
– Сохранить? Зачем?
Он помедлил, словно решая, стоит ли ей доверять. Потом вздохнул.
– Я хочу стать звукорежиссёром. Не просто играть традиционную музыку, как мой отец и дед. Я хочу её записывать. Смешивать. Создавать что-то новое. Мелодию, в которой будет и старый ритм барабана, и звук ветра с этого холма, и даже стрекот цикад. Мелодию этого места.
Он говорил тихо, почти шёпотом, но в его словах было столько страсти, столько затаённой мечты, что Ха-Ныль слушала, затаив дыхание. Звукорежиссёр. В Сеуле это была модная, престижная профессия. Мир продюсерских студий, сложных микшерных пультов, создания саундтреков к фильмам и дорамам. Это было так далеко от этого пыльного сарая и старых барабанов. И в то же время так близко.
– Но… – она пыталась совместить два образа в своей голове. – Разве твой отец… он хочет, чтобы ты продолжал традицию?
Джи-Хун горько усмехнулся.
– Мой отец считает, что всё это – городская блажь. Для него есть только один путь: работать на земле и играть на праздниках, как это делали все Паки до него. Он не понимает, что можно любить эту музыку и хотеть для неё чего-то большего. Что можно уважать прошлое, но мечтать о будущем.
Он замолчал, снова уставившись на догорающий горизонт. Ха-Ныль смотрела на его профиль, очерченный последними лучами солнца. И впервые она увидела не просто "деревенского парня". Она увидела человека, запертого в клетке чужих ожиданий, точно так же, как и она сама была заперта в клетке своей "идеальной" онлайн-жизни. Их клетки были разными, но прутья были сделаны из одного и того же материала – из страха разочаровать, из желания быть понятым.
– Я… – начала она, и сама удивилась, насколько искренне это прозвучало. – Я, кажется, понимаю.
Джи-Хун посмотрел на неё. В его глазах больше не было ни холода, ни презрения. Лишь тихое, вопросительное удивление. В этот момент, на вершине этого одинокого холма, посреди умирающего дня, они перестали быть "городской фифой" и "деревенским мужланом". Они были просто двумя подростками, мечтающими о чём-то большем, чем им предлагал их мир.
И это был их первый настоящий разговор. Без сарказма, без защиты, без масок. Просто два человека, смотрящие на один и тот же закат.
Глава 7: Призрак отменённого праздника
Дни начали сливаться в один длинный, тягучий сон, сотканный из зелени, земли и поющей тишины. Разговор на холме не стал волшебной палочкой, которая превратила бы ссылку Ха-Ныль в сказку. Работа на полях по-прежнему была изнурительной, спина болела, а руки, несмотря на перчатки, покрылись мелкими царапинами. Но что-то неуловимо изменилось. Словно кто-то повернул крошечный винтик в механизме её восприятия.
Теперь, стоя по колено в воде, она видела не просто грязь и сорняки. Она замечала, как в мутной воде отражаются проплывающие облака, как крошечные рыбки, похожие на запятые, шмыгают между стеблями риса. Она начала различать голоса птиц. Одна пела коротко и заливисто, другая – протяжно и меланхолично. Она поняла, о чём говорил Джи-Хун. Здесь не было тишины. Здесь была музыка, просто она звучала на другой частоте.
Её отношения с бабушкой тоже приобрели новый оттенок. Хальмони по-прежнему была скупа на похвалу, но её молчание стало другим. Иногда, когда Ха-Ныль, уставшая, но довольная, показывала ей очищенный рядок, бабушка молча кивала, и в уголке её губ появлялась едва заметная, почти невидимая складка, которую можно было с натяжкой принять за улыбку. Вечерами они вместе готовили ужин. Ха-Ныль научилась отличать пасту твенджан от кочхучжан, резать овощи ровной соломкой и промывать рис до тех пор, пока вода не станет кристально чистой. Эти маленькие ритуалы заземляли её, привязывали к этому месту невидимыми нитями.
Она больше не видела Джи-Хуна. После того разговора на холме он словно испарился. Музыка из сарая тоже стихла. Сначала Ха-Ныль чувствовала облегчение – не нужно было снова сталкиваться с его колючим взглядом. Но потом, к своему удивлению, она поймала себя на том, что прислушивается, ждёт этого знакомого грохота барабанов. Его отсутствие делало тишину снова пустой.
Однажды вечером, когда они с Хальмони сидели на веранде и чистили чеснок для кимчи, Ха-Ныль решилась задать вопрос, который вертелся у неё на языке.
– Хальмони, здесь… всегда так? – она неопределённо махнула рукой в сторону тихой, засыпающей деревни.
– Так – это как? – не поднимая головы, спросила бабушка, её нож ловко срезал твёрдые донышки зубчиков.
– Ну… тихо. Спокойно. Ничего не происходит.
Бабушка на мгновение замерла. Она положила нож и посмотрела куда-то вдаль, за поля, туда, где небо уже начало темнеть, приобретая фиолетовый оттенок. В её глазах промелькнула тень, которую Ха-Ныль никогда раньше не видела. Смесь грусти и ностальгии.
– Раньше происходило, – тихо сказала она. – Раньше в это время вся деревня гудела, как растревоженный улей. Готовились.
– Готовились? К чему?
– К фестивалю, – выдохнула Хальмони, и само это слово прозвучало как что-то волшебное, забытое. – Фестиваль урожая "Танопхун". "Праздник кленовых листьев и обильного риса". Он всегда проходил в конце лета. Это был главный день в году.
Она говорила, и перед глазами Ха-Ныль начали возникать картины. Она рассказывала о том, как женщины всей деревней собирались вместе, чтобы готовить тток – рисовые пирожки всех форм и цветов, и жарить чон – ароматные блинчики с овощами и морепродуктами. Как мужчины украшали главную площадь бумажными фонарями, которые ночью светились, словно пойманные звёзды. Как дети, наряженные в яркие, шёлковые ханбоки, бегали по улицам с самодельными воздушными змеями.
– А самое главное, – продолжала бабушка, и её глаза на миг заблестели, – была музыка. Со всей округи съезжались ансамбли самульнори. Они соревновались с утра до ночи. Звук барабанов был слышен за много километров. Говорили, что этот грохот отпугивает злых духов и обеспечивает хороший урожай на следующий год. Дед твой… – она запнулась, – …и отец Джи-Хуна всегда побеждали. Их ритмы были самыми сильными. Их музыка была сердцем нашего фестиваля.
Ха-Ныль слушала, затаив дыхание. Это было похоже на сказку.
– А почему… почему "раньше"? Разве в этом году его не будет?
Тень в глазах бабушки сгустилась.
– Кому его проводить, милая? Молодёжь вся в городах, как ты. Ищут лёгкой жизни. Старики уже не могут. Да и денег нет. Раньше нас поддерживала местная администрация, приезжали торговцы из города, туристы… А теперь… теперь все забыли про нас. Мы стали просто точкой на карте, которую объезжают по новому скоростному шоссе.
Она взяла зубчик чеснока и с силой раздавила его плоской стороной ножа. Движение было резким, полным сдерживаемого гнева.
– В прошлом году мы пытались… Собрали, что могли. Но пришло так мало людей… Едва окупили расходы. Староста сказал, что в этом году… скорее всего, фестиваля не будет. Впервые за сто лет.
Ха-Ныль почувствовала укол разочарования. Ей вдруг отчаянно захотелось увидеть это всё своими глазами. Увидеть фонари, услышать музыку, попробовать тот самый тток.
– Это… так грустно, – прошептала она.
– Грустно – это не то слово, – голос Хальмони стал твёрдым, как камень. – Это конец.
– Конец? Но это же просто праздник.
Бабушка посмотрела на неё долгим, тяжёлым взглядом.
– Ты городская, Ха-Ныль. Ты не понимаешь. Этот фестиваль – не просто танцы и еда. Это доказательство того, что мы ещё живы. Что наша деревня существует. Что наша земля чего-то стоит.
Она помолчала, собираясь с мыслями.
– Ты видела человека, который приезжал на чёрной машине несколько раз? – спросила она.
Ха-Ныль кивнула. Она видела элегантного мужчину в дорогом костюме, который ходил по краю полей и что-то измерял.
– Это представитель строительной компании из Сеула. Они хотят скупить наши земли. Построить здесь… – она с отвращением выплюнула слово, – …элитный гольф-клуб и коттеджный посёлок. Они предлагают хорошие деньги. Для многих стариков, чьи дети не хотят возвращаться, это большой соблазн.
– Но… вы же не продадите? – с тревогой спросила Ха-Ныль, глядя на поля, которые вдруг перестали быть просто местом её наказания.
– Я – нет. Эта земля – всё, что у меня есть. Семья Пак – тоже нет. Для них это не просто земля, это их история, их музыка. Но другие… они устали. Они видят, что деревня умирает. И отменённый фестиваль станет последним доказательством. Это будет значить, что у нас нет будущего. Что мы сдались. Тогда они уговорят остальных. И знаешь, что будет с теми, кто откажется? Они просто построят свой клуб вокруг наших домов. Мы окажемся на острове посреди зелёных газонов для богачей. Наши поля высохнут, потому что они заберут всю воду для своих полей. И нам всё равно придётся уйти. За бесценок.
Картина, нарисованная бабушкой, была страшной в своей реалистичности. Ха-Ныль представила себе это: дом Хальмони, сарай Джи-Хуна, окружённые идеально подстриженными лужайками, по которым ходят люди в белых одеждах. И тишина. Но уже не живая, природная тишина, а мёртвая, стерильная тишина роскоши.
– Так вот почему Джи-Хун… – прошептала она, и всё встало на свои места. Его одержимость, его ярость, его отчаяние. Он не просто играл музыку. Он боролся за свой дом. За свою семью. За всё, что он любил. А она… она посмеялась над этим. "На дискотеку готовишься?" Слова обожгли её изнутри.
Она встала и подошла к краю веранды. Вечерние сумерки сгущались. Поля уже не были золотыми, они наливались глубоким, бархатным синим цветом. Но теперь она видела их по-другому. Это была не просто земля. Это была чья-то жизнь. Чья-то мечта. Чьё-то прошлое и, возможно, уже несуществующее будущее.
И призрак отменённого праздника, невидимый и холодный, накрыл её своей тенью, заставив впервые почувствовать не только свою собственную боль, но и боль целой деревни, медленно исчезающей с карты.
Глава 8: Неожиданный союз
Ночь после рассказа бабушки была другой. Впервые с момента приезда Ха-Ныль не просто спала в деревне – она была здесь мыслями. Сон не приносил забвения. Она ворочалась на жёстком матрасе, и перед её закрытыми глазами проносились не картинки из её сеульской жизни, а образы, нарисованные словами Хальмони. Бумажные фонари, светящиеся в сумерках, как рой гигантских светлячков. Лица людей, сияющие от гордости и радости. И звук – сотни барабанов, бьющихся в едином ритме, сотрясающих землю, отгоняющих не просто злых духов, а нечто более страшное – забвение.
А потом перед глазами вставала другая картина: холодный блеск стекла и стали гольф-клуба, неестественная, стерильная зелень газонов, вытесняющая живую, хаотичную зелень рисовых полей. И тишина. Мёртвая, окончательная тишина, пришедшая на смену музыке.
Она чувствовала себя виноватой. Её собственная поверхностная жестокость, вылившаяся в один-единственный пост, стоила её отцу контракта. Но здесь, в Хадоме, на кону стояло нечто несоизмеримо большее. Целая деревня, целая история, целый мир мог исчезнуть – тихо, незаметно, стёртый с карты ради удобства и развлечения богатых горожан. Таких, как она.
Эта мысль была неприятной, колючей. Она заставляла её ёрзать на матрасе. В ней просыпалось что-то новое, незнакомое. Не просто скука или желание сбежать. А какое-то глухое, упрямое чувство… несправедливости. Это было неправильно. И впервые в жизни ей захотелось не просто пожаловаться или съязвить, а что-то сделать. Но что? Она не умела работать на полях. Она не умела играть на барабанах. Она не умела… ничего из того, что имело значение в этом мире.
Её взгляд упал на угол комнаты. Там, на низком комоде, тускло поблёскивал экран старенького планшета бабушки, подключённого к зарядному устройству. Он лежал там, как реликт из другой эпохи, из её эпохи.
Идея пришла не как вспышка молнии, а как медленно разгорающийся уголёк. Сначала она показалась ей абсурдной, смехотворной. Спасти деревню с помощью старого, медленного планшета? Но чем больше она думала, тем ярче разгорался этот уголёк.
Она не умеет сажать рис. Но она умеет создавать истории, которые заставляют людей хотеть чего-то. Она не умеет играть музыку. Но она знает, как сделать так, чтобы эту музыку услышали тысячи. Она не знает, как укрепить дамбу перед тайфуном, но она знает, как создать волну в социальных сетях. Это было то, что она умела. Это было её единственное оружие.
Впервые за три дня она почувствовала прилив знакомой энергии, азарта, который всегда охватывал её перед запуском нового "проекта". Это была отчаянная, почти безумная идея. Но в её нынешнем положении безумие казалось единственным разумным выходом.
Утром она проснулась с чётким планом действий. Она больше не была жертвой, плывущей по течению. Она была стратегом. И её стратегия требовала союзника. Самого важного и самого сложного.
Она нашла Джи-Хуна не в сарае. Он стоял у ограды их дома, методично и сосредоточенно чиня сломанную секцию забора. Он работал голыми руками, без перчаток, и Ха-Ныль засмотрелась на то, как ловко и уверенно его пальцы управляются с проволокой и старыми досками. Его руки были покрыты мелкими царапинами и мозолями – полная противоположность её собственным, которые она всегда берегла для идеальных фотографий с колечками и свежим маникюром. Он был воплощением этого места – настоящий, практичный, немного потрёпанный, но крепкий.
Он почувствовал её взгляд и поднял голову. Никакой враждебности. Лишь спокойное, выжидательное выражение. Он перестал работать и выпрямился, ожидая, что она скажет.
Ха-Ныль сглотнула. Репетировать речь в своей голове было одно, а произносить её перед ним – совсем другое.
– Я… я говорила с Хальмони, – начала она, её голос звучал тоньше, чем ей хотелось. – Про фестиваль.
Он молча кивнул, давая понять, что слушает.
– Это ужасно, – выпалила она. – То, что его могут отменить. И эта строительная компания… Это… неправильно.
Он чуть заметно усмехнулся, но в этой усмешке не было насмешки. Скорее, горькая ирония.
– Добро пожаловать в реальный мир, городская. Здесь такое случается.
– Но с этим же можно что-то сделать! – её голос окреп. Азарт пересиливал страх.
– Можно, – спокойно ответил он, снова принимаясь за работу. – Можно работать от рассвета до заката, надеяться на хороший урожай и молиться, чтобы твои соседи не продали свои души за пачку денег. Вот что здесь можно сделать.
– Нет! Я не об этом! Я о другом! – она сделала шаг вперёд, почти вторгшись в его личное пространство. – У вас есть музыка. У вас есть история. У вас есть то, чего в Сеуле не купишь ни за какие деньги – подлинность! Люди в городе одержимы этим. Они ищут "настоящие" впечатления, "аутентичный" опыт. Они платят огромные деньги, чтобы на день почувствовать себя фермерами или пожить в традиционном доме.
Джи-Хун остановился и посмотрел на неё, прищурившись. Он не понимал, к чему она ведёт.
– Мы можем им это дать! – глаза Ха-Ныль горели. – Мы можем спасти фестиваль. Я могу.
– Ты? – он окинул её скептическим взглядом с ног до головы. – Ты спасешь фестиваль? Прополкой сорняков?
Щёки Ха-Ныль вспыхнули при упоминании её утреннего позора, но она не отступила.
– Нет. Тем, что я умею. У твоей бабушки есть старый планшет. Интернет на холме ловит. Я могу создать аккаунт фестиваля. Я буду делать фотографии. Такие, чтобы каждый захотел сюда приехать. Я сниму видео – как Хальмони готовит кимчи, как ты играешь… Я расскажу историю этой деревни. Я создам хэштег – #ДыханиеЗемли или что-то вроде того. Я знаю, как это работает! Я знаю, какие картинки цепляют, какие слова заставляют людей нажимать "поделиться". Мы можем привлечь сюда сотни, тысячи людей! Блогеров, журналистов… Если фестиваль будет успешным, никто не посмеет сказать, что деревня умирает!
Она выпалила всё это на одном дыхании, жестикулируя и размахивая руками. Она снова была в своей стихии. Она была @Sky_Is_The_Limit, предлагающей гениальную SMM-стратегию.
Джи-Хун долго молчал. Он отложил инструменты и прислонился к забору, скрестив руки на груди. Его лицо было непроницаемо.
– Картинки, – наконец произнёс он, и в его голосе прозвучал холод. – Ты хочешь спасти столетнюю традицию картинками на экране.
– Это не просто картинки! Это…
– Это именно то, что вы, городские, делаете, – перебил он, его голос стал жёстче. – Вы приезжаете, делаете свои красивые фотографии на фоне нашей "аутентичной" жизни, ставите свои хэштеги и уезжаете. Вы превращаете нашу жизнь в свой контент. В развлечение на один день. А что потом? Они приедут, потопчут наши поля ради идеального селфи и забудут про нас на следующий день. Это не помощь. Это очередное вторжение.
Его слова были как пощёчины. Он вспомнил. Он вспомнил её дурацкую шутку про дискотеку. Для него она была такой же – городской девчонкой, для которой его мир был лишь экзотической декорацией.
– Это не так! – возразила Ха-Ныль, и в её голосе зазвенели слёзы обиды. – Я… я не такая! Да, я сначала ничего не понимала, я вела себя как дура, я… я сказала глупость тогда, в сарае. Прости. Но теперь я понимаю. Я понимаю, что на кону.
Она сделала ещё один шаг, заглядывая ему в глаза.
– Послушай, ты прав. Я не знаю, как сажать рис. Но ты не знаешь, как заставить человека в Сеуле бросить всё и поехать за сто километров ради деревенского праздника. А я – знаю. Твоя музыка, твои традиции – это сердце. Но никто не услышит, как оно бьётся, если не построить сцену и не включить микрофоны. Я могу стать твоим микрофоном. Я могу сделать так, чтобы вас услышали.
