Перрон
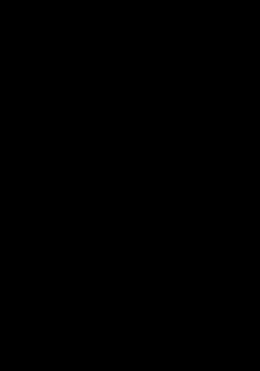
Синопсис романа «Перрон»*
… Скорый поезд Московского скоростного метро сделал короткую техническую остановку на ж/д узле Никополь. 2040 год.
На Никопольском перроне роботы приветливо раздают свежую водичку пассажирам и объявляют сколько времени осталось до отправки скорого Москва-Таврида. Ещё целых двадцать минут. По перрону важно расхаживает седой старичок с дроном-тросточкой в сопровождении дочери, внучки и правнучки.
Вдруг один из роботов подкатывает к старичку и говорит.
– Гена. Я вас знаю. Вы брали билет здесь в 1970 году до Днепра.
– А тебя как зовут?
– Вектор. Я помогаю пассажирам с навигацией и дарю им отличное настроение.
– Я тебя Виктор буду звать. А пойдём милый вон до того угла, и я посмотрю стоит ли та будка, у которой я повстречал Таню.
– Какую Таню, спросила дочь. – Маму что ли?
– Нет. Это другая Таня.
– Папа что-то ты никогда не говорил про другую Таню. Рассказывай…
Но вдруг робот Вектор начал рассказывать скучающим пассажирам вместо старичка с тросточкой.
… Барышни в кисейных платьях в 1905 году встречали своих кавалеров на вокзале в Екатеринославле, который вы проехали пол часа назад. Наша скорость в пути составляет 240 километров в час. Вокзал Екатеринослава был построен в 1884 году в неорусском стиле. В зале ожидания – деревянные скамьи с резными спинками, бронзовые урны, расписание поездов на грифельных досках. Запах – смесь угольной пыли, лавандового одеколона и свежих булочек из буфета.
Олеся в платье с модной прической. На перроне – лужи расплавленного дёгтя от жары, крики носильщиков "посторонись".
Олеся излучала счастье и вдохновение перед встречей с возлюбленным Тарасом. Они не виделись целых шесть месяцев. Она припудрила лицо, подрумянили щеки. Выглядела на перроне она так как великосветская дама в этом модном платье и новомодных каблуках.
– Ах это вы? – задыхаясь от счастья она утонула в объятия Тараса.
Тарас подхватил обмякшее тело невесты и в невесомости донёс её на руках до лавочки. С горячим паровозным паром они хотели раствориться в эфире времени под стук колес тук-тук-тук-тук-тук… Мимо тихонько набирая ход мелькали деревянные вагоны, окрашенные в тёмно-зелёный цвет с жёлтой окантовкой. В окно видны скамьи с плетёными сиденьями. Поднимается дымок от печного отопления. Пахнет креозотом и углем. Машинист выглядывает в фуражке с кокардой, двубортном мундире и сапогах. Проводники в жилетах с медными пуговицами и карманными часами на цепочке поглядывают на влюбленную еврейскую пару. Тук-тук стучат каблуки Олеси. Тук-тук стучат колеса. Тук-тук стучит ритм вселенной.
Артём направляется к новому месту службы в Никополь, оказывается в вагоне I класса, где бархатные диваны и фарфоровые рукомойники контрастируют с деревянными скамьями III класса. Здесь, среди обнищавших купцов и дам в кружевах, он замечает Юлю – местную жительницу, возвращающуюся из Екатеринославля. Их знакомство начинается с неловкого разговора у окна, когда паровоз при маневре резко тормозит из-за забастовки железнодорожников где-то на полустанке. В приоткрытое окно летит дым и дешёвый табак. Но духи Юли с нотками розмарина кружат голову Артему.1916 год.
Перед расставанием Юля дарит Артёму номер запрещённой газеты. Он чувствует, что этот город, где пахнет углём и яблоками, и Юлей (Ах, этот розмарин) станет для него перекрёстком судьбы. А завтра – новое место работы, новые лица, и где-то в толпе уже мелькают красные банты…Вагоны III класса – деревянные, с раздельными купе (занавески вместо дверей). I класс – красное дерево, бархатные диваны, фарфоровые рукомойники. Проводницы в длинных юбках, белых блузах и чепцах. Машинисты – в кожаных куртках и очках-«консервах» от угольной пыли. За окном мелькают листовки «Военный заём», растоптанные сапогами солдат. В купе III класса агитаторы РСДРП шепчутся с рабочими, а проводницы в чепцах нервно поправляют занавески вместо дверей. Юля, несколько смущаясь и оправдываясь, рассказывает Артёму, как местная николаевская газета «Голос труда» призывает «долой царя», а в клубах Никополя уже собираются недовольные офицеры. Скрип вагонных колёс, крики разносчиков «Свежий номер „Никопольского вестника“», гудки паровозов. На вокзале их встречает суматоха: толпа ремесленников скандирует лозунги, жандармы оттесняют их к товарным вагонам. Юля, знающая каждый уголок города, берёт Артёма под руку и ведёт через боковой выход – мимо лавок, где торгуют скупщики краденого армейского обмундирования. Она шепчет, что даже в дворянском собрании теперь говорят о «переменах». По дороге к дому Юли Артём узнаёт, что её семья – когда-то богатые мельники – теперь едва сводит концы с концами. Она показывает ему старый парк, где когда-то давали балы, а теперь собираются подпольные кружки. «Здесь всё дышит бунтом, – смеётся она, – даже фонари горят тускло, будто в знак протеста».
…1939 год. Вокзал Никополь. Над главным входом – транспарант «Даёшь пятилетку в 4 года». Внутри – бюст Сталина, стенд с газетой «Правда» и листовками о стахановском движении. Звуки – громкоговоритель с маршем «Авиатор» и стук телеграфного аппарата Морзе.
Молодой курсант сержант из Днепропетровского лётного училища Андрей с букетом весенних цветов встречает на вокзале Никополя свою возлюбленную Оксану студентку старшего курса медицинского училища. Стройная парадная форма будущего лётчика и белобрысый капризный чуб из-под армейской фуражки выдают в нем озорного и строптивого курсанта. И похоже он сбежал в самоволку. И он озирался по сторонам в поисках патруля. То ли он искал свою Оксану, то ли искал патруль. Но глаза его бегали по лицам пассажиров как солнечные зайчики прыгают по волнам Днепра.
– А почему ты вся в крови? – спросил жених у своей воздыхательницы.
– Во всем поезде не нашлось ни одной акушерки. Проводница бегала по вагонам и орала – там роженица рожает. Нужна акушерка. Я и вызвалась к рожающей. Кровь на халате Оксаны – алая, как знамя на вокзальном флагштоке. В углу – плакат «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!» с пионерами.
– И что?
– Все нормально. Она как все роженицы время родов себе в уме перепутала. То ли ненароком, то ли с умыслом. Мальчик. Доношенный. Кричал, как и все мальчишки – есть хочу.
– Давай сначала тебе кровь вытрем везде. Тебе новую одежду надо. Они не успели скрыться в комнате матери и ребёнка.
– Товарищ сержант ваши документы.
– А-а-а. Вот моя невеста роженица.
– Да я вижу, что она в крови. Рожала что ли?
– Нет она роды принимала.
– А документы есть?
– Что она роды принимала нет документов.
– А ваши документы военный билет, увольнительная?
… 1970 год, жара, июль. Неоновая вывеска «Никополь» на фасаде, в кассовом зале – автоматы с газировкой 3 коп. с сиропом. Запах – гуталин, хлорки и жареных пирожков. На стенах – плакаты «Ленин и теперь живее всех живых» и схемы маршрутов Приднепровской ж/д. Металлические вагоны сине жёлтой расцветки. Внутри – дерматиновые полки, алюминиевые подстаканники. Проводницы в оранжевых жилетах и шерстяных юбках. Характерный звук – лязг тормозных колодок и крики «Граждане. Не курите в тамбуре».
На перроне юноша Гена восьмиклассник разглядывает пассажиров. Мама его проводила с наказом в Днепре сделать пересадку на другой поезд. На вокзале и в тамбуре вагона – запах «Красной Москвы» и самогона из чемодана пассажира. В ушах ещё наказ мамы звучит как эхо.
– Некогда мне. Надо папу проведать в больнице, – бросила она на ходу, и Гена с любопытством и с чувством свободы по-хозяйски расхаживал по перрону вокзала Никополь. Навстречу ему шла девушка в мини-юбке «колоколе» и сапогах «чулках», и Гена слегка расправил плечи.
– Ой, хоть бы она вошла в мой вагон.
Она не только в вагон вошла, но и села рядом с Геной и начала показывать свои синяки.
– Вот здесь он мне засос сделал. Она подняла юбку и показала синяк. И здесь – она открыла лиф и показала синий засос от незнакомого любовника. Гена пожирал глазами целованную Таню и не знал куда деть руки, куда деть глаза, и куда смотреть. Кровь прилила к юным мозгам, и он в беспамятстве начал целовать ноги Тани выше колен, вцепившись ладонями в женскую плоть.
– Остановись. Не надо, – ворковала Таня. А сама гладила шевелюру Гены…
Конечно она дала свой адрес в Никополе. Мама строго наказала в Днепре пересесть на поезд во Львов. Таня ехала поступать в педагогический техникум в Днепре после десятого класса. Два часа до Днепра пролетели как одна секунда – они ворковали и обнимались – вагон был почти пустой три пассажира на весь вагон. Он заехал к Тане через три года. Перед тем как на службу в Армию идти… Это романтическая история – описанная десять тысяч раз в любовных романах. Ничего нового под луной нет. Гена пел Тане серенады под гитару, а Таня вздыхала… И вышла замуж. Через шесть месяцев службы она ему написала…
… 2025 год. Никополь. На электронном табло – опоздание поезда «ДНР-экспресс» на 14 часов. Звук сирены воздушной тревоги. Молодая вдова Нина встречает тело Яна на вокзале. Но она не плачет. Нина в чёрном плаще без знаков траура. Это у неё второй муж. Первого она потеряла пять лет назад – утоп в Днепре. По пьяни. Нырнул и не вынырнул. Нашли на второй день в заводи водолазы. А этот Ян не хотел воевать. Его поймали, арестовали и отправили на фронт. Через два месяца после того как отправили она получила похоронку. И стоит она здесь на перроне в Никополе и нет ни слезинки у неё на глазах. Только ненависть к власти и к военкомату ТЦК (территориальный центр комплектования) – что они сделали с её жизнью…
… 2040 год. Никополь летом и зимой сияет. Обшивка из полиамидов с нано углеродным покрытием. В салонах – кресла с биометрической подстройкой, окна дисплеи с видами Крыма. Робот «Вектор» в корпусе из белого композита, с голографическим интерфейсом на груди. Сенсорные столбы с QR кодами истории вокзала, дроны уборщики. Запахи озона и ароматизатор «морской бриз». Форма сотрудников – светоотражающие комбинезоны с датчиками здоровья, шлемы с ИИ ассистентом.
Робот Вектор рассказывает собравшимся пассажирам весёлые истории из прошлого и объявляет.
– Прошу пассажиров занять свои места. Поезд отправляется через три минуты.
– А телефон свой оставь, – просит седой старичок с тросточкой.
– Дай токен и бери номер телефона.
– Дочка дай ему токен.
Дочка приложила запястье к роботу. Щелчок.
–Спасибо, – сказал Вектор. Он мигнул и спел старомодную пеню. «Надену я новую шляпу, поеду я в город Анапу…».
– Я тебе позвоню, – крикнул из тронувшегося поезда в окошко старичок Вектору.
– Закрываем окна, сказала проводник. – И наглухо защёлкнула окно.
Тук-тук-тук-тук застучали колеса скоростного поезда Московского метро Москва -Таврида… Слышно тихий гул антигравитационных подушек под вагоном.
* Перрон – (Франц. Perron) «перрон» буквально означает «платформа, замощённая камнем».
Глава 1
Олеся из Городища едет по грунтовке на дилижансе встречать Тараса в Никополь на вокзал.
Олеся сирота и её воспитывает родной дядя Рабе. По одежде и манерам видно, что Рабе купец второй гильдии.
Олесе был год, когда случился антисемитский погром, возникший после стихийной драки Городенских и Никопольских казаков. Это местная извечная вражда первенства Никополя и Городища во всем: силы, богатства, удали, красоты женщин, ненависти к евреям. Кто-то из пьяных драчунов с казацким чубом крикнул «Бей жидов – спасай Россию» и начались бессмысленные погромы.
Убийства евреев преследовались каторгой. Жандармерия пресекала погромы на юге империи. Но медленно реагировала. Чтоб южный горячий народ выместил свой негатив на евреев, а не на царскую власть.
Потому что казаки из Запорожского казачества и Днепровского казачества народ вольный. В том погроме случайно погибла мама Олеси, а отец бесследно пропал после погрома.
Розыски и поиски не увенчались успехом и Рабе как родной брат отца Олеси получил из управы жандармерии справку "Пропал без вести" через три года.
Но Олеся не знает о том, что она сирота. Она уверенна, что Рабе Коп её папа. Ей был один год, когда случилось это несчастье. Рабе пришлось ей имя другое дать. Она родилась как Лея – לאה, и сестра ее родилась на год раньше ее. И по рождению сестра Йеудит – יהודית Иудифь. Но ее назвали Юля, чтоб не провоцировать удалых хлопцев с чубом на новые погромы и антисемитизм в Екатеринославской губернии. Юлю забрала после погрома в Екатеринослав тетя Руфь. И сестры не знали о существовании друг друга. Знал только Рабе и тетя Руфь, которая приходилась Рабе Коп двоюродной сестрой.
Едет Олеся в дилижансе из Городища в Никополь с тремя попутчиками и поневоле завязалась беседа попутчиков. Благо недалеко ехать – двадцать три версты. Мигом – за пять часов доедут. Вскочила она в четыре утра, чтоб успеть на первый почтовый дилижанс к шести у почтовой станции Городища.
Поездка из Городища в Никополь на дилижансе была типичным, но утомительным путешествием по болотистой октябрьской дороге. Богатые путешественники могли позволить себе карету с кожаными рессорами, обитым салоном и даже занавесками на окнах для защиты от грязи. Но Олеся ехала на почтовом дилижансе. И поездка эта ей вылетела в целый рубль. Она могла взять более простой вариант бричку или кибитку – телегу с крытым верхом. Но она же не простая крестьянка. А дочь купца второй гильдии Рабе. Она взяла с собой две дорожные сумки с секретным содержимым даже от папеньки. Она в уме вспоминала что где лежит: «Флердоранж», «Монпансье», Флакончик из тонкого стекла с резиновой грушей-распылителем, Крем «Метаморфоза», «Монблан». И кое-что. Она краснела при мысли об этом "кое-что".
Олеся ехала в дилижансе с занавесками пожухлыми и нестираными целую вечность. И её попутчиками были болтливая купчиха средних лет Ольга, военный офицер Борис младшего чина в летнем мундире полевого покроя и духовное лицо, то ли миссионер, то ли прозелит, потому что в дороге он говорил о падении нравов современной молодёжи.
Офицер младшего чина обсуждал с купчихой новости из газет «Екатеринославские губернские ведомости» и «Южный рабочий». Это новость о Манифесте* Правительства. Обе газеты достал из заплечной сумки офицер, но Ведомости дал читать купчихе Ольге Станиславовне, а сам читал запрещённую полу легальную газету рабочих.
– Вот, полюбуйтесь. Вот за что я служу? За этих вольнодумцев? За этих черносотенцев? Нет. Ну вы скажите. Олеся. Как я могу их защищать? Как? Они в Манифесте* вот что пишут.
Об усовершенствовании государственного порядка. О Всероссийской октябрьской политической стачке. Гражданские свободы. Неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Создание законодательной Государственной Думы, без одобрения которой ни один закон не мог вступать в силу.
Нет. Вы только полюбуйтесь на этот манифест. Я должен это безобразие защищать?
– Вы не их защищаете, а царя и имущество своё и моё, и её, – купчиха ладонью повела в сторону Олеси.
– А что её защищать? Её жених защитит. Вон какие пунцовые щеки зарделись от слова жених.
– Нет. Ваше благородие. Её защищать надо. Потому что если опять погром, то она точно станет круглой сиротой. А так только наполовину.
– Неправда Ольга Станиславовна. Я не сирота. Мой папа Рабе говорит…
– Да не папа он тебе, – осиротела ты, когда погром был в Городище при прошлом старосте.
– Вы все врёте, чтоб меня смутить…
– А может и впрямь вру, чтоб его окаянного образумить. Чтоб он свой мундир с честью носил и не читал эту черносотенную газету. И манифесты чтоб не читал.
– А не надо мне рот затыкать, – парировал офицер.
Слушал кучер эти разговоры, да и сам начал спорить со своими клиентами-путешественниками.
– Да все мы сироты здесь, брошенные. Ни царю – батюшке, ни правительству не нужные. Ни фуражу нет досыта коням, ни дороги хорошей нет. – Он погладил левой рукой седую бороду. И весь облик его в сером армяке, подпоясанный серым кушаком, в серой шляпе был похож точь-в-точь как пыльная дорога того же цвета. Той же блёклости, усталости и безнадёги.
По дороге им попадались косые верстовые столбы чёрно-белые, с указанием расстояния до Никополя. На некоторых выбиты гербы губернии.
Маршрут пролегал по грунтовой дороге, которая в сухую погоду превращалась в пыльную колею, а после дождя – в грязевую трясину. На стоянках их встречали станционные смотрители – чиновники низшего ранга, часто бывшие солдаты, следившие за сменой лошадей. Некоторые по привычке отдавали честь пассажиру в дилижансе. Они могли быть грубоваты, но, если пассажир давал на чай, услуги путникам оказывались быстрее.
Купчиха завела разговор об урожае. Тот год был не самым урожайным из-за отсутствия дождей, так что тема оказалась актуальная для всех попутчиков. Из степных хуторов по дороге в Никополь выходили крестьяне и продавали свежий хлеб и кумыс путешественникам. Потому что почтовая станция – с чайными лавками, где можно было купить квас или селёдку была только одна. Да и в той не всегда было место для отдыха и перекуса голодных путешественников.
Путники жаловались на тряску и октябрьскую грязь. Но по мере приближения к городским окраинам, дорога становилась лучше. Предместье и последние версты перед городом вызвали оживление у путешественников.
Дилижанс, подпрыгивая на ухабах, медленно въезжает в черту города Никополь. Болотистая октябрьская дорога от сырости размякла, и пассажиры то и дело защищались чем могли от комков грязи летящих из-под колес. Дорога, ещё недавно пролегавшая через бескрайние степи, теперь обрамлена по одну сторону низкими крестьянскими хатам. Стены из глины, перемешанной с соломой, крыши крыты дешёвым тростником, побуревшим от солнца. Местами виднеются плетни, за которыми копошатся куры, а у колодцев стоят бабы с вёдрами, лениво оглядывающие проезжающих из-под руки, приложенной ко лбу. В октябре нет солнца, но это привычка местных баб на весь мир смотреть через приложенную руку, чтоб уразуметь суть происходящего не только с ней самой, но и со всей страной.
– Небось, жених красавец писаный? – поддакивает купчиха.И вот среди этой убогой идиллии с бабами и руками у лба, начинают появляться дома побогаче – сложенные из плитняка и ракушечника, с толстыми стенами и крохотными оконцами. Это уже дворы зажиточных мещан или отставных солдат, обосновавшихся на городской окраине. А дальше – первые признаки города: двухэтажные домики с резными наличниками, выбеленными ставнями, кое-где даже железные крыши, сверкающие на солнце. Попутчики, уставшие от долгой дороги, оживляются: – Глядите-ка, барышня-то вся зарделась – смеётся офицер, подмигивая Олесе.
Олеся, и правда, вся пунцовая, прячет лицо в платок, но глаза её сияют. Она едет на вокзал, где её жених – молодой выпускник из Владимирской гимназии в Киеве – должен прибыть с поездом.
– Да уж, прогресс – вздыхает прозелит-миссионер. – Теперь и телеграф есть, и поезда ходят, а всё равно народ по старинке на лошадях тащится.– Нынче вокзал-то новый, с колоннами. И перрон каменный. Буфет отличный, – важно замечает офицер.
Путники почти изможденные от сырости и грязи в последние минуты перед въездом в пригород вздыхают с облегчением.
Дорога становится ровнее, грязь уже не так вылетает из-под колес– видно, что здесь грязь присыпают песком. По сторонам теперь лавки, постоялые дворы, чайные. Вот мелькнула вывеска «Пивная Шульца», вот еврейский шинок с надписью на идише, а там – мостовая, выложенная булыжником.
И наконец, вдали, за частоколом телег и возов, показывается здание вокзала – новое, с высокими окнами, дымящими трубами и суетой вокруг: извозчики, торговцы, жандармы в синих мундирах, проверяющие документы.
– Ну, барышня, прибыли, – кучер оборачивается, ухмыляясь. -Только смотрите, чтоб жених-то ваш не уехал, пока мы тут плелись.
Олеся, вся в трепете, поправляет шляпку и выходит, озираясь в поисках знакомого лица. Но глядя на вокзальные часы понимает, что до поезда ещё далеко. Олеся на вокзале Никополь ожидает жениха долгих два часа.
Величественное здание вокзала поражает её своей красотой и размерами. Это она упросила папеньку отпустить её. Он не отпускал. Грозился запереть и не хотел слушать капризы своей Олеси. Но она знала, как на него подействовать. Подошла тихонько сзади – обняла за шею и прижалась щекой к его бороде и прошептала
«Папенька. Я так тебя люблю. Что мочи нет. Отпусти меня на вокзал».
Он не мог ей отказать, хотя вошёл в большой расход. Сорок рубликов: дорожные, чаевые, дилижанс, багаж. Она видите ли, смену себе взяла. Дорожная одежда и парадная одежда. Ах, эти девичьи проказы и смотрины невесты меня разорят.
Олеся, выйдя из кареты, замерла на мгновение, поражённая видом вокзала.
Не зря она упросила папеньку отпустить ее в город на новый вокзал. И обещала папеньке все в подробностях рассказать какой он этот вокзал. Поэтому она всё запоминала до мельчайших подробностей. Чтоб всем подружкам рассказать в Городище и папеньке.
Крыша здания вокзала покрыта железом. Большие окна и элементы кирпичного декора обрамляют дверные и оконные проемы. Внутри вокзала деревянная отделка, кованые элементы, кассовые залы. В пассажирском зале керамическая напольная плитка, деревянные скамьи, каменные и металлические детали.
Над центральным входом красовался герб губернии, а под крышей – электрические фонари на ажурных чугунных столбиках. Она замерла в восторге. Не ожидала увидеть такое. Первый раз за свои восемнадцать лет она выехала в город без сопровождения няни и папеньки.
– Небось, из Питера моды переняла.Извозчики у подъезда, перебрасываясь шутками, провожали её взглядом: – Барышня, видать, ждёт жениха. Глядите-ка, прическу словно павлин распустила.
Олеся, смущённая, поправила причёску и направилась внутрь где роскошь и суета вскружили ей голову.
Войдя в зал I класса, она очутилась в помещении с дубовыми панелями, окнами и мягкими диванами. На одной стене зеркало, на других картины с видами Крыма и Петербурга. В углу тихо наигрывал струнный квартет, собранный из местных музыкантов для развлечения пассажиров.
Здесь было немноголюдно. Чиновники в мундирах с орденами обсуждали новый Манифест* правительства. Купеческая семья с детьми пила чай из фарфоровых сервизов. Молодой офицер что-то писал в блокноте, украдкой поглядывая на Олесю.
Она быстро освежилась в дамской комнате, чувствуя, как дорожная грязь слой за слоем исчезают с её взволнованного лица, и она с облегчением побрызгалась розовой водой.
Она начала примечать детали вокзальной жизни. У Олеси был целый час до прибытия поезда, и она решила осмотреться. Буфет I класса предлагал кофе по-венски и пирожные «Наполеон». Цены кусались 30 копеек за чашку кофе, но она позволила себе лимонный сироп со льдом. Не зря папенька дал ей рубликов в дорогу. Вокзал прожорливо съедал папенькины рублики.
Телеграф в соседнем зале трещал беспрестанно – кто-то отправлял срочные депеши в Кривой Рог и Одессу о еврейских погромах. Олеся забеспокоилась. Как там её жених Товий в свете этого Манифеста*.
Через окно она увидела, как на перрон въезжает товарный состав с углём из Донбасса. Рабочие в потрёпанных рубахах кричали что-то на непонятном языке – то ли украинском, то ли греческом. Но видно было, что в глазах у них ненависть к капиталу и к иудейскому вероисповеданию. В Никополе жило много греков-переселенцев из Крыма. И много евреев. В Городище Олеся и Рабе одни на всю глушь с единственной аптекой на две тысячи дворов.
Её жених Тарас – Товий טוֹהַר (Тоhар), ехал из Киева, где закончил учёбу на четырех месячных бухгалтерских курсах и ехал в Никополь на новую службу в речное пароходство. В Киеве он так же посещал синагогу и не пропускал ни одной утренней молитвы. И возглавил неформальное общество "взаимопомощи студентов-юристов". Тайно посещал «Союз студентов Торы». И ему по ночам снились кошмары, что его отчислили за слишком усердные молитвы.
Когда до прибытия поезда оставалось десять минут, Олеся вышла почти на самой край перрона. Под навесом уже толпились встречающие. Носильщики в синих куртках с бляхами грузили багаж на тележки, а жандармы проверяли документы у подозрительных личностей.
Вдали показался дымок – это шёл почтово-пассажирский поезд из Кривого Рога с вагонами I–III класса. Сердце Олеси забилось чаще. Где-то там, за стёклами одного из этих вагонов, сидел её жених Товий.
Она начала внимательно рассматривать перрон. И рассматривать свои стройные ножки в осенних туфлях, которые она отмыла от октябрьской грязи в дамской комнате. Слегка приподняла подол платья и полюбовалась своими щиколотками в чулках коньячного цвета. «Вот Тарас оценит».
Она стояла на высокой платформе – около одного метра над рельсами.
– Уйди. Чего смотришь? – шуганула она оборванца, который снизу с путей подсматривал за ее ножками в чулках. А Олеся как памятник, стоящий пьедестале смотрела вниз. – Вот сейчас жандарм придет.
– Оборванец исчез из ее поля зрения. Она обратила свое внимание на конструкцию из железа и стали, чтоб точно в деталях рассказать подружкам Городецким. Перрон Никопольского вокзала представлял собой укреплённую платформу, параллельную железнодорожным путям. Его каркас включал стальные балки и колонны – для поддержки навеса над платформой. Навесы были ажурными, с коваными элементами.
А летние туфли Олеси цокали по перрону в такт прибывающему поеду тук-тук-тук-тук. Цокали каблуки Олеси. И поезд ей в такт. Тук-Тук. Блестели чугунные фонарные столбы – с электрическими лампами.
Она нагнула и опустила вниз голову, чтоб рассмотреть вблизи мощения и покрытие перрона. Черный и красный гранит амфиболит из местной каменоломни полированный на половину своего блеска, но не скользкий. Если приглядеться, то можно увидеть, как в зеркале свое отражение. Каблуки Олеси стучат по гранитной полировке перрона. И к ним присоединяются каблуки иных барышень, встречающих поезд. Тук-тук-тук. Ноги мелькают с каблуками. А поезд вот-вот уже идет. Совсем чуть-чуть. Она опять изучает как следопыт чтоб рассказать папе про публику, про железные пути. Этот зеркальный перрон из полированного амфиболита облюбовала местная Никопольская шпана. Если стать рядом с дамой в юбке и посмотреть на ее отражение, то можно увидеть такое. Такое. Такое, что глаза мальчишек округлялись как шары и легкие наполнялись воздухом…
…Ничего не пропадает из её поля зрения. Водоснабжение – чугунные трубы, подведённые к зданию вокзала и колонкам для заправки паровозов. Канализация – кирпичные коллекторы для отвода сточных вод из туалетов и буфетов. Она удивляется прогрессу, как будто попала в далёкое будущее. Трубы маленькие и толстые. Переплетение труб, как паутины. Она представляет себе далекие страны, Париж и она как великосветская дама гуляет по роскошному городу с зеркальными витринами (и полами где все видно) и на нее заглядываются мужчины, смотрящие в зеркальный пол, в котором отражается, отражается. Ой. О чем это Я?…
И вот вдали появился силуэт долгожданного паровоза. Толпа зашевелилась, грузчики засуетились, оборванцы приободрились. А Олеся вся затрепетала…
…Октябрьский воздух вокзала в Никополе нес запах угольной пыли, перегорелым маслом и сладковатым ароматом свежескошенной степи.
1905 год – это не только год революции и мятежей в матушке России. Это ещё и прогресс, выраженный в стальных рельсах и гремящих составах, уже добравшихся и до этого провинциального прибрежного южного городка.
С шипением и грохотом состав из Киева замер у перрона. Из вагона третьего класса одним из первых выпорхнул он – Товий. Словно большая, неуклюжая птица: слишком длинные руки, пухлые щеки интеллигента, не видевшего солнца все четыре месяца учёбы, и густейшая шапка чёрных, как смоль, кудрей, вызывающе контрастировавших с бледной кожей. Очки в толстой оправе съехали на кончик носа, и он нервно поправил их, вглядываясь в толпу встречающих.
Он возвращался перспективным молодым двадцати семилетним специалистом, прошедшим курсы повышения квалификации по «Транспортной логистике», «Учёту и хранению». Его мозг был переполнен формулами бухгалтерского учёта товарно-грузовых перевозок. Он умный, талантливый и… жених. Сын богатого купца еврея. И он идеальная партия для любой невесты еврейки в статусе «на выданье». Товий прекрасно понимал, что его брак – это часть большой игры, тонкий расчёт их родителей, которые умели соединять не соединяемое и притворяться, что любят нелюбимое.
И вот он, этот «не соединяемый» элемент, стоял на перроне, сжимая ручку чемодана с заветными дипломами.
И на каменной платформе перрона из чёрного красного амфиболита стоит она. Лея. Она была полной его противоположностью, живым воплощением парижской гравюры, сошедшей с пожелтевших страниц «Journal des Demoiselles». Затянутая в приталенный корсет, она изгибалась изящной, модной литерой S. Лёгкое платье самого последнего покроя, крошечная модная шапочка, ридикюль в руках в тон. Это яркое, почти нереальное пятно на фоне усталых лиц обывателей и встречающих на перроне.
На всем перроне не было пары более контрастной, чем эти двое. Ему казалось, что все видят эту разницу так же остро, как он сам в свои очки «минус три». Но на её лице не было и тени смущения. Она ждала своего Товия. Богатого, неуклюжего, нелепого очкарика.
– Товий. Наконец-то – её голос прозвенел, как колокольчик. – Я так соскучилась.Он подошел, слегка сутулясь, словно извиняясь за свой вид. – Лея, ты… ты выглядишь потрясающе.
В этот момент, глядя в её сияющие глаза, Товий был абсолютно уверен. Уверен, что это его собственный, добровольный выбор. Не родителей, не отца Леи, с которым его отец вёл общее дело по соединению капиталов и причалов в речном порту Никополя. Это его выбор. Его. Только его. Искренняя улыбка тронула его губы. Он поверил в эту игру, поверил в то, что расфуфыренная красотка могла искренне ждать именно его.
А она, взяв его под руку, уже болтала о предстоящей свадьбе, бросая на него влюблённые взгляды, которым он слепо верил. Им казалось, что это любовь. И этого было достаточно. По крайней мере, на этом перроне, в этот солнечный день.
Олеся растаяла от поцелуев неуклюжего Товия.
Влюбленные не рискнули после четырёх часов пополудни ехать на лошадях в Городище так как половину пути пришлось бы ехать в темноте. А говорят на пути шлялись шайки беглых преступников, грабившие путников и чумаков.
Теперь Товий решил воспользоваться правом жениха и опекуна, взял бразды управления настроением Олеси в свои руки. Здесь он слегка "пошалил" – можно было до его дома в Каменке доехать за три часа, но ему не терпелось "потискать" наедине свою невесту.
– Человек, – вези нас в меблированные комнаты? – крикнул он свободному кучеру в пролетке.
– Дык, а куда?
– На ярмарочную площадь вези. В порт, – весело и задорно крикнул Тарас улыбающейся Олесе. – Хоть она и была обручена с Товием, но иудейские нравы не позволяли до замужества спать с наречённым. И они в гостинице «Славянская» взяли номер, но с двумя кроватями и с ширмой…
* Манифест 17 октября обнажил глубинные болезни российского общества: правовой нигилизм, антисемитизм, слабость государственных институтов. Публикация Манифеста привела к всплеску насилия: в октябре 1905 года произошло 690 погромов в 660 населённых пунктах. Погибло, по разным оценкам, от 1600 до 3000 человек, тысячи были ранены.
Глава 2
Товий, молитва, Олеся, женские аксессуары
Товий уединяется от Олеси за ширмой и читает молитву. Он как бы с ней, но и не с ней. Он разрывается между невестой и верой. Искушение быть желанным, и привычка читать вечернюю молитву разрывают его плоть и душу на части. Лея долго наблюдает за молящимся Товием. Она его называет двойным именем. На людях Тарас. В интимной обстановке Товий. И жених ее на людях называет Олеся, а в синагоге и с родителями Лея-Лия.
Лея видит в строгих обрядах Товия преграду не только к знаниям, но и к простому человеческому счастью. Сумерки сгущаются на Днепре и зажигаются огни пароходов. Лея вышла на балкон, облокачивается на перила, задумчиво глядя на широкую реку. Товий закончил вечернюю молитву и вышел к невесте. Стоит рядом, нервно перебирая кисти цицит. Она говорит терзаемая сомнениями и страстями с душевной болью.
– Посмотри на них, Товий. Пароходы. Они идут в Херсон, в Одессу. А из Одессы – в Марсель, в Неаполь, в Александрию. Весь мир открыт. А мы сидим здесь, в нашем местечке. И главный спор нашего века – можно ли есть горох в Песах, если он варился в кастрюле гоя. Ты целый день в синагоге. Вечером – изучение Гемары. Утром – молитва. Когда ты со мной? Когда мы просто поговорим? Не о том, что можно, а что нельзя, а о нас? О том, что у меня на душе?
– Не в горохе дело, Лея. А в законе. В чистоте. Горох – это лишь песчинка. Но если начать убирать по песчинке, развалится вся стена. Стена, которая защищала нас две тысячи лет. От погромов, от крестовых походов, от ассимиляции. Что останется от еврея, который перестанет быть евреем? Русским он не станет, немцем – тем более. Он станет никем. Без корней, без прошлого, без завета с Богом. Лея, душа моя. Я же для тебя всё это делаю. Чтобы заслужить благословение Всевышнего на наш брак. Чтобы быть достойным тебя. Молитва – это и есть разговор о самом важном.
– А кто сказал, что быть евреем – это только молиться три раза в день и есть отдельным ножом для молочного? Разве Ибн Гвироль, Маймонид, Спиноза были менее евреями, потому что знали математику и философию и мыслили свободно? Они прославили наш народ. А мы что делаем? Мы хороним себя заживо в этих стенах, как в гробу. Нет, Товий. Это разговор с Богом. А мне нужен разговор с тобой. С живым человеком. Мне нужны твои глаза, обращённые на меня, а не в молитвенник. Мне нужно, чтобы ты погулял со мной по вечерней набережной, когда все гуляют, а не бежал на вечернюю молитву.
– Спиноза – отступник и еретик. Его предали херему. Ты хочешь равняться на него? Твои «прогрессивные» идеи ведут прямиком к безбожию. Ты уже не покрываешь волосы как положено замужней девушке. Там, куда ты рвешься, нет места Шаббату, кашруту. Минъян… обязанность… Я не могу подвести общину. И ты не должна так говорить. Это грех – ставить удовольствия этого мира выше служения.
– Лея… Не произноси такого… Не заставляй меня выбирать. Это не я выбираю. Это путь, данный нам свыше. Как ты, дочь Израиля, можешь так говорить? Законы Моисея – это наша жизнь. Наша кровь. Наша защита.– Какие удовольствия?! Я говорю о любви. О простом человеческом внимании. Твои законы важнее меня? Ответь.
– Я найду для закона место. Я могу соблюдать Шаббат по-своему. Не выключать огонь – это же средневековое суеверие. Сегодня есть газ, есть электричество. Почему я должна сидеть в темноте, когда весь мир читает, учится, общается? Почему я не могу пойти с подругой-христианкой в парк или на концерт? Почему это должно разорвать мою дружбу? Обряды и законы мою жизнь душат. Мне тошно, Товий, понимаешь? Точно камень на груди. Я смотрю на этих женщин в их париках и платках, на их смиренный взгляд, и мне хочется кричать. Я не хочу такой доли. Я хочу наряжаться в красивые платья, как в журналах. Хочу, чтобы ты видел мои волосы и говорил, что они красивые. Хочу сесть с тобой на пароход и уехать.
– Замолчи. Ради Бога, замолчи. Это дух Асмодея, дух бунта и ереси говорит твоими устами. Очнись, Лея. Вспомни, кто ты. С христианками нельзя дружить. Потому что они – гойи. Их мир – не наш мир. «Наставь юношу согласно пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Это путь наших отцов. Я хочу, чтобы мои дети, наши дети, шли этим путём. А ты предлагаешь им идти по краю пропасти.
– Я не знаю, кто я. Я знаю, что я задыхаюсь. Мне нужен воздух, Товий. Воздух. Ветер. Я хочу в Одессу. Увидеть большой город, море, людей… Уехать отсюда. Поедем со мной. Умоляю тебя. Поедем в Одессу. Хоть на неделю. В свадебное путешествие. Спасём нашу любовь, а то она умрёт здесь, в этих четырёх стенах закона.
Товий смотрит на неё. Он видит её заплаканное, преображённое страданием лицо. Видит, как она вся дрожит. Его собственный гнев и ужас отступают перед одним-единственным чувством – он может её потерять. Сейчас и навсегда. Любовь оказывается сильнее страха.
– Я предлагаю дышать воздухом свободы Товий. Я предлагаю нам быть не только евреями, но и людьми нового века. Врачами, инженерами, учёными. А не только меламедами и торговцами. Ты говоришь о детях. А я хочу, чтобы моя дочь могла прочесть не только Теилим, но и Пушкина, и Толстого. Чтобы дочь наша видела в зеркале не просто существо, которое надо закрыть от посторонних глаз, а личность.
– Пушкин и Толстой приведут её к ассимиляции, к смешанным бракам. Они отравят её душу. Тора – вот единственная книга, которая даёт настоящую жизнь. Всё остальное – суета и погоня за ветром.
– Но ведь мир изменился, Товий. Посмотри вокруг. Пароходы, телеграф, газеты. Игнорировать это – значит обречь наш народ на отсталость и нищету. Мы можем взять лучшее от этого мира, не отрекаясь от своей веры. Мы можем быть современными и верующими.
– Нельзя служить двум господам. Нельзя быть немного просвещённым и немного соблюдающим. Это скользкая дорожка. Сначала ты разрешишь себе не покрывать волосы, потом захочешь есть в не кошерной столовой, чтобы «не выделяться», а потом… потом и субботу упразднишь ради экзамена. Нет. Либо – либо. Наступает тягостное молчание. Он смотрит в окно – вниз по течению плывёт с огнями большой пароход.
Лея тихо, почти шёпотом.
– Значит, тебе нужна не я. Тебе нужна послушная тень, которая будет молча сидеть на женской половине синагоги и рожать тебе детей. А мне? Ее голос срывается.
– А мне нужна жизнь. Полная, сложная, может быть, грешная… но жизнь.
Товий бледнеет.
– Лея… Что ты говоришь…
– Я говорю, что не могу быть той, кем ты хочешь меня видеть. И ты не можешь быть тем, кого я жду. Мы любим друг друга, но мы полюбили образы, а не реальных людей. Ты – образ благочестивого мужа из прошлого. А я… я, наверное, образ непокорной души из какого-то будущего, которого ещё нет.
– Значит, ты разрываешь помолвку? Из-за этих идей?
Лея смотрит на уплывающие огни огромного парохода. И она уплывает с этим пароходом от Товия в своих мыслях прощаясь с любимым.
– Нет. Не из-за идей. Из-за права на собственную жизнь. Прости меня, Товий.
Лея разворачивается и уходит с балкона в номер. Товий остаётся один, сжав в бессильном гневе кисти цицит. Он смотрит на широкий, свободный Днепр, уходящий в тёмную даль, которая пугает его своей неизвестностью и притягивает.
У него в кармане приглашение от Екатеринославского губернатора на должность заместителя начальника Никопольского пароходства. У него такие планы по переустройству порта. А тут Олеся. Судоходство стоит на месте и не развивается на Днепре: Екатеринослав – Никополь – Одесса. И главное препятствие Днепровские пороги. Надо из больших кораблей перегружать на мелкие корабли, потом опять на большие. Цена груза возрастает чуть ли не вдвое. Этому надо положить конец. И губернатор на этом настаивает. И бюджет он дает Товию неограниченный. В голове и на бумаге есть план. Тема его дипломной работы на шести месячных курсах "Правовые и хозяйственные реформы речного пароходства Днепра в Днепровских порогах и повышение эффективности судоходства Екатеринослав-Никополь-Одесса". Ему придется реформировать весь речной местный флот: лихтеры, буксиры, пароходы, местный транспорт, салики. Товий почему-то вспомнил про бурлаков на Днепре из своего детства и улыбнулся своим бурлакам из далекого детства. Из Никополя по Днепру через Херсон в Одессу и далее на экспорт уходило огромное количество пшеницы и ячменя, выращенных на плодородных землях уезда. Этим занимались в основном крупные купцы, многие из которых были евреями. Он и сам был из семьи купца первой гильдии.
Речной путь был длинным: вниз по Днепру до Херсона, а затем вдоль черноморского побережья до Одесского порта. Это ключевой торговый канал, связывавший сельскохозяйственную глубинку с крупнейшим международным портом империи. Через него Никополь был интегрирован в мировую экономику. Река Днепр была не просто географическим объектом, а источником жизни его Товия, его семьи, его будущего с Олесей. И детей его и внуков.
А Олеся чахнет над своими женскими туалетными принадлежностями и переставляет их из одной дорожной сумки в другую. Вот изящная фарфоровая пудреница с пуховкой. Вот плитки румян слегка розовые. Бумажные салфетки натурального красного пигмента. А это щипчики и щеточка для ресниц. Душистая вода «Флердоранж». Теперь это все выбросить? Монпансье и флакончик из тонкого стекла с резиновой грушей-распылителем. Крем «Метаморфоза» и «Монблан». Мыло туалетное. Это все не нужно теперь? Несессер – необходимец из сафьяна, обитый внутри бархатом и шелком. И это выбросить? Щетка из натуральной щетины и черепаховый гребень. Шпильки невидимки. Ленты для волос. Пилка из металла новомодная, ножницы, щипчики для заусенцев. Корсет, белье, чулки, лиф. Ничего этого не надо Товию?
Слезы градом катятся у нее по щекам.
– Зачем это все? Не любит он меня. Дура я. – Она рыдает и плечи ее вздрагивают.
Товий смотрит на неё и ее плечи, вздрагивающие от рыданий. Он видит её заплаканное, преображённое страданием лицо. Видит, как она вся дрожит. Его собственный гнев и ужас отступают перед одним-единственным чувством – он может её потерять. Сейчас и навсегда. Любовь оказывается сильнее страха.
Товий. Голос глухой, прерывистый, будто слова вырываются против его воли.
– Хорошо.
Лея замирает, не веря своим ушам. Она прерывает свои рыдания.
– Что?
Товий отводит взгляд, сжимая кулаки. Он говорит не ей, а как будто самому себе, пытаясь найти оправдание.
– В Одессе есть большая синагога. И кошерные столовые. И я смогу найти миньян… Может быть… Смена обстановки нам пойдет на пользу.
Он не договаривает. Он не может сказать главного: «Я делаю это ради тебя. Ради нас. Я нарушу всё ради того, чтобы не потерять тебя».
Лея бросается к нему, обвивает руками его шею, плача и смеясь одновременно.
– Правда? Ты правду говоришь? Мы поедем? Спасибо. Спасибо, мой дорогой, мой любимый.
Она целует его в щёку, в губы. Товий замирает. Его тело напряжено. Он не обнимает её в ответ. Он смотрит куда-то поверх её головы, в наступающую темноту. В его глазах – не радость, а жуткая, всепоглощающая тревога. Он только что согласился на то, что для него равно греху. Он сделал первый шаг с устоявшейся твёрдой почвы Закона Моисея в зыбкий, опасный мир любви и страсти, где правит ветер перемен.
И он не знает, смогут ли они когда-нибудь вернуться обратно. Он и его Лея. Но любовь сильнее его убеждений, она побеждает. Любовь сильнее законов.
Глава 3
Перрон. Искушение Яэль.
Гостиная в доме Райхер. Электрическая лампа со стеклянным абажуром в гостиной была предметом гордости хозяйки Руфь. А для Шимона Райхера предметом гордости вот уже полгода является дубовый буфет с резьбой, доставленный от мастеров из Киева. Ножки буфета внизу в виде львиных лап, цоколь с широким выдвижным ящиком, филёнки и рамки искусно вырезаны. Капитель и пилястры поддерживают карниз и фронтон с короной.
За стеклянными дверцами хранились традиционные еврейские свитки Сейфер Тора. Рядом с дубовым буфетом – массивный серебряный семисвечник минора Ханукия обращающий взоры в Мизрах.
В воздухе аромат кофе, смешанный со свежей выпечкой. Шимон Райхер разглядывает какую-то счётную книгу. Руфь вышивает. В комнату врывается, стараясь сдержать эмоции, сиятельная Яэль.
– Маменька. Папенька. Я сдала. Все экзамены. И госпожа Красножон сама сказала, что у меня исключительные способности к числам и что я могла бы преподавать.
Руфь, откладывает вышивку, лицо озаряется тёплой, но сдержанной улыбкой.
– Мы никогда не сомневались, моя девочка. Ты всегда была прилежна. Подойди, я тебя поцелую. Ты должно быть голодная, я велела Мирле принести тебе пирог с вишнями.
Шимон поднял глаз от учётной книги и уголки губ дрогнули в подобии улыбки.
– Преподавать? Нет уж. У нас другие планы. Хвалить – это они все мастера. А деньги за учёбу я платил не за похвалу, а за знания. Получила диплом?
Яэль подходит к матери, позволяет себя поцеловать в лоб, потом поворачивается к отцу, стараясь говорить серьёзно.
– Получила, папенька. Я могу вести двойную бухгалтерию, составлять отчёты для акционерного общества и рассчитывать себестоимость камня с точностью до копейки. Мне это интересно.
Шимон, наконец откладывает счётную книгу и смотрит на неё поверх очков.
– Интересно? Числа – это не для интереса. Числа – это честность. Или ложь. В них вся правда о деле, и о человеке. Ты поняла это? Наёмный бухгалтер считает мои деньги и думает о своём жалованье. Ты будешь считать деньги своей семьи. Ты поняла разницу?
– Я поняла, папенька. Это доверие. И честь для меня.
Руфь поглаживает руку Яэли.
– Шимон, не запугивай ребенка. Она и так все понимает. Яэль, дитя моё, ты теперь образованная девушка. Но не забывай, чья ты дочь. Твои знания – не для того, чтобы щеголять ими перед какими-нибудь курсистками и нигилистками. Они для дела семьи. Для нашего благосостояния.
– Я не забываю, маменька. Но на курсах все говорят о переменах. В городе волнения. Говорят, что скоро все может измениться, что женщины теперь могут…
Шимон резким жестом обрывает её.
– В городе говорят много глупостей. Они смутьяны без рода и племени хотят все сломать. А что они построят? Ничего. Только погромы и разорение. Наши дела – это наш дом, наша община, наш бизнес. Это то, что мы построили своим трудом. А не их идеи, за которые они готовы чужие жизни положить. Ты слышала, что в Одессе было? В Киеве? Нет? Так я тебе скажу: кровь и слезы. И в основном – наши слезы. И наша боль.
После секундного тяжёлого молчания Руфь тихо.
– Шимон прав. Мир полон опасностей. Наше дело – хранить свой мир от тлетворного влияния. Твой отец не доверяет чужим не потому, что он жадный, а потому что он осторожный. Осторожность сохранила наш род веками. Твоя учёба – это тоже осторожность. И большая мудрость.
Шимон смягчаясь и улыбаясь.
– Завтра ты поедешь со мной в контору на Токовке. Я покажу тебе учетные книги. Ты начнёшь с малого. И никто. Слышишь, никто из служащих не должен знать, что учет ведёшь ты. Для всех ты – моя дочь, которая помогает отцу разобрать почту. Понятно?
Яэль кивает, её первоначальная восторженность немного угасла, сменившись чувством огромной ответственности и лёгкого страха. – Понятно, папенька.
– И в субботу нет никаких чисел. В шаббат никаких чернил. Твои книги подождут до воскресенья. Сначала – вера, потом – дела. В этом наша сила. Не в их конституциях.
– Я помню.
Руфь встаёт от шитья.
– Иди, умойся, отдохни. Скоро зажжём свечи. И не думай о грустном. Ты сделала нас очень счастливыми. Ты наша опора. Наша умная девочка.
Яэль кивает и выходит из гостиной. Её походка уже не такая летящая, как при входе. Она ощутила на своих плечах весь груз ответственности, страхов и надежд своей семьи.
Яэль после курсов повзрослела и теперь обычные предметы в их доме начали казаться ей архаичными не прогрессивными: диванная, керосиновые лампы, старая печь и примус. Туалеты в гимназии Марии Красножон были чугунные эмалированные белой эмалью, с водопроводом и канализацией. А дома даже зимой надо бегать во двор к сараям. Ей хочется на волю, на простор и она упросила отца на следующий день взять её в Токовский карьер.
Воздух в конторе токовского карьера был густым от запаха пыли, старой бумаги и острого запаха чернил. Яэль робко переступила порог, представилась клерку, присланному отцом, и села за высокий конторский стол, где её уже ждали кипы счётных книг и папок с накладными. Цифры плясали перед глазами, но её внимание отвлекал настойчивый, скрипучий железный скрежет, доносящийся снаружи. Он был похож на песню гигантского сверчка, заглушающий все остальные звуки.
Сердце заколотилось от любопытства. Отец говорил ей сидеть в конторе, но она не выдержала. Сказав клерку, что выйдет на минутку подышать, она направилась к источнику звука.
Обогнув здание конторы, она замерла, поражённая.
Перед ней открылся цех обработки камня – огромный навес, под которым царил шум и движение. Но это был не хаос, а мощный, упорядоченный ритм труда. И главное – камень. Везде камень. Громадные, шершавые глыбы чёрного, тёмно-серого камня, которые она теперь знала, назывались габбро-амфиболит. Они лежали, как спящие древние животные. Другие, уже распиленные на гигантские плиты разных размеров ждали распиловки. Некоторые полированные блестели на солнце как зеркало. Воздух дрожал от лязга железа о камень, гудел от работы ручных и паровых механизмов, был наполнен едкой каменной пылью, которая ложилась на её причёску и на щеки.
Яэль стояла как зачарованная. Она влюбилась. Влюбилась сразу, бесповоротно и страстно в эту мощь, в эту вечную, первозданную силу, которую люди укрощали своим трудом.
И её взгляд упал на него.
В стороне, у отдельного стола, работал молодой парень. Спина и торс его были обнажены и загорелые до темно-бронзового цвета, мышцы играли под кожей с каждым ударом. В его руках была троянка – стальное тесало с тремя гранями. Он не просто рубил камень, он ваял. Сосредоточенно, с титаническим усилием и в то же время с невероятной грацией он откалывал от глыбы кусок за куском, и из бесформенной массы начинала проступать какая-то форма. Яэль не понимала, что именно он создаёт – то ли животное, то ли элемент фасада, – но сам процесс заворожил её.
