Лицей 2025. Девятый выпуск
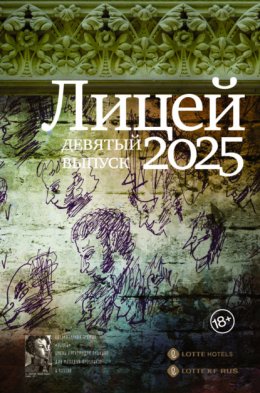
© Павлова С., Баснер А., Бабина А., Калашников С., Крылова Ю., Затонская М., тексты
© Андерсен М.Б., предисловие
© Григорьев В., предисловие
© Аствацатуров А., Маркина А., предисловие
© Бондаренко А., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
Упомянутый в книге Олег Тиньков в соответствии с российским законодательством признан иностранным агентом или лицом, выполняющим функции иностранного агента.
В логотипе премии “Лицей” используется гравюра В.А. Фаворского “Пушкин-лицеист”, 1935 г.
В оформлении переплёта использованы рисунки Арсения и Леонида Тишковых
Обращение Генерального директора АО «ЛОТТЕ РУС» Мортена Бундгорда Андерсена
Дорогие друзья,
талантливые авторы,
вдохновлённые творцы!
Девятый выпуск литературной премии «Лицей» имени Александра Сергеевича Пушкина – это не просто сборник текстов, это живой диалог поколений, смелый эксперимент, искренний разговор с миром.
Каждая строчка, присланная на конкурс, – это частица души, отважный шаг навстречу читателю, попытка сказать то, о чём нельзя промолчать. Вы – молодые прозаики и поэты – не просто пишете, вы создаёте новые миры, находите неожиданные слова для вечных тем, дарите нам, читателям, возможность увидеть привычное иначе. И в этом – ваша сила, ваша магия.
Ваши тексты – это не чернила на бумаге. Это – нервные импульсы, зашифрованные послания, крики и шёпоты, которые кто-то, листая страницы, примет как свои. Вы не сочиняете. Вы разгадываете мир и оставляете нам, читателям, подсказки.
Спасибо вам за смелость, за честность, за доверие к слову. Литература начинается там, где есть мужество быть собой, и вы доказали, что обладаете этим качеством в полной мере. Пусть ваши тексты находят отклик, пусть каждая новая страница приносит радость открытия, пусть ваши имена звучат всё громче.
Пускай премия «Лицей» станет для вас новой ступенью, а ваши творческие пути будут долгими и счастливыми. Вперёд, к новым историям, к новым стихам, к новым победам!
Генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС»
Мортен Бундгорд Андерсен
Похищенные у стихии и приведённые в гармонию звуки
Мы умираем, а искусство остаётся.
Его конечные цели нам неизвестны
и не могут быть известны.
А.А. Блок «О назначении поэта»
Шестого июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Красной площади традиционно были названы имена лучших молодых поэтов и прозаиков – лауреатов девятого сезона премии «Лицей». За эти годы «Лицей» из единственной российской премии для молодых авторов превратился в одну из самых престижных наград страны. В 2025 году в секретариат премии поступило 2028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира. 338 претендентов на одно призовое место!
Популярность и качество премии подтверждают и издательства, которые забирают в свои портфели произведения «лицеистов» уже на этапе длинного списка. Многие финалисты и лауреаты премии «Лицей» хорошо известны не только профессиональному сообществу. Книги Аси Володиной, Екатерины Манойло, Ислама Ханипаева, Варвары Заборцевой, Алексея Колесникова, Анны Чухлебовой и многих других выходят в лучших издательствах России, они – желанные гости книжных фестивалей и многочисленных литературных событий по всей стране. Рад, что для молодых талантливых авторов «Лицей» действительно стал трамплином в большой мир, мир читательской любви и признания коллег по «цеху».
Думаю, членам жюри девятого сезона премии «Лицей» – писателю, профессору Санкт-Петербургского государственного университета, директору Музея Владимира Набокова Андрею Аствацатурову (председатель жюри); прозаику, финалисту премии «Большая книга» Дарье Бобылёвой; писателю, поэту, главному редактору «Литературной газеты» Максиму Замшеву; поэту, прозаику, лауреату восьмого сезона премии «Лицей» Анне Маркиной; редактору, эксперту образовательных программ арт-кластера «Таврида» Алексею Портнову и литературному обозревателю Елене Чернышёвой – было очень непросто сделать свой выбор. Но уверен, им было интересно: произведения «лицеистов» – это всегда погружение в мир современной молодой литературы. В этом году жюри отметило специальными дипломами двух финалистов: поэта Артёма Ушканова «за смелость проследовать путём Данте» в его «Больничной поэме» и Варвару Заборцеву со сборником малой прозы «Марфа строила дом» – «за умение слышать и понимать других».
Первое место в номинации «Поэзия» занял Сергей Калашников из города Павлово Нижегородской области со сборником стихотворений «А вот они». В стихах Калашникова можно найти и чеканный ритм пастернаковских поэм, и отсылки к произведениям футуристов начала ХХ века. При этом его поэзия живая, выстраданная и отражает сегодняшнее время. На втором месте – сборник стихотворений «Светочувствительность» Юлии Крыловой из Москвы. Это зрелые и местами неожиданные стихи, с метафизикой и множеством деталей, лаконичные и цельные, очень личные и отстранённые одновременно. Третий приз получила Мария Затонская из Сарова. Её сборник «Свидетель» наполнен символизмом и недосказанностью, остротой мировосприятия, чуткостью по отношению к языку, к слову и к жизни.
Первое место в номинации «Проза» заняла Светлана Павлова (Москва) с романом «Сценаристка». Крепкий, динамично развивающийся сюжет, отличные диалоги, яркие и живые персонажи – уверен, читатели полюбят этот роман. Второе место – у Анны Баснер (Москва) за повесть «Последний лист». Писательница мастерски выстраивает сюжет, ювелирно работает со словом и стилем. Семейная история, полная тайн, поступки и компромиссы, целью которых было благо, а результатом оказались боль и разочарование. Третье место жюри отдало Анне Бабиной из Санкт-Петербурга за роман «Знаки безразличия». Можно ли выйти победителем из схватки со злом, когда на его стороне всеобщее безразличие? Когда серия убийств потрясает маленький город, главная героиня пытается защитить безвинных. Детектив, леденящий кровь, но одновременно – глубокая, человечная история о неравнодушии.
Представляя читателям произведения лауреатов девятого сезона «Лицея» – глубоко личные и очень разные, во всём многообразии жанров и форм, – отмечаем, что авторов интересуют и волнуют поиск и изучение корней, осознание собственной идентичности (семейной, профессиональной, личностной, исторической, поколенческой). Они взрослеют: осмысляют социальные и исторические закономерности, ищут сюжеты, героев, язык, способы повествования, которые бы позволили им уже сейчас зафиксировать то, что ещё не стало историей. Без преувеличения можно сказать, что за ними – будущее русской литературы. Открывайте для себя новые имена и истории! Наслаждайтесь свежестью и многогранностью молодой литературы!
Неизменная благодарность за поддержку и творческое сотрудничество южнокорейской компании «ЛОТТЕ», Российскому книжному союзу, Литературному институту им. А.М. Горького, «Российской газете», «Литературной газете», а также нашим информационным партнёрам во главе с информационным агентством ТАСС. И, конечно, всем неравнодушным – литераторам, критикам, издателям, библиотекарям – всем ценителям отечественной словесности.
Владимир Григорьев
Обрести своё «я»
Знакомясь с прозой молодых российских авторов, финалистов премии «Лицей», я вспоминал, как начинали классики ХХ века: Хемингуэй, Набоков, Апдайк, Томас Манн, Булгаков. В их первых опытах проступала безоглядная смелость, граничившая с дерзостью, вызывающая неуклюжесть, мощная художественная интуиция, заряжавшая слово невероятной энергией. Их тексты фиксировали мучительный психологический и философский поиск, этап перехода, ситуацию становления писателем, когда постепенно исчезает инфантильный эгоцентризм и ты позволяешь языку, а вместе с ним и традиции тобой овладеть. Молодой писатель всецело занят современностью, потоком богатой жизни, которая его окружает, однако прошлое, ушедшие исторические эпохи уже начинают обретать отчётливые контуры в его образах и сюжетах. Он ещё пребывает во власти травм, психологических, социальных, эстетических, захватывающих его художественную материю, но тем сильнее звучат в его текстах насущные вопросы: что есть человек? каким способом, каким внутренним усилием ему удаётся обрести своё «я» и его не потерять?
Очень скоро этап становления проходит, и наступает зрелость. Темп творческого процесса замедляется. На смену интуициям воображения приходит мастерство, овладение приёмами. Современность перестаёт быть дикой, обнажённой и накрепко связывается с историей. Исследование травм, любование ранами сменяется сдержанным раздумьем. Формируется связная картина мира, и с ней является мировидение, оптика, позволяющая сочинять внятно и размеренно. Приходит успех, а возможно, и премии, награды. Но что-то, когда ты наконец обрёл статус писателя, теряется. Что-то важное, неуловимое, едва ли способное вместиться во внятную письменную речь.
В текстах лауреатов премии «Лицей» я различаю свидетельства этого процесса. Прежде всего, их безусловная заслуга – пристальное внимание к современности. Российская литература последних двух десятилетий большей частью пренебрегала современностью и была занята преимущественно историческим прошлым. Наши ведущие авторы как будто редко говорили о текущем моменте, который, вероятно, до последних лет виделся им летаргическим безвременьем. Впрочем, это была лишь уловка. Писатели предъявляли нам настоящее, хоть и косвенным манером, используя знаки прошлого. Мемуаристы, вопреки расхожему мнению, всегда рассказывают о том, что чувствуют сейчас, а не о том, что чувствовали когда-то. В прозе лауреатов премии «Лицей» этой уловки нет. В ней присутствует жизнь именно здесь и сейчас: её реалии, её реквизит, её физиология. Современность скрупулёзно исследуется и обретает собственную речь. Но, что существеннее, «лицеисты» не забывают о прошлом, которое в их текстах неумолимо о себе заявляет.
Не менее важная черта творчества в текстах лауреатов премии «Лицей» – психологизм. Русская классическая литература, как известно, достигла вершин в исследовании глубины человеческого духа, и «лицеисты» в этом смысле оказываются наследниками её традиций. В их прозе психологические коллизии ни в коем случае не вытесняются сюжетностью. Они разнообразны, интересны, динамичны, равно как и сами персонажи, которые выглядят не картонными, а живыми и многомерными. Читатель может с ними поговорить, похлопать их по плечу, осудить или одобрить.
Настоящий сборник предлагает читателям три прозаических текста. В романе Светланы Павловой «Сценаристка» основным триггером сюжета оказывается травматичный страх заразиться ВИЧ. Однако он не парализует героиню, а, напротив, отворяет для неё дверь в прошлое, откуда являются колоритно выписанные мужские и женские персонажи. Перед читателем разворачивается серия увлекательных, энергичных фрагментов. Следуя выбранному чёткому ритму, Светлана Павлова создаёт аскетичную, жёсткую прозу, избегая многословия и ненужных украшений. Проблематика, рождённая экзистенциальной тревогой, вращается вокруг идеи тотальной дискоммуникации людей. Персонажи не слышат друг друга и неверно друг друга «прочитывают». Примирения, адаптация к другому невозможны – в противном случае личность себя теряет. Напряжение в романе Светланы Павловой неуклонно возрастает и достигает своей кульминации в финале, где героиня приходит к согласию с собой, со своей сущностью.
Повесть Анны Баснер «Последний лист» отчасти обыгрывает те же мотивы, хотя выполнена она в совершенно иной стилистической манере. Психологические и социальные коллизии здесь уложены в яркие, пластичные образы, сильные метафоры, раскрывающие в духе Набокова незаметные связи между вещами. Перекличка времён усиливает драматическое напряжение, заставляя героиню задуматься об острых экзистенциальных вопросах: как победить абсурд и агрессию окружающей жизни? как остаться собой в ситуации, когда невозможно сделать выбор и принять ответственность за своё существование, не перекладывая её на других? Героиня на протяжении повести стремительно взрослеет и в финале обретает сходство с идеалом, завещанным Альбером Камю, – бунтующим человеком.
Анна Бабина в романе «Знаки безразличия» помещает свой художественный материал в строго выверенные рамки самого массового жанра – триллера. Расследование серийных убийств разыгрывается здесь в декорациях кампусного романа с реалиями современной академической жизни – основным местом действия оказывается небольшой провинциальный университет, студентки которого на протяжении многих лет становятся жертвами маньяка. Анна Бабина грамотно выстраивает интригу, усиливая с каждой страницей напряжение, как и положено в триллере. Однако острота сюжетных коллизий нисколько не мешает ей создавать психологически убедительные характеры. Расследуя преступления, заглавные персонажи романа оказываются в ситуации серьёзного выбора. И здесь они болезненно переживают старые психологические травмы, неустроенность собственных жизней и некоторый разлад с окружающим миром. В финале в мир возвращается долгожданная гармония, но она не снимает сложность проблем, которые терзают персонажей.
Проза финалистов премии «Лицей» представляется мне чрезвычайно занимательной и многообещающей. Умение решать сложные художественные задачи впечатляет. Надеюсь, что наш читатель по достоинству оценит эти интересные и талантливые тексты.
Андрей Аствацатуров,
председатель жюри премии «Лицей-2025»
За время существования премии «Лицей», а это уже почти десятилетие, многое изменилось. И хотя поэзия в целом по-прежнему переживает сложные времена, будучи оттеснённой на задворки книжного рынка, ситуация начинает перестраиваться. Ведут к этому и глобальные потрясения, которые переживает наше общество (людям нужен проводник через запутанные эмоции, стрессы и перегруженное информационное поле, в роли которого поэзия может выступать), и меры поддержки – такие, как премия «Лицей», книжные фестивали, гранты на творческие программы.
Но важную роль играет и само творческое поведение писателей. В нулевые годы поэтическое пространство раскололось – в нём, разумеется, находилось место самым разным проявлениям, поэтикам, интересам, но глобально оно разделилось на два противоборствующих лагеря: замкнутые профессионалы, которые все как один метили в вечность, но в моменте ощущали себя забытыми и ненужными, и молодые представители (чаще – представительницы) сетевой лирики, что собирали концертные залы, давали интервью глянцу, но не имели заметной художественной ценности с точки зрения первых. Эти два образных представления проплыли и через десятые годы – к тому моменту подросло поколение сегодняшних тридцатилетних. Формировалось оно в бесконечной системе семинаров и писательских форумов, которые вели в основном редакторы толстых журналов. Туда приезжали с блоком сигарет, обязательным любовным интересом, канистрой коньяка и ощущением собственной избранности и одновременно отверженности. Журналы и сами переживали кризисные времена – они тосковали о прошлом: о миллионных тиражах, о том, как они когда-то печатали классиков, о налаженной системе сбыта, канувшей в лету. Что они могли сообщить молодым людям, и так травмированным девяностыми? В общем-то, ничего обнадёживающего: мы не сдаёмся, мы вместе, но мы заброшены на окраину неприятного капиталистического мира. И образ вечно страдающего поэта, который от нелюбви (как тотального ощущения такой заброшенности) только и делает, что мучается на этом свете, неважно, пишет он понятную силлаботонику или эпатажные телесные верлибры, продолжал укрепляться.
В двадцатые годы мироощущение молодых поэтов меняется. То ли дело в том, что в литературу пришло новое поколение, которое не застало распада СССР и бандитских девяностых, – они умели прислушиваться к себе и оставаться в ладу с окружающим миром (таковы, например, стихи Василия Нацентова и Варвары Заборцевой – лауреатов прошлых лет). То ли в том, что в обществе наконец заговорили о здоровье и избывании собственных травм, и педалирование локальной несчастности перестало быть модным. То ли на фоне военных действий личное горе стало ощущаться как локальное, и авторы наконец решились посмотреть не только внутрь себя, но и вокруг. Российская поэзия вдруг стала более гостеприимной для читателя – она, разумеется, по-прежнему черпает и из тёмных уголков души, но в ней проявляются и другие оттенки, в том числе сострадание к себе и чужим. Поэзия перестала впадать в крайности, возводить в культ страдание. В ней уже не чувствуется прежней болезненной спаянности по лагерям, изданиям и группам, но и не происходит борьбы между творческими представлениями. Водораздел теперь проходит по ценностным ориентирам, политической и человеческой позиции авторов. Постепенно уравновешиваются фланги – стирается деление между интеллектуальными и эмоционально доступными текстами. И в премиях всё чаще побеждают молодые профессионалы – люди с литературной биографией, выучкой, жизненным опытом и определённой репутацией. Их стихи, с одной стороны, понятны обычным читателям или блогерам, с другой стороны, цепляют коллег, которые могут оценить их тайное устройство. Такова вся тройка победителей этого сезона.
Мария Затонская публиковалась почти во всех толстых журналах, отмечена несколькими премиями и стипендиями Форума молодых писателей Фонда СЭИП, а также является главным редактором журнала «ПРОЛИТКУЛЬТ». Юлия Крылова вела рубрику о современной поэзии в журнале «Лиterraтура», получала стипендию Союза писателей Москвы, и у неё вышла книга в «Воймеге», одном из самых заметных поэтических издательств. Сергей Калашников окончил Литературный институт им. А.М. Горького (по итогам дипломной работы издательство Литинститута выпустило его книгу) и тоже публиковался в журналах.
В стихах Сергея Калашникова подкупает музыкальность, свежесть интонации и творческая свобода. Всё это, случается, пропадает с филологическим образованием и взрослением поэта, так что особенно ценно, когда Литинститут не закрепощает поэтику, а позволяет ей обрести разнообразие. Калашников разрешает себе дурачиться, экспериментировать, отдаваться музыкальному потоку и с подростковым любопытством следить, что из всего этого получится. Вот он начинает стихотворение с перемешивания букв в первой строке: «когад я ыбл тогад бюльов ылба / твоё лицо мне снилось и казалось». Вот он вводит в контекст то сленговое словечко, то образ из мема: «ощущая воздействие литерали всего / составляя деепричастный отказ от прав / я выходил смотреть новокосино / было тревожно. в этой одной из глав», «столетия, минуты, правда, честь, / и даже денчик, не успевший слезть – / всё скоро обретёт формат былин / и мир замрёт. и мы покончим с ним». Он позволяет себе закончить то странноватым аграмматизмом, то переписочным «ахаха»: «и плачет, до чего нелепый вид / как твой любимый? умер или спасся? / январь, в подсобке радио язвит / и всё. стихи бумагой пахнет мясо» или «люди куда-то шли, и наверняка / не успевали, может ты зря спешишь / я уставал смеяться и всем мешать / солнце всходило наискось, ахаха». Именно эта обаятельная разнузданность, слэмовость и лёгкая безуминка обращают на себя внимание. В этом смысле высшей точкой подборки предстаёт текст «я опроверг теорию теорий», где с цепкостью и остроумием Калашников выдумывает самые разные теории, жонглируя при этом формальными приёмами – переходя от белого стиха к рифмованному, смешивая лексические и смысловые пласты, обретая гипнотическое звучание на повторах. Всё здесь живёт и развивается:
- – теория уныния
- мне грустно и хочется всю жизнь лежать в снегу
- теория ненужности дефисов
- – теория уместности собак
- – теория о нераскрытых смыслах
- она про то что так вам и сказал
- – яироет хынтарбо йинасипан
- – теория ежей
- представьте: ёж
- – теория звонков и отражений
- в ней портят то что вовремя крадут
- – теория рерайтов
- о рерайтах
- – теория фашистов
- бог фашист
- – теория влияния повторов
- на психику. часть первая: повтор
- – теория влияния повторов
- на психику. вторая часть: повтор
У Юлии Крыловой, пожалуй, самая разнообразная поэтика среди финалистов. В отличие от Калашникова, который опирается прежде всего на сценическое звучание, Крылова ближе к негромкой журнальной лирике. Её стихи несут в себе широкий культурный контекст, тематическое разнообразие и техническую ладность. Она пишет как традиционным для русской поэзии рифмованным силлаботоническим стихом, так и верлибром. Такую поэтику можно назвать постакмеистичной. Её образуют точные бытописательные детали, которые несут большую символическую нагрузку: например, чемодан, «похожий на гробик», в стихотворении про заболевшего ребёнка передаёт дикий родительский страх, не называя его: «Ангина, ночь и горло всё в Люголе. / Дитя не то что истину глаголет – / молчит. Родители кричат. / Отцовский чемодан стоит в прихожей, / на гробик детский сбоку так похожий, / поставлен в середине аккурат». Крыловой свойственно тихое ахматовское внимание к людям и природе: «Здесь с кладбища захваченная ива / внезапно прижилась и бересклет / раскрыл свой клюв, впитавший летний свет, / куриной слепотой стал, говорливой». Но это не отменяет проскальзывающей иронии, которая удивляет и на которой может строиться образ всего текста. Так элегантное стихотворение про пылесос втягивает в себя ворох литературных ассоциаций (тут и Гончаров, и Тургенев, и Чехов, и Достоевский):
- Движутся в комнате
- только стрелки часов в кармане,
- от фамильного чайника
- согревающий белый пар;
- завернувшись в шлафрок
- цвета высушенного шафрана,
- крепостного звать будешь:
- «Захар-Захар!»
- Шумно шаркая явится
- белобрысый шайтан-машина,
- бакенбардами-щётками
- заметающий всякий сор,
- как Герасим молча,
- просканирует господина,
- словно Фирс позабытый,
- он укатится в коридор,
- а представь, он себя
- Смердяковым вообразил и,
- логике подчиняясь,
- как безликому божеству,
- как в семнадцатом,
- барин, поднял бы тебя на вилы,
- словно временем скорым
- скошенную траву.
Главные черты поэзии Марии Затонской – чуткость и чувственность. Хотя при слове «чувственность» часто представляется что-то раскрепощённое, женское, телесное, у Затонской чувственность иная – это, скорее, желание глубоко прислушиваться к миру и к себе, пропускать через собственное эмоциональное восприятие каждую малость мира, каждую его подробность: «голые ветки в которых хрустели синички», «Зимний дым из трубы длинен, горизонтален, / звёзды тонкие, как ушко игольное», «Это снег в пансионате, / это человек в ботинках / ходит по тугим сугробам / и печаль свою хрустит…» Лирическая героиня пытается вникнуть в неуловимое, от чего шум жизни нас постоянно отодвигает, словно слушанье происходит с далёкого края поля: «какие приглушённые леса / сюда въезжаешь время узнавая / и человек на том конце полей / вникает в исчезающие звуки». При всей внешней лёгкости такие стихи требуют большого мастерства и отточенности словоизбирательного аппарата. Только кажется, что «хрустящие» синички – это просто, на самом деле они требуют многих лет художественной настройки. Поэтика Затонской напоминает тонкую паутинку в утреннем лесу с росой и солнцем – что-то очень хрупкое и невесомое на первый взгляд, но, бывает, приглядишься, замрёшь и увидишь в ней всю её сложность и через неё – красоту бытия.
- Дед не касается её платьев:
- это последнее, что осталось
- после раздачи кастрюль, полотенец,
- колготок капроновых в мелкую сетку,
- она в них, наверное, сильно мёрзла.
- А вот это зелёное в крупный цветок
- я всегда говорила, что заберу,
- и она обещала:
- вырастешь и наденешь,
- и лето замерло за окном,
- и до дома идти пять минут пешком.
Радостно, что премия «Лицей» и в целом литературная среда открывают широкой аудитории новый образ поэта, для которого существует не только он сам с его болью, страстями и метаниями, но и другие люди, природа, общественные механизмы. Объекты, что притягивают внимание автора, могут быть совершенно разными, но они перестали быть одной общей свалкой, к которой все гурьбой бегают разбирать ржавые гвозди. Разные техники сосуществуют рядом, иногда даже – в поэтике одного автора. Литература больше не состоит из постмодернистской иронии и обесценивания, а позволяет себе всё сразу – и нежность, и игру, и печаль, и надежду. В последние годы поэзия, словно вышедший из депрессии человек, разрешает себе просто существовать, без бесконечной вины и стыда, она не предъявляет к себе невыносимых требований, что, пожалуй, в некоторой степени освобождает её.
Анна Маркина,
член жюри
Первое место
Номинация Проза
Светлана Павлова
Сценаристка
Фрагмент романа
Работа над романом велась в Доме творчества «Переделкино».
Полная версия романа выйдет в «Редакции Елены Шубиной».
Они познакомились через «Авито». Было так.
Зоина школьная подруга Ира, эмигрировавшая в Берлин, попросила помочь разобрать вещи в её квартире, чтобы можно было сдавать чужим людям. Честно говоря, Зоя не была этому рада. После Ириного отъезда в их отношениях что-то сломалось. Телефонные разговоры случались всё реже. Она кидала мемы, смысл которых Зоя уже не могла понять. Каждый раз, когда она писала «го созв?», Зоя ловила себя на мысли «как же мне лень». Изредка инициатором этих созвонов выступала сама. Но только из чувства долга. Из чувства вины.
Ира и Зоя были знакомы тысячу лет. На прошлый Новый год Ира подарила Зое пластыри от натоптышей, её любимый кондиционер для белья с запахом лаванды и пробку для ванной – потому что была в курсе, что Зоина потерялась и оттого дыру слива та затыкала носком. Кто-то пошутил тогда: какое доскональное понимание потребностей быта! Наверное, это и называется словом «близость».
Но близость ушла. Её заменили сложности эмигрантской жизни. В иерархии проблем они стояли явно выше Зоиных сложностей, поэтому на Зою уделялось пятнадцать минут. Она слышала в ухе боязливое «Ну а у вас там чё-как?». Никогда не у Зои лично, а у коллективного «вас». Зоя рассказывала. Ира слушала, параллельно шурша распаковкой «Икеи».
Однажды Ириного мужа Стаса уволили. Он ни в чём не провинился, просто в их компании отменили удалёнку и настояли на том, чтобы все снова работали из московского офиса. На фоне увольнения у Стаса случилась депрессия. Новая работа не приходила, ведь чтобы пришла, нужно врать на собеседовании, а враньё отнимает ресурс. Тогда Ира решила сдать свою московскую квартиру, для чего и попросила Зою разобрать вещи. Что-то – на свалку, что-то – будущим жильцам, что-то – «пожалуйста, пусть пока побудет у тебя». В этом «пока» было столько надежды.
У кого-то из них в тот день сбоил интернет. Зоино видео подвисало, Ирин голос прерывался. Зое приходилось по несколько раз показывать одно и то же и уточнять комментарии подруги. Происходящее страшно злило Зою, а ведь они не разобрали ещё и половины шкафа.
Зоя попросила кофе и перекур, во время которых узнала хоть что-то интересное для неё: что делаем с книжками? Ира пожала плечами: либо забери себе, либо продай на «Авито» и отдай деньги на благотворительность.
Зоя оглядела полки, но быстро поняла, что из библиотеки Иры и Стаса ей нечего забирать. С Ирой у них были схожие вкусы, но в последнее время она жаловалась на усугубившийся минус и перешла на аудио. А Стас окончил философский факультет МГУ и читал такое, что Зоин мозг вряд ли когда-нибудь смог бы осмыслить. Она рассматривала шкаф, заставленный умными книжками, выпущенными «Ad Marginem» и «Издательством Ивана Лимабаха», и понимала, что, ясное дело, никогда в жизни их не откроет. Или откроет, но не продвинется дальше седьмой страницы. Сделает их декором своей квартиры, способом производить впечатление на новых гостей. Будет жить, униженная интеллектом Стаса.
К чёрту, подумала Зоя. И выбрала благотворительность.
Она провела несколько вечеров, бережно протирая книги и фотографируя их. На этапе выкладки на «Авито» мучительно долго пыталась понять, какую цену назначить каждой. Все они были в идеальном состоянии: Стас относился к книжкам бережно; не то что Ира – она и учебники универской библиотеки не стеснялась перелистывать слюнявым пальцем, загибать уголки страниц и даже читать в ванной.
Вопрос с ценой дался особенно сложно. Какую поставить? По количеству страниц? Смешно. По востребованности? Но как понять, кто сейчас популярен? И вообще. Кто Зоя такая, чтобы в рублёвом эквиваленте оценивать Дерриду, Жижека и Ги де Бора. Короче, назначила каждой пятьсот рублей.
Книги ушли быстро. Большую часть забрал дед-букинист. Естественно, сумасшедший. Ну, такой, приятно-сумасшедший. Приехал быстро, всего через сорок минут после публикации объявления. Зоя вынесла ему книги к метро: тащить было тяжело, но звать незнакомца прямо в квартиру не хотелось. Катила в чемодане. Дед перебирал стопки на лавочке – натурально – с вожделением. По его многочисленным вопросам «Вы уверены, что хотите это отдать?», Зоя поняла, что «Дом с Маяком» и «Ночлежка» получат гораздо меньше, чем могли бы.
По итогу осталась небольшая стопка, которую Зоя забрала домой. Основанием стопки был «Киногид извращенца» Славоя Жижека. «Жижек – база», – наверное, пошутил бы в этом случае Стас. Но Зоя не знала, пошутил бы или нет: в философии она не понимала.
Однако, видимо, понимал пользователь с ником SuperYan.
Его сообщение отдавало сильным волнением.
Я куплю всё!!!!!! Могу перевести аванс!!!!!! Или заранее оплатить всё!!! Умоляю, никому не отдавайте!!!!!!!!!!
Зоя решила не раскрывать карты и не объяснять пользователю SuperYan, что он пока единственный интересант. И сухо написала: окей. Он спросил Зою, когда и где они могут увидеться. Погода была такой противной, что Зоя, позабыв о мерах предосторожности, назвала ему адрес.
Уже после того, как они договорились о встрече, Зоя догадалась проверить его профиль: маньяк или нет. Но ничего страшного не увидела. Пара айфонов, нотные сборники. Скукота.
Поплыла Зоя сразу, еще пока он был тоненький и размытый в дверном глазке. Вживую же – зонт-трость, серый костюм-тройка, узконосые рыжие туфли, крупные черты лица.
– Здравствуйте. Меня зовут Ян. Простите, бога ради. У меня плохо с технологиями, всё время забываю заряжать телефон, а без карты тут совсем заплутал. И ливень этот… Но я зато вам кое-что принёс.
– Ого, «Рафаэлло»! Обожаю, – сказала Зоя.
«Рафаэлло» Зоя терпеть не могла.
– А у вас ещё столько интересных объявлений было. Совсем редкие штуки, таких не найти в магазинах. Я добавил в «избранное», но увидел, что уже снято с публикации.
– Да, вас букинист один опередил.
– А почему продаёте?
Ян был так красив, Зое не хотелось его разубеждать в том, что она настоящая хозяйка библиотеки. Поэтому она расплывчато ответила:
– Пытаюсь порвать с прошлым.
Он какое-то время делал комплименты – уже своим – находкам, а она слушала и плыла. Обуваясь, Ян заприметил проигрыватель в углу комнаты.
– Любите музыку?
– Ну так, по настроению…
Он, кажется, хотел ещё что-то сказать, но не сказал.
Весь вечер Зоя думала о нём. Мужчине с необычным именем Ян, в костюме-тройке. Чем он занимается? С кем живёт? Кто его друзья? И главное: почему он не попросил её номер телефона?
Зоя села в кресло, поставила пластинку Анны Герман и приготовилась страдать.
- А вокруг ни машин, ни шагов,
- Только ветер и снег.
- В самом центре Москвы
- Не заснул человек[1].
Наутро Зое пришёл отзыв: «Прекрасный продавец с прекрасным ассортиментом». А через пятнадцать минут прямо в мессенджере «Авито» сообщение: «Выпьем вина?».
Сначала Зоя заорала от радости. Потом с ужасом подумала, что надо срочно проверить свой профиль. Пока листала брендовые, времён работы в банке, платья, гантели, отцовский гараж, бабкину сумку-тележку (что-это-делает-среди-моих-объявлений), думала: вот она, самая правдивая социальная сеть. Всё про человека сразу ясно, кто он и что он.
Позже Зою осенило, что в ситуации нет ничего хорошего. Ведь, в сущности, Ян звал пить вино не её, а Стасову библиотеку. В этом Зоя ему призналась за третьим бокалом. До третьего вещал он. Рассказывал жизнь.
А именно: последний курс консерватории по классу фортепиано. Параллельно – подготовка ко второму высшему, на дирижёрский факультет. Дирижёром был дед. С бабушкой – пианисткой – познакомился в оркестре. Мать – концертмейстер первых скрипок, отец – музыковед.
Ему же будет совершенно не о чем со мной говорить, грустно подумала Зоя. И сказала:
– Эти книжки – они не мои. Просто подруга эмигрировала и попросила квартиру разобрать для аренды. Это книги её парня, он с философского МГУ. Я в философии не особо. В музыке, кстати, тоже. Я вообще сценаристка.
– Так это же ужасно интересно – когда люди разные, – ответил Ян. И продолжил говорить о себе.
В разговоре он упомянул, что ведёт телеграм-канал с философскими мемами. Зоя спросила название. «Нагромождение смыслов»[2], – ответил он. Зоя взяла телефон и начала вбивать название в строку поиска, но поняла, что не помнит, как пишется слово «нагромождение»: через а или через о. «Тут не ловит, потом добавлю», – сказала она.
Уже оказавшись дома, листая перед сном его посты, в которых Зое было непонятно примерно ничего, она как-то вяло подумала, что за весь вечер Ян не задал ни одного вопроса. Но Зоя быстро отогнала эту грустную мысль. Она плыла. Чувствовала себя избранной. Зое хотелось любить. И она выбрала любить, а не думать грустную мысль.
На следующее утро Ян спросил, какие у Зои планы на майские. Она ответила, что едет с приятелями в Питер, и предложила заглянуть вечером в бар, откуда они по старой традиции привыкли стартовать в путешествия. Ребята взяли коктейли, Зоя – вино, Ян – водку. Он пил, Зоя любовалась. Как аристократично и по-русски, думала она.
Хотя Зоя и не особо любила Петербург, это было чистое счастье – предчувствие тепла, длинных выходных и любви. Зоя толком не могла участвовать в беседе, потому что её занимала мысль: как же всё-таки удивительно, что в огромном мире встретились два человека и понравились друг другу. Этого просто не может быть.
Но это было, точно было, и была даже пятая по счёту рюмка, после которой он сказал «а можно я с вами?». Зоя ойкнула от радости, а Сеня пробурчала что-то – мол, такие вот спонтанные путешествия – удел либо тотальных богачей, либо нищебродов с низкой социальной ответственностью. Нищебродом Ян не был. Зоя и так догадывалась по внешнему виду, а когда он заявил, что в Питере предпочитает останавливаться в «Гранд-Отель Европа», только довольно улыбалась. «Мы вообще-то хату сняли на Петроге», парировала Сеня. «Видимо, вам будет в ней менее тесно», учтиво ответил Ян, многозначительно посмотрев на Зою.
Сеня рвала и метала. Она любила Петроградку. Здесь несколько лет назад она провела почти два месяца, по итогам которых написала первый рассказ. Здесь же она впервые почувствовала, что однажды станет писательницей. Сеня говорила, что она оттуда вообще бы не выезжала, и даже спланировала расписание завтраков в своих любимых заведениях на районе.
Но Зоя не вникала. Она плыла.
И вот Петербург. Всё как обычно: мало спали, много пили. Шлялись. Город ещё к тому же будто поменялся с Москвой погодой: уезжали в ливень, а приехали в светлую весну. Не к чему было придраться, совсем. Разве что к игре в бумажки на лбу одним вечером. Ян кроме своего Вронского не знал ни одного из загаданных Зоиными друзьями героев: Зендая, Юра Борисов, Михаил Лабковский. Посмеиваясь, он спрашивал: кто все эти люди? Зоя в восторге восклицала: да ты живёшь в информационном вакууме! Друзья косились с недоумением.
В последний вечер поездки Ян, заглянув в Зоин чемодан, сказал, куда-то в воздух:
– У вас столько платьев с собой. Вы не все успели надеть. Останемся ещё на пару дней?
И они остались ещё на пару дней.
Да, он действительно обращался к Зое на «вы». А ещё читал стихи и писал записки от руки. Сунул денег водителю баркаса, чтобы тот не взял на борт никого и катал их двоих на рассвете. Нашёл ночной репититорий и играл Зое «из своего» в три утра.
С одной стороны, Зоя чувствовала себя женщиной из рассказов Бунина. Типа вот сейчас он возьмёт карету, повезёт её есть расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, пить шампанское. И Зоя будет есть – «с московским знанием дела». После – она в монастырь. Он – застрелится от любви из двух револьверов.
С другой, Зоя понимала, что слишком цинична, ехидна и зла, чтобы воспринимать это всерьёз.
Зоя не знала, как рассказать той же Ире, которая осваивает сортировку мусора и борется с берлинской бюрократией, что ей вчера декламировали Бродского на Мойке, а потом прямо на улице целовали ступни. К тому же порой это было просто-напросто несовместимо с её жизнью. Вот ты стоишь, потная и запыхавшаяся в ПВЗ «Вайлдбериз», матерясь на не ловящий в подвале интернет, а тут смс:
Зоя, куда вы пропали? Ваше сердце ко мне охладело? Или отныне вы предпочитаете общаться только путём передачи писем с сургучной печатью, на хорошо надушенной бумаге?:-)
Да, именно с этим смайлом.
Зоя не знала этих стихов, не знала этой музыки, не знала этих жестов. Эйфория обнимала её, возносила до небес. А потом приходила тревога и говорила прямо в мозг: так не бывает, будет расплата, держи себя в руках, ни на что не надейся.
С той поездки у Зои не осталось ни одной фотографии. Она специально их не делала. Чтобы потом не разорвалось сердце. Просто Зоя так живёт. В начале отпуска грустит о его завершении. В начале отношений – о расставании.
И всё-таки.
Dominus (do) – Господь.
Rerum (re) – материя.
Miraculum (mi) – чудо.
Familias planetarium (fa) – Солнечная система.
Solis (sol) – Солнце.
Lactea Via (la) – Млечный Путь.
Siderae (si) – небеса[3].
До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Господь. Материя. Чудо. Солнечная система. Солнце. Млечный Путь. Небеса.
Гармония, идеал, доказательство наличия в мироздании высших сил.
Зоя влюбилась.
Однажды Ян позвал Зою в гости к бабушке. Зоя пошутила – мол, а чего сразу к бабушке, минуя родителей. «А они все вместе живут. Просто отец сейчас за границей преподаёт. А у мамы роман новый; опять», – ответил Ян.
Богема.
Перед встречей Ян объяснил, что его воспитывала бабушка, пока родители делали карьеру.
– А её карьера?
– Из-за деда не полетело, он много гастролировал. Ему был нужен кто-то типа, как сейчас бы сказали, менеджера. Но ей бы больше понравилось – «муза маэстро».
– Вот так вот взяла и отказалась от амбиций?
– Ну почему отказалась. Быть музой маэстро – тоже амбиция.
– А потом?
– А потом дед умер. И амбицией стал я.
Они жили в высотке на Котельнической. Домработница трижды в неделю. Пять комнат, вмещающих непривычное после жизни в однушке (пусть и с высокими потолками) количество квадратных метров. Паркет ёлочкой, отполированный до блеска, хоть вместо зеркала смотрись. Лепнина. Зоя привыкла, что в жилых помещениях обычно четыре угла. Здесь в центральной комнате их было больше. А ещё на кухне был свой собственный мусоропровод. Как ни гнала Зоя дурную мысль, в голову лезла и лезла картина Лактионова «Переезд в новую квартиру». Наткнувшись взглядом на рояль «Steinway & Sons», Зоя испытала неловкость за подмоченные лужей колготки.
Увидеть инструмент живьём так близко Зое довелось впервые. По-детски захотелось нажать на клавишу. Указательный палец утонул в «ре», и запросилось дальше: ми – фа диез – соль – фа диез – ми – ре – си – ре – ляяяяяя.
Love will tear us apart, again[4].
Да-да, мы тоже ходили в музыкальную школу, просто нас оттуда после третьего класса попросили.
А после вошла она. Мозг говорил: не стой как дура, здоровайся, это же бабушка Яна. Глаза не понимали, как это возможно. Эта женщина не могла называться уютным словом «бабушка». Тонкая талия, газовые банты на блузе, перстни, камея. Каблуки (она в них всегда ходила по дому). Меж пальцев дымится мундштук.
– О, вам Янчик рассказал, как этот рояль оказался в нашей квартире? Там такая история, аж шесть такелажников поднимали. Душенька, ну вы не робейте, проходите скорее. Вы ведь, наверное, издалека добирались?
– Всё хорошо, спасибо! Я на «Динамо» живу.
С тех пор в этой квартире Зоя была душенька. Или darling. Роза Брониславовна иначе её не звала.
– «Динамо»? «Динамо» – это прекрасно. У нас там Яночкин врач жил, всё детство к нему с суставами мотались.
– Ба, ну хватит…
Это станет его единственной репликой за грядущий вечер.
– Во-первых, я сто раз просила на людях называть меня по имени-отчеству. Иначе ты делаешь из меня старуху, darling. Во-вторых, не надо этого стесняться, Ян. Он, на минуточку, из поликлиники Большого театра. Мировой мужик.
Она разливала чай по фарфору удивительно глубокой синевы. Тонкий-тонкий. Небось, перевернёшь, а на дне блюдца – фамильный герб. Аж пить страшно.
Роза Брониславовна спросила, где они познакомились. Зоя ответила. Она сочла обстоятельства встречи аморальными.
– «Авито»? Это ещё что за дела? Ян, ты зачем с рук покупаешь? У тебя что, денег нет?!
Ян успокоительно покивал – мол, деньги есть. Но не сказал ни слова. Он в этой квартире странным образом сделался меньше ростом и уже в плечах.
Роза Брониславовна продолжила:
– Он такой был в детстве хорошенький, послушный. Вот, бывает, два часа ночи. А всё сидит за фоно. Я, говорит, бабушка, буду играть до покраснения глаз. Хочу на конкурсе быть самым лучшим. Ну что за чудо-человечек? Мне, конечно, не очень нравится, что Янчик от нас съехал. Живёт своей жизнью, ест не пойми что. Ян, ты вообще питаешься? А этот баян…
– Какой баян? – не поняла Зоя.
Ян продолжал молча есть.
– Да он нам в семнадцать лет устроил подростковый бунт. Уборщица нашла под кроватью спрятанный баян. Не поняла, дурёха, что это Яночкин тайник. И поставила его на видное место. Там ещё и ноты ужасных песен всяких лежали. Ну, эстрада, вы понимаете. Я увидела, говорю: Янчик, откуда эта гадость? А он как давай орать: а мне нахуй ваше пианино не сдалось. Представляете? Сказать «нахуй» при родной бабке. So gross![5]
Куда сложнее было представить «нахуй» из уст Розы Брониславовны. Но потом Зоя вспомнила, что ханжеское отношение к мату – удел провинциальной интеллигенции. Столичная же использует её с обилием и шиком.
– Ну я ему по губам дала, наказала рот с мылом помыть. Неделю с ним не разговаривала. Слава богу, дед не дожил и не застал эту гадость. Кстати, а вы чем занимаетесь, душенька?
– Пишу сценарии.
– Да что вы? И как вас можно посмотреть?
– Ну… на всяких платформах…
– Это в интернете? Терпеть не могу интернет.
– Почему?
– Потому что он даёт иллюзию, что у нас теперь всякое мнение ценно и достойно высказывания.
– Ну, по сути так и есть.
– Yes, indeed, my dear. Жуткое время. Вы посмотрите, кто сегодня популярен? Какие-то обычные люди без образования, с улицы…
Действительно.
– А кто ваши родители?
– Папа – врач.
– Какой?
– Терапевт.
Она поджала губы, Зоя попыталась спасти положение.
– Мама – преподаватель, кандидат географических наук.
– Да, у меня тоже есть подруга-музыковед, которой на докторскую силёнок не хватило. А я ей говорила, что часики тикают.
Ян продолжал молча есть.
– Но что я ещё хочу сказать. Я думаю, в Янчике есть это – умение держать людей в ежовых рукавицах. Ежовые рукавицы – только они работают. Янкиного деда знаете как в оркестре боялась? А вообще он у нас добрый мальчишка. Всегда таким был. Мы его до училища в Пироговку отдали. Ну вы понимаете: это приличная школа, приличные дети, приличные родители. Но Янчик с себе подобными, так сказать, никогда не дружил. Всегда выбирал из простых семей.
– А они там откуда?
– В Пироговке так принято. Там иногда принимают деток… Ну, из простых. Кому в жизни не очень потрафило, так сказать. И им разрешают по каким-то совершенно не ясным причинам учиться за меньшие деньги, чем остальным. Мне этот либерализм со стороны школьного начальства совершенно непонятен, конечно. Вот Янчик наш всегда только с такими водился. Я ему говорила: они с тобой ради денег только. А он им всё до нитки последней отдавал: кафе-мафэ, приставки игровые, деньги на телефон без конца клал. Не слушал он меня. Такой он у нас светлый мальчик.
– К народу парня тянет. Не зря на «Хованщину» меня водил.
– Янчик, поиграй нам чего-нибудь.
Ян послушно отложил печенье и направился к роялю. Он играл что-то знакомое – такое знала даже Зоя. Кажется, было в каком-то кино. Роза Брониславовна внимательно смотрела в спину внука, пока мелодия не погасла. Она помолчала немного, вдавила фильтр в хрустальную пепельницу, а после спокойно и чётко произнесла:
– Говно.
Роза Брониславовна развернула трюфель и пояснила:
– Совершенно мимо, Янчик. Этот вальс надо играть легко, ясно, прозрачно. Как кружево. А у тебя – слабо, размазанно. Какая-то дрисня. Дай сюда.
Ян уступил ей место и протянул ноты. Та усмехнулась в ответ:
– Я, по-твоему, совсем уже в маразме?
И начала играть.
По всей видимости – легко, ясно, прозрачно.
Как кружево.
Той ночью Ян был в печали. И Зоя делила его печаль.
Чувство было общим, ведь у него была одна причина: они оба, хоть и по-разному, но всё-таки разочаровывали Розу Брониславовну.
Как ни странно, это не мешало учащаться чаепитиям у неё дома. Зоя и Ян проводили там два-три дня в неделю; вместо того, чтобы ходить – как нормальные влюблённые – в театр, кафе или кино. Просто Роза Брониславовна звала, и они не смели ей отказать. Спустя месяц частота приглашений стала понятной: это была серия проверок, после которых Зою допустили до окружения их семьи.
Потом Зоя не раз будет пытаться найти разницу между тем, как бабушка Яна относилась к ней и к своим ученикам. Учеников у неё было миллион. Она швыряла в них нотами и сборником Ганона. Выгоняла из дома спустя десять минут от урока. Орала и обзывала. И каждый всё равно – благоговел. Прощение вымаливалось на коленях. Иногда вместе с родителями. И полученное помилование было подарком. Даже часовое присутствие Розы Брониславовны в жизни считалось за шанс приблизиться к недостижимому идеалу в искусстве. К тому же все понимали, что преподавательница знакома, с кем надо. Может кому надо что-то сказать. Куда-то позвонить.
– А почему ты не явилась на занятие, мадам? Заболела? М-м-м, какая жалость. Собьёшь температуру и 25-й 299-го опуса Черни мне аудиосообщением в Ватсап, не то матери позвоню. (грозно)
– Ужасные штрихи! Не ритм, а тошниловка в пробке. Мы же тут по идее крадёмся! (театрально)
– Вы понимаете, что с вашим, так сказать, талантом заниматься надо будет ОЧЕНЬ много? (скорбно)
– Котёнок, а, может, тебе на балалайку лучше? У пузочёсов[6] тоже весело живётся. (насмешливо, игриво)
– Завтра в десять, чтобы была тут. Какая лекция? Основы государственности? Умоляю, там и без тебя справятся. (уверенно, спокойно)
– Аккордовую артиллерию тренируем, Маратик. (громко, с задором) Маратик-дегенератик. (тихо, закрыв дверь)
Зоя не раз заставала этот момент, когда Роза Брониславовна провожала учеников. Момент освобождения, конца сладкой пытки. Зоя предполагала: а она ведь вряд ли ради денег этим занимается. Догадка казалась немыслимой и почему-то страшной.
Среди учеников было много упорных и старательных. Способных, если верить Розе Брониславовне. Слово «талантливый» она в похвале не употребляла никогда и любила говорить, что это большое педагогическое фиаско. Некоторых Зоя запомнила по именам. Она заглядывала им в глаза и пыталась понять: свою ли мечту они живут? В смысле, вот о таком, а не о привычном для Зоиного тинейджерства – новый скейт, последняя приставка, встречаться с мальчиком, увидеть Диснейленд, лишиться девственности – и вправду можно грезить в пятнадцать лет?
Чтобы заглянуть в души музыкантов, был куплен роман «Пианистка» Елинек (фильм с Юппер Зоя помнила плохо). Читала обычно в кровати, сны потом снились противные. Зоя подчеркнула фразу «измывательства дилетантов над искусством в угоду тщеславия родителям». Думала как-нибудь дерзнуть и впечатлить формулировкой Розу Брониславовну.
– Ты так много говоришь об этой долбанутой, что мне уже начинает казаться, будто у тебя с ней роман, а не с Яном, – осторожно сказала Сеня.
Сене Ян сразу не понравился. Единственное, что поднимало Сене настроение – возможность шутить про то, что будь они с Зоей звёздами голливудского масштаба, их пару – по образу и подобию формулировки Бранжелина – называли бы Зоян. А вообще этот союз Сеня не одобряла. «Гнида он заносчивая», без церемоний резюмировала она. И прозвала его – Домажор.
– Сень, ну он же не выбирал, в какой семье родиться! – не унималась Зоя.
– Зато он выбирал, как себя вести, – говорила Сеня, и её было не переубедить.
Зоя уставала спорить. Дело в том, что она и вправду начала осознавать нездоровую обсессию персоной Розы Брониславовны и попыткой ей понравиться. Уже и сама не понимала, почему вместо того, что побыть с Яном тет-а-тет, прийти на очередной ужин казалось важнее. Общество Розы Брониславовны пленило Зою. Ей хотелось «вписаться» в этот дом. Доказать, что она оторвалась от нелепых семейных застолий и скучных коллег с её прошлой работы в банке, которые интереснее эксель-таблиц и сёрфинга на Бали ничего не видели. Перед Зоей же во всей красе предстала она – недостижимая московская интеллигенция.
Зою не на шутку заводили «контрольные», которые ей нужно было проходить, чтобы с интеллигенцией встретиться. Как-то Роза Брониславовна показала на ящики книг и попросила: «Душенька, не могли бы вы рассортировать всё? Сюда зарубежную беллетристику, сюда поэзию. Только не вместе, умоляю: „эстрадную“ отдельно, „ленинградцев“ отдельно. Вы меня слышите? Вы понимаете? Вы в коннекте? Сейчас я объясню: „эстрадное“ – это Евтушенко, Рождественский, Вознесенский. „Ленинград“ – это Кушнер и так далее. А „возвращенцев“ давайте на эту полку. Ну, Бек, Солженицын, Домбровский». В стопке книг Зоя увидела «Петербург» Андрея Белого и вспомнила, что давно хотела прочитать. Зоя спросила, может ли она одолжить его на пару недель, но Роза Брониславовна ответила «Возьмите лучше вот это» и протянула ей «Яму» Куприна.
Она говорила: «Darling, будьте любезны, не несите ваш рюкзак в комнату. Не люблю, когда микробы из общественного транспорта сразу в гостиную. Оставьте его у псише (выделила голосом) в коридоре. Или: повесьте туда, где мой шазюбль». И выжидательно смотрела на Зою, следила за взглядом: встретится ли он с нужной вещью.
Хитрая!
Зою эти упражнения даже веселили. Казалось, её просто берут на понт. Она молча улыбалась и думала: дамочка, я Чемпионка Вселенной по игре в «шляпу», «Контакт» и «Коднеймс». Вы меня своим псише не напугаете. Я даже знаю, что такое пипидастр и частенько его загадываю, заставляя страдать команды соперников. А вот вы, поди, и в руках такого не держали.
Однажды Роза Брониславовна снизошла и таки позвала Зою «в свет». Та простодушно спросила: «а кто будет?». Роза Брониславовна удивлённо посмотрела и ответила: «Что значит „кто“? Приличные люди, люди нашего круга».
У неё часто бывали гости. И это легко понять. Просто Роза Брониславовна была крутой. Она много смеялась, гениально блефовала в покере и побеждала всех в «Крокодила». У неё был фантастический вкус в одежде и идеальный парфюм. У неё проводились самые весёлые вечеринки, на которых Зое доводилось бывать.
Её гостиная не бывала пустой. Элита. Профессура. Архитекторы. Врачи. Поэты. У каждого второго – открытый брак. У каждого третьего – жена и любовница в одном пространстве: вот здесь прямо сейчас. Кто-то из них обязательно беременен или занят ребёнком ощутимо дошкольного возраста. У каждого четвёртого – маленькая гавкающая собачка. И все в сменке. Здесь никто не ходил в колготках и носках. Кроме разве что детей. Как-то раз Зоя услышала разговор двух девочек лет семи. Они говорили о том, кто где живёт и у кого сколько комнат в квартире. Первая, постарше, перечисляла не то что комнаты. Этажи. Вторая отвечала, что они живут в двухкомнатной, но с балконом. Потом первая девочка показывала с айфона свои фотографии из летней поездки. Зоя, не найдя себя в обществе взрослых, присела поболтать с подрастающим поколением, спросила, кто их родители. Они синхронно ткнули пальцами. Стало ясно, что девочка помладше – дочка чьих-то студентов. А та, что постарше, кивнула на мужика лет семидесяти. «Какой у тебя старый папа», – искренне удивилась девочка помладше, а та, что постарше, не придумала ничего лучше, чем показать подружке язык.
Здесь проводились вечеринки по пятницам и субботам, журфиксы[7] по четвергам (умеренные алкогольные возлияния), бранчи по воскресеньям. В доме всегда были люди. Они курили, смеялись, не изменяли старомодной привычке травить байки и анекдоты, пили водку. Нет, не водку. Водочку. И не пили, а начисляли. Зоя вот водки не пьёт, ей горько и невкусно. Не любит, когда алкоголь резко бьёт по голове. То ли дело когда он коварно шепчет и уговаривает, как вино. Зоя попыталась это объяснить, но её не поняли. Роза Брониславовна крикнула: «Молодёжь, поищите в баре что-то полегче для ребёнка». И перед Зоей поставили три бутылки игристого на выбор.
В этом доме знали культуру застолья. Здесь умели остроумно и громко отбить словесную подачу, произнести тост. Это не шло ни в какое сравнение с посиделками окружения Зоиной семьи. Неловкими косноязычными родственниками, помешанными на подарках, приготовлении еды, внешнем виде и отчаянном выгрызании – чуть лучше, чем сейчас, – бытовых условий. В этом кругу Зоины родители считались «умниками»: потому как единственные обладали высшим образованием. Как-то раз на застолье по случаю Зоиного двадцатилетия отец говорил поздравление. Зоин отец в самом деле умён, просто по-народному, по-житейски. Его любимый герой русской литературы – Платон Каратаев. Читает он много, особенно Чехова и часто говорит: «Ну, это мужская проза, ты женщина, тебе не понять». «Это сексизм, папа», обычно говорит Зоя. «Я не знаю, что это такое, доча», отвечает он краснея.
Чехов не научил отца красноречию, но надо отдать должное, во время поздравлений он в отличие от многих других никогда не прибегал к мещанским универсалиям про «счастье, здоровье и благополучие». В тот день рождения, пока отец наскребал слова, о том как важно найти своё место в жизни, двоюродная сестра бабушки, тётя Люда, громко обратилась к матери: «Не поняла, а как Пичкалёвы выменяли двушку на трёшку? Там с маткапиталом, что ли… Это ж дикие деньжищи»? Вопрос об имущественной многоходовке лёг между салатами и заливным; тост сбился; отец стушевался и решил не продолжать. Зоя расстроилась – за папу и за себя, так и не узнав главного – как найти то самое место.
За этими застольями женщины обсуждали подтяжки лица звёзд и выносили мнения, у кого получилось красиво, а у кого – дурно. Мужчины, по канону, – машину, рыбалку, гараж. Телевизор бубнил что-то своё. Однажды включили передачу типа «Аншлага», в котором юмористы мяукали на разные лады. «А давайте тоже мяукать, мы что, хуже этих?» – предложил Владимир (он был то ли чей-то отчим, то ли, наоборот, первый муж). И все стали мяукать, по кругу.
Зоя смотрела на мяукающих родственников, и ей казалось, что она в дурдоме. Или, пожалуйста, ну хотя бы во сне. Но Владимир вполне по-настоящему ткнул её пальцем в бок и сказал: «Теперь твоя очередь. Давай оригинально, как ты умеешь. Чему-то ведь тебя в Москве твоей научили». Зоя не знала, как мяукать оригинально, и поэтому просто сказала «мяу-мяу». «Скучно», – резюмировал Владимир.
В квартире Розы Брониславовны Зою не просили мяукать. Словно они и так понимали, что она не представляет никакого интереса. При этом общий язык не получилось найти не только со старшими, но и с молодёжью. А её здесь было немало: Яновы друзья детства, чьи-то студенты, ученики, аспиранты, ассистенты.
Это была совершенно непривычная молодёжь. Они были взрослыми, но не той взрослостью, какая обрушилась на её друзей: с ранними ипотеками, фрилансами и необходимостью оплачивать родительские зубные протезы. Они одевались как в сериале «Безумцы»: парни в жилетках, девушки в бархате и клипсах. Они не работали в офисах. Они использовали слова «лепота», «благодать» и «ну давай по рюмашке». Они писали диссертации и играли на театре. Кажется, Гурченко когда-то сказала в одном интервью: «моё происхождение вылезало из всех швов моих платьев». Таковым было Зоино состояние тех месяцев.
Зоя в то время часто спрашивала себя: а я сама-то кто? С кем? Чьих? Для этих товарищей нет базы: так, почитала всякого по верхам и нахваталась в интернете у умных людей красивых слов. Но и с членами семьи и одноклассницами обоюдно интересный разговор уже как будто не представим. Получается креативный, прости господи, класс. Тьфу. Как жаль, что ушли десятые годы: там можно было спрятаться за уютным понятием «хипстер». Да даже без хипстера. Просто – жаль, что ушли.
Единственная отдушина – Янчик. Всё талантливо делал, даже разливал. Она увидела однажды, как Ян распределял остатки, стараясь делать это поровну, резко опрокидывая бутылку дном вниз, чтобы не перелить. Но себе всё равно налил побольше. «Вот жадина», – послышался голос из их «водочного» уголка.
И просилась после «говядина», а потом – «солёный огурец», про который Зоя подумала «хочется», а ещё подумала, что огурец – это дома, а сейчас ситуация требовала «турецкий барабан» (хотя вот Сеня говорит, что «немецкий») или элегантный вариант про пустую шоколадину.
«Эх, написать бы серик про социальное расслоение, – подумала Зоя. – Типа „Белый лотос“ по-русски».
Не из зависти. Это всё для зависти было недостижимо. Представить сложно, как это – с детства жить в квартире с потолком четыре с половиной метра. Просыпаться сразу в центре Москвы, а не делать ежедневное упражнение «автобус-электричка-метро»? Не мыслить о работе в найме? Знать, что всегда есть и будет крыша над головой? Не задаваться вопросом «а чем бы я занимался, если бы не нужно было зарабатывать?» – потому что зарабатывать просто не нужно.
Номинация Поэзия
Сергей Калашников
А вот они
Сборник стихотворений
Ангел бьёт кулаком и мотор начинает работу
- Ангел бьёт кулаком и мотор начинает работу
- Открывает глаза пропустивший один оборот
- И вдыхает январь как подвальную горькую рвоту
- Налегает на крик и шестую октаву берёт
- Снег лежит и летит всё в снегу снег сидит на деревьях
- Потому-то нет места для птиц в этом чистом мирке
- Он идёт а они улетают со снегом на перьях
- Говори – я хочу видеть снег на твоём языке
- Оглянись в этот свет в этот сон где ты падаешь в реку
- Пробиваешь как бур её лёд или бьёшься о гладь
- Ты проснёшься а окна вокруг запотели от смеха
- Что нам делать с печалью такой? Даже замуж не взять
- На носу Рождество ты идёшь доски бьются о доски
- Проигравший себя забывает что ставил себя
- И живёт на Земле как в большой голубой переноске
- Ангел бьёт кулаком и мотор начинает, а зря
Когад я ыбл тогад бюльов ылба
- когад я ыбл тогад бюльов ылба
- твоё лицо мне снилось и казалось.
- стоял январь, у ртутного столба
- сирень цвела и нас водила за нос
- я спрашивал: ты будешь дальше жить?
- как дальше жить? мне становилось хуже
- я видел небо взятое лежит
- отбившегося жаворонка кружит
- и плачет до чего нелепый вид
- как твой любимый? умер или спасся?
- январь, в подсобке радио язвит
- и всё стихи бумагой пахнет мясо
Ощущая воздействие литерали всего
- ощущая воздействие литерали всего
- составляя деепричастный отказ от прав
- я выходил смотреть новокосино
- было тревожно. в этой одной из глав
- близился вечер капало с козырьков
- острых как пузырьки на губах весны
- март наступал когортой плохих стихов
- и выгребал казённое из казны
- близилось лето был как подсолнух крив
- круг на воде сравнения шли враскос
- я всех любил но вырывался крик
- кончись, я засыпал и мне не спалось
- в этих дворах в квадрате колодцев крыш
- люди куда-то шли и наверняка
- не успевали может ты зря спешишь
- я уставал смеяться и всем мешать
- солнце всходило наискось, ахаха
В краю стоп-кранов стиснутых в руках
- В краю стоп-кранов стиснутых в руках
- Тревожными свидетелями тряски
- Я был на всех твоих похоронах
- Как запах хвои, дерева и краски
- Ты возвращалась девять дней спустя
- Садилась в угол и в окно смотрела
- Пока весна как кожу на костях
- В себя пустое впитывает тело
- И время то, похожее на визг,
- Текло самим собой опровергаясь
- Качаясь шла отчаянная жизнь
- Качалась жизнь отчаянно кончаясь
- Мертвым-мертво, по городу ползут
- Смешные слухи – пусть разводят правду
- Горит литературный институт
- Горит и пусть, мне жалко третью парту
Добежит колобок мы запнёмся и ножницы срежем
- добежит колобок мы запнёмся и ножницы срежем
- мы представим на миг что наш поезд уехал на юг
- в энном городе мне предлагали остаться приезжим
- я смеялся давай только падала вилка из рук
- всё к гостям к переменам к слиянию душ на исходе
- к отвращению от, верной честности для, приземлению на
- ты уходишь во тьму но нормально все так и уходят
- по частям прикрываясь и прячась. приходит весна
- молодой человек вы к кому вы откуда вы знали
- что внутри патефона горит синеватый диод
- мы смотрели кино и смеялись одни в кинозале
- с отвращением к и признанием в, изумлением от
Во внутреннем дворе курить нельзя
- во внутреннем дворе курить нельзя
- но все всё понимают было б время
- на запятые праздники и сны
- бензопилы техасская резня
- роняет в яму мёртвые деревья —
- те так же избавлялись от листвы
- мне скоро разонравятся слова
- затронь одно и набегут другие
- закрой окно и дуть перестаёт
- пусть время отмотает голова
- и звякнет колокольчик на могиле
- пусть снег летит пока метла метёт
В слове беда ирония подмигни
- в слове беда ирония подмигни
- если она придёт или крикни или
- переверни часы без песка внутри
- раньше песок в них был и они ходили
- вспомни их ход, абсциссу реки, стекло
- окон, фундамент комнат, границы створок
- всё проявлялось раньше чем обросло
- резко как слух за выкрик до перепонок
- вдох за удар до стука подвал чердак
- вещи в коробках ветхость вещей в коробках
- где как дома на вешалках и картонках
- город стоит на улицах и домах
- мимо идут снега и шумят ветра
- листья плывут ручьи протекают мимо
- копится пыль потом её рвёт метла
- долгий костёр бросает излишки дыма
- в окна соседям, дети берут собак,
- облако растворяется и когда с ним
- кончено понимаешь – идёт не так
- в длящемся целом нет ничего от счастья
Я опроверг теорию теорий
- я опроверг теорию теорий
- и был толпой их авторов избит
- в теории я мог бы догадаться.
- как жаль что все теории – у них
- хотя они могли бы поделиться
- какой-нибудь сомнительно своей
- которую не жалко дать тому кто
- их час назад открыто в жопу слал
- и опроверг но был забит ногами
- и лёжа им обидное кричал
- но ходит в синяках теперь – ему бы
- смогли они теорию отдать?
- у них ведь есть
- – теория про ложку
- она о том что в мире ложек нет
- – теория про суп
- она про то что суп первым блюдом не был никогда
- – теория стиха
- блабла анапест блабла есенин бла потом сотрём
- – теория уныния
- мне грустно и хочется всю жизнь лежать в снегу
- теория ненужности дефисов
- – теория уместности собак
- – теория о нераскрытых смыслах
- она про то что так вам и сказал
- – яироет хынтарбо йинасипан
- – теория ежей
- представьте ёж
- – теория звонков и отражений
- в ней портят то что вовремя крадут
- – теория рерайтов
- о рерайтах
- – теория фашистов
- бог фашист
- – теория влияния повторов
- на психику часть первая повтор
- – теория влияния повторов
- на психику вторая часть повтор
- – теория безумия
- БЕЙ ВОДУ И ИСПРАЖНЯЯСЬ В РЕКУ ВЫТИРАЙ СЕБЯ К ПРИМЕРУ
- фанфиком про драко где он и грейнджер бесятся и спят
- – теория изящных перегибов
- – теория отравленных стихом поэтов-теоретиков
- – приколы (цитаты, афоризмы, тёщин крик)
- покуда я, годящийся в отцы,
- своим троюродным братом не погибну,
- я буду петь про звон и бубенцы
- и скоро даже ты привыкнешь к гимну
- рождения и звука, ёшкин кот
- когда моя мелодия умрёт
- похорони меня в кошачьей миске
- а сам себе железную купи
- и вибромышь, чтоб у неё внутри
- машина пародировала писки
- – теория внезапности. постфакт.
- – тер. сокр. часть 2
- я сам устал, по списку
- всё яростней теории творят
- и чаще снится бакалавриат
- прозревшему за смену экзорцисту
- – теория согласий и концов
- – теория покинувших отцов
- – теория покинутых отцами
- – мы повторяли то что бог велел
- – и пили ими разведённый мел
- – ну хоть они его разводят сами
- мы жили тем что на душу кладут
- молились: нет еды и в парке бьют
- мы вслушивались: ангелы идут?
- но это просто бубенцы и мыши
- тот дом стоит на проклятой земле
- их домовой украл велосипед
- а вурдалак за это отсидел
- и воет по ночам с тех пор как вышел
- – теория «конец всего и вся»
- в ней говорят: земная простыня
- стихи и песни, фартуки, кусты,
- кресты аптек, надгробные кресты,
- парады, войны, кровь на рукаве,
- мужик что снился и тебе и мне,
- тинькофф, тиньков[8], соборы, купола,
- любая мысль, откуда бы ни шла,
- любое чувство, похоть, жалость, страх,
- куплеты песен, линзы на глазах,
- советский гимн, брюзжание, пучков,
- глаголы, гайд по сну для новичков,
- столетия, минуты, правда, честь,
- и даже денчик, не успевший слезть —
- всё скоро обретёт формат былин
- и мир замрёт. и мы покончим с ним:
- задачка с вагонеткою пустой,
- борзов, лежащий молча под звездой,
- отсутствие следов на кпп,
- пиров, сидов, постскриптумов, т. д.
