Боги и духи в Мьянме
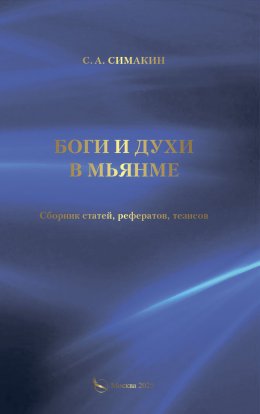
Издательство «Перо», 2025
© Симакин С. А., 2025
1. Анимистические верования народов Бирмы
(стартовый проект)
Задача настоящей работы – дать обобщенный обзор анимистических верований народов Бирмы. Прежде всего предусматривается систематизация имеющихся сведений из различных источников. На базе этого делается ряд выводов относительно особенностей религиозных и дорелигиозных форм, встречающихся на территории Бирмы. Рассматривается также эволюция этих форм от простых к более сложным.
Начатое ранее изучение комплекса религиозных верований собственно бирманцев показало их неоднородность и противоречивость. Несмотря на то, что господствующее положение в этом комплексе принадлежит буддизму, немалое место занимают и анимистические представления, среди которых безусловно доминирует культ натов – поклонение различным категориям духов. Выделяются три исторически сложившиеся виды натов: «низшие» (духи природы и общества), 37 натов и наты «шести небес». Эти три группы представляют разные этапы эволюции религиозного сознания и по-разному соотносятся с официальной буддийской идеологией.
В целом культ натов объединяет в себе самые различные идеи, представления и верования, сосуществование которых в рамках единой системы требует компромисса и необходимо связано с определенной модификацией составных частей, что отчасти затрудняет определение их истинного места в структуре культа, а также воссоздание самой структуры.
Не совсем ясно и происхождение отдельных составляющих культа. Так, большинство бирманских авторов, в том числе известный бирманский учёный Маун Тхин Аун (на сегодня – один из основных источников фактического материала о народных верованиях)[1], относят 37 натов к разряду «национальных духов», тогда как новейшие исследования свидетельствуют об их монском происхождении. Поэтому для выяснения вопросов, связанных с собственно бирманским культом, целесообразно обратиться к верованиям сопредельных народов, у которых, насколько известно, некоторые из этих элементов сохранились в наиболее чистом виде. Это поможет восстановить общую историческую канву формирования культа, а также более точно представить его строение. Наконец, учитывая прочную связь анимистических верований с бытом и экономическими условиями населения страны, можно полагать, что такого рода анализ будет обладать и этнографической значимостью.
Данная работа, разумеется, не может претендовать на подробный анализ элементов язычества у всех народов и племен Бирманского Союза; в известной мере это объясняется недостатком фактического материала. Вместе с тем этническое сходство, наличие общих моментов в истории этих народов плюс многовековое сожительство в пределах одного географического ареала и вытекающие отсюда инфильтрация и диффузия культур позволяют говорить о том или ином явлении как характерном для общей религиозной ситуации в стране.
К ранним, дорелигиозным формам сознания, все еще присущим некоторым народам Бирмы, относятся аниматические представления и так называемый «культ предков». Аниматизм – ранняя стадия анимизма – являет собой тот этап эволюции, когда человек не до конца выделяет себя из природы и познаёт окружающий мир через уподобление себе: путём наделения объектов и сил природы несвойственными им «человеческими» свойствами: так, дождь видится как скопление мизерных существ в виде капель, а гром и молния – результаты столкновения их армий. Поле, засеянное рисом, нередко сравнивали с женщиной, мол, им в равной мере присуще «плодородие».
Эти представления нашли отражение в более поздних праздниках урожая. В частности, у монов во время подобных фестивалей из пучков рисовой соломы складывается фигура женщины, которой делают подношения, моля о новом богатом урожае. Повсеместно распространённой вере в то, что в каждом ручье, дереве, камне и т. д. присутствует дух, вероятно, предшествовала убеждённость во всеобщей одушевленности природы. Смена времен года представляется некоторым племенам каренов борьбой человекоподобных демонов дождя и засухи.
Таким образом, на стадии аниматического мышления мир выступает как одушевлённое целое, в нём ещё не обозначено противопоставление понятий «живого» и «неживого». Представления о душе как средоточии жизни тогда также не существует.
Позже, пытаясь разрешить уже осознанное противопоставление жизни и смерти, люди в большинстве случаев выделяют кровь или дыхание в качестве основных носителей «живого начала». В свое время (не столь уж и отдаленное) среди племён нага («охотников за черепами») существовал обряд «увеличения плодородия риса», когда в жертву приносился мальчик, кровью которого поливали семенной рис. У чинов во время свадебного обряда жених и невеста идут по тропе, предварительно окропленной кровью жертвенного животного (чаще птицы), что, вероятно, должно служить залогом будущего потомства. Известен ещё один интересный «кровавый» ритуал – братание у каренов, когда один из названых братьев убивает птицу и её кровью мажет ногу другому, приклеивая к ней перья.
В некоторых случаях, как уже отмечалось, основным условием жизни объявлялось дыхание. Сходные взгляды были распространены и в Бирме. У каренов есть особый дух «ла». Верят, что его отсутствие в человеке означает либо сон, либо болезнь и смерть. Когда человек спит, этот дух вылетает у него изо рта и порхает повсюду, как бабочка. Если же он вдруг заблудится или какие-то силы помешают ему вернуться в тело, может произойти несчастье. Тогда начинается подлинная облава на духа: с криком бегут люди по лесу – наиболее вероятному месту задержки духа, – пытаясь загнать его назад.
Вера в аналогичного духа распространена и у бирманцев. Они называют его «лейпья», т. е., опять же, «бабочка». Вместе с последним дыханием, говорят бирманцы, этот дух покидает тело человека. Видимо, не случайно слова со значением «жизнь» и «дыхание» в бирманском языке совпадают.
Что становится с человеком после смерти? Продолжает ли он жить? Если да, то где и в каких формах? Такие и подобные вопросы всякий раз волновали древних людей, когда они сталкивались с непонятным и пугающим явлением – смертью. Как правило, ответом на эти вопросы выступали представления о деревне мёртвых или о стране предков. В Бирме оно сохраняется до сих пор и составляет основу культа предков, который не надо путать с одноименным китайским культом.
Страна мёртвых, отделённая, по взглядам народа лису, от нашего мира девятью горами и девятью ручьями, – очень неясная, расплывчатая категория. Это ещё не рай и не ад, поскольку на раннем уровне сознание не в состоянии конструировать «стандартную» трёхслойную модель мира (рай-земля-ад), свойственную развитым религиям. В то же время эта страна находится и не под землёй, а где-то в «нашем» мире. Народ акха располагает её на западе – там, где «исчезает» солнце. В их домах всегда есть западная дверь для предков, пользоваться которой всем, кроме хозяйки, запрещается.
Расположение страны предков где-то «за горами и ручьями» обусловлено радиальным освоением пространства, что характерно для периода перехода к оседлому земледелию. При этом поселение – община понималась как островок цивилизации, круг относительного порядка и безопасности в огромном океане окружающего мира, неотъемлемым признаком которого является неизвестность и опасность. Подобные представления хорошо иллюстрирует используемая чинами «категоризация территории». У них для этого есть два термина: «кхуа» и «рам». Первый обозначает населённую территорию, т. е. непосредственно земли общины. Вся остальная часть природы – «рам», откуда можно ждать всяких неприятностей.
Река или любые воды, отделяющие нас от страны предков, фигурируют в верованиях почти всех народов Бирмы. Племена лису во время погребального обряда бросают мелкую монету в каждый ручей, который пересекает похоронная процессия. У шанов при выносе тела из дома хозяйка обливает себя водой со словами: «Как потоки разделяют страны, так пусть вода разлучит нас». Бирманцы кладут в рот покойнику серебряную монету, якобы для оплаты переправы через реку у входа в страну мертвых.
Продолжение существования в мире предков мыслилось, вероятно, сначала в телесных формах. Об этом говорят пища, оружие и одежда, почти повсеместно погребаемые вместе с телом. Были случаи, когда вместе с умершим хозяином заживо закапывали и его слугу.
Впоследствии понятие о загробном мире изменилось, а погребение вместе с предметами быта утратило ритуальный характер. Это обусловлено, в частности, появлением представлений о душе и её бессмертном существовании. Страна предков становится посредствующим звеном в циклической миграции души. Так, шаны считают, что души умерших друзей будут дружить и в стране предков.[2] Они также верят, что души имеют способность вновь обретать телесные формы. Именно поэтому, когда в шанской семье рождается ребёнок, мать обращается к нему, спрашивая, из какой страны он пришёл.
Раз возникнув, представление о душе пронизывает все сферы формирующегося религиозного сознания. Вышеупомянутая вера в некую универсальную живую суть всех объектов природы трансформируется в представление о переселении душ умерших в объекты природы. Шаны, например, верят, что дух (душа) умершего может переселяться в камни, насекомых, растения, птиц и т. д. Кроме того, душа умершего понималась на этом этапе как субстанция, способная проявлять свою силу и диктовать свою волю. В связи с этим силы природы, стихийные бедствия, а также эпидемии, которые до этого понимались как «сами в себе» активные и мыслились в человекоподобных образах, стали теперь истолковываться как средства проявления воли особых духов. Другими словами, ранее «живые» явления раздваиваются на явления как таковые и их причины – духи. Наступает эра анимизма.
Прежде чем завершить анализ доанимистических форм, необходимо упомянуть ещё о вероятном существовании на территории Бирмы тотемизма. Так же, как и в Китае, следы этого явления сохраняются здесь либо в зооморфном облике какого-либо божества (духа), либо в виде животного атрибута, сопричастного божеству. Например, даже сейчас бирманцам хорошо известен дух Хмин-за, который якобы предстает перед людьми в виде собаки, кошки или кролика. Верят, что если ему удастся обежать вокруг человека три раза, то смерть неминуема. Существование тотемизма и связанной с ним зоолатрии (культ животных) находит отражение в сравнительно недавно распространенном убеждении, что весь королевский флот находился под покровительством целого отряда духов белок, тигров, рыб и т. п. О том же свидетельствуют зооморфные черты одного из духов, который «контролирует» район между городами Бамо и Мандалаем.
Известно, что качины и карены, в отличие от некоторых своих соседей, не употребляют в пищу мясо обезьян, собак, змей. Этот факт приобретает особый интерес, если вспомнить, что этногонические мифы этих народов относят названных животных к первопредкам. У тех же качинов и каренов запрещены браки между жителями определенных деревень. Народ каду делит деревню на две части: ама и апуа. В жёны разрешается брать девушек только из другой половины. Здесь мы имеем дело с дуальной организацией общины, которая, как известно, во многих случаях подкреплялась тотемистическими поверьями.
Следы тотемизма прослеживаются и в фольклоре многих народов Бирмы, когда герои сказок и легенд берут в жены обезьян, собак и т. д.
Характерной чертой анимизма в Бирме является его связь с культом предков, об особенностях которого уже упоминалось выше. Эта связь, с одной стороны, заключается в том, что объектами и явлениями природы управляют не просто духи, а в большинстве своем духи умерших людей; с другой стороны, культ предков становится культом духов предков[3].
У народа лису, например, перед дверью дома часто сооружается полочка с прикрепленными к ней полосками красной и белой бумаги; рядом ставится чаша с подношением (вином): это жилище духа-предка. Качины также собирают алтарь предков дома, причём главным духом в домашнем пантеоне считается дух последнего из умерших.
Английский востоковед Е. Лич, подробно изучивший социальную структуру качинов, пришел к выводу, что в мире качинских духов так же, как и среди людей, существует неравенство: над рядовыми, «простыми» духами возвышается «аристократия»[4]. Лису поклоняются духу предков нини, которому отводится самая главная роль в семейном быте: рождение ребенка, свадьба, смерть, даже отъезд кого-либо из членов семьи сопровождаются подношениями этому духу.
Большое распространение получила вера в то, что дух умершего не сразу и не всегда попадает в страну предков, особенно если смерть наступила при трагических, исключительных обстоятельствах. Шаны считают, что дух умершего всё время тяготеет к дому. Качины боятся духов соун, т. е. тех, кто умер неожиданно, например, при рождении. Когда в качинской деревне умирает человек, приглашается тумса – провидец, который обращается к духу умершего, призывая его уйти туда, где все предки, и никогда не возвращаться. Качины, как и бирманцы, считают, что в течение шести дней дух покойника ходит у дома. Чтобы предотвратить возвращение духа в деревню, карены проводят следующий обряд: на землю ставится фигурка человека из дерева. Под неё подкладывается серебряная монета. Над фигурой прикрепляют кусочки красной и белой материи, а вокруг сооружается маленький заборчик, на столбах которого крепятся миниатюрные курточки и брюки.
Чины особо опасаются духа человека, умершего в «сар», т. е. в состоянии аффекта: они утверждают, что душа такого человека не уходит в страну мёртвых, пока её не задобрят. Она охотится в нхуа и прячется в рам (см. выше), вызывая болезнь, смерть, неудачи. Ее остерегаются даже после ритуала задабривания. Людей, погибших в сар, хоронят на особом кладбище – подальше от деревни.
На могилах бирманцев нередко можно встретить заклинания, в которых духа умершего просят не возвращаться. Известна надпись на могиле студента: «Маун Чжо, помни, твоё имя вычеркнуто из списка студентов, так что не возвращайся».
Боязнь возвращения духа умершего связана с общей боязнью духов. Нельзя не согласиться с известным этнографом Токаревым С. А. и другими исследователями, считающими, что в эмоциональном аспекте причиной возникновения религиозных верований является страх, боязнь неизвестного, всего, что нарушает покой повседневной жизни, что врывается как неожиданное, необычное, опасное[5]. Поэтому естественно, что духи, выступающие олицетворением всех непознанных сил и стихий, являются объектами страха и почитания.
Характеризуя анимизм бирманцев, многие авторы пользуются терминами «хорошие» и «плохие» духи. Вышеупомянутый Маун Тхин Аун утверждает, что духи, по своей природе, добрые существа, но в той же работе приводит примеры, когда бирманцы рьяно почитают духов, боясь их гнева.
Автор статьи в Энциклопедии этики и религии Темпл[6] не отрицает существования плохих духов, но полагает, что наряду с ними есть и хорошие. В качестве единственного примера приводит почитаемого у качинов – Шинграву. Однако это скорее фольклорно-мифологичный персонаж. Его присутствие в культовом комплексе качинов не установлено.
С другой стороны, утверждать, что все духи представляют собой «черные» силы, было бы также неверно, поскольку в этом случае теряется смысл практики обряда, который в том и состоит, чтобы умолить, а в некоторых случаях и побудить духа способствовать созданию благоприятных обстоятельств. В бирманской глубинке говорят: «Отношение деревни к духу напоминает отношение женщины к мужу, за которым надо ухаживать, задабривать, не давая разыграться его характеру». Нередко цель ритуала состоит только в том, чтобы заставить духа не вмешиваться в людские дела. Часто жертвоприношения проводятся вне деревни, чтобы минимизировать возможность проникновения духов в жилище. Примером могут служить каренские и качинские деревни, на подступах к которым можно найти копья, кости животных, чаши для возлияний, предназначенные для того, чтобы удержать духов на безопасной дистанции.
С учетом изложенного можно предположить, что в зависимости от ситуации верующие могут относить духов к разряду как «хороших», так и «плохих». Действительно, исследования показывают, что большинство духов «нейтральны» к противопоставлению понятий добра и зла. Вероятно, на анимистической стадии эволюции сознания злое начало еще не выделяется как самостоятельная сила; это свойственно более развитым религиозным системам, когда зло обособляется, персонифицируясь, например, в образе дьявола. Другими словами, потенциально каждый дух в зависимости от обстоятельств может быть как защитником, так и вредителем.
Большое значение для дальнейшего формирования культа имело представление о том, что дух человека, погибшего насильственной смертью, навсегда остаётся на месте гибели и властвует на данной территории. К этому представлению непосредственно примыкает понятие о духах-хранителях. Народ лава верит, например, что шахты, где они добывают руду, охраняются духами их бывших правителей, которые после смерти стали духами-хранителями всех холмов в округе. Монский дух-хранитель дома способен отгонять воров и нищих, насылая на них желудочные болезни; он, убеждены моны, часто сердится в отместку за зло, причиненное ему при жизни.
В древности у шанов и бирманцев был обычай заживо погребать людей под дворцом или воротами нового города, чтобы их души охраняли жителей от неприятелей.[7] Эти верования ещё раз свидетельствуют о тесной связи анимизма с представлениями о душе и посмертном существовании.
Эволюция анимизма приводит, по словам известного русского этнографа Л. Я. Штернберга, к тому, что наряду с человечеством реальным складывается особое скопление духов, которое живёт той же жизнью и наполняет всё кругом. В таком сверхъестественном мире выделяются два типа духов: 1) природные, 2) «хозяйственные»[8]. Первую группу составляют, прежде всего, духи леса и деревьев – самые многочисленные; таковы, например, духи Читон – у качинов, Пле – у народа таунджи, Мису – у лису, Акатасоу, Иоукхасоу, Боунмасоу (духи кроны, ствола, корней) – у бирманцев; присутствие этих духов на дереве определяют по трепету листвы в безветренную погоду; в отличие от других духов природы им сооружают нечто вроде домика или алтаря, где оставляются подношения.
В том же ряду – духи земли и полей; например, Мина – у лису. Когда земля готова к севу, этому духу обещается обильное подношение, которое совершают уже после сбора урожая. Этот же дух наделяется способностью исцелять от болезней. Ритуал подношения в этом случае проходит следующим образом. Перед дверью дома выставляется макет жилища с сучком на каждом столбе. Под ним ставятся миски с семенами и пирожками, сзади – рис, вино и прялка, нить которой обёрнута вокруг рамы. Над всем этим возвышается изображение духа, перед ним стоит корзина с соломой и деревянными чурками. Распорядителем ритуала выступает один из уважаемых пожилых жителей деревни. В руках у него птица, которую он окропляет из чаши возлияний, перечисляя при этом имена всех духов, приглашённых на ритуал, и перерезает ей горло; кровью птицы окропляются идол и миски с подношением; к местам окропления приклеиваются перья. Затем старец бросает птицу в горшок и удаляется, забрав с собой чашу риса.
Шадип – двуполый дух земли (почвы) у качинов; считается одним из высших существ. У бирманцев дух поля именуется «Пхоу-пхоу джи».
Далее следуют духи неба. Племена лису почитают Манва. Этот же дух считается сильнейшим у качинов; первый призыв всегда обращается к нему.
Другой дух неба, тоже качинский – Мушенг; ему и его дочери обычно делают подношения рядовые жители деревни. У бирманцев есть дух облаков Упака (он, насколько известно, не имеет отношения к дождю).
Более поздней формой анимистических верований является культ «хозяйственных» духов. Подобные культы формируются на той стадии эволюции религиозного сознания, когда человек начинает приписывать происходящим явлениям не только свою индивидуальную, но и социальную природу. Возникают различные классы и подклассы духов, целые «духовные системы», которые в своей структуре отражают и фиксируют общественную интеграцию, отношения между слоями общества и др. А многочисленные предписания о том, как вести себя в том или ином случае, чтобы не разгневать духа, нередко совпадают с правилами и моральными нормами личной, семейной и внутриобщинной жизни.
Иначе говоря, освящение установленных норм выступает этическим регулятором в отсутствие других охранительных средств. В частности, в бирманских деревнях поклонение общему духу долгое время служило сплочению общины. До сих пор сохраняется обычай, по которому всякий житель, покинувший родную деревню, должен во что бы то ни стало навещать её духа-хранителя и делать ему подношения в установленные дни.
У народа лава анимистические верования обуславливают каждую деталь быта, начиная от сроков рубки бамбука для строительства дома до дня и способа переезда в новый дом. Предписывается также, какую позу принимать ночью – спать головой к востоку (в то же время окна и двери на восточной стороне дома запрещены).
Чины поклоняются духу ложа, которому сооружают «алтарь» над кроватью. У шанов есть представление о духах регионов. В прошлом этим духам в жертву приносили людей, теперь, как правило, – скот. Кроме того, шаны верят, что у каждого человека есть родители-духи: отец – Попхан, мать – Мепхан. Они охраняют от всех чужих духов. Когда ребенок улыбается во сне, шаны утверждают, что с ним играют духи его родителей.
Подобные представления существуют и у бирманцев. Мизаин – дух по линии матери, Пхазаин – по линии отца. Есть у них и дух-хранитель домашнего очага – Шин-маха-гири. Его присутствие в доме символизирует кокосовый орех, перевязанный красной лентой и подвешенный у входа в жилище. Бирманцы уверяют, что дух этот не переносит запаха жареного, не любит, когда супружеское ложе недостаточно удалено от его местопребывания и т. п.
В среде «хозяйственных» духов достаточно четко обозначена иерархия: духи личные – семьи – деревни – района. Наиболее наглядно это прослеживается у бирманцев. В центральной Бирме существует такая легенда: «Однажды дух дерева Иоукхасоу разгневался, ибо узнал, что староста деревни приказал вырубить несколько деревьев. Он выразил своё неудовольствие духу деревни, а тот, в свою очередь, навлёк болезнь на старосту, который вскоре сошёл с ума. Заодно с духом деревни действовали Мизайн и Пхазаин старосты: им не понравилось, что их подопечный ел свинину».
Касаясь аналогичной иерархии качинских духов, упомянутый английский востоковед Е. Лич пишет: «Качинские духи, по сути дела, те же люди, только более могущественные. Они продолжают человеческую иерархию к высшим уровням». И дальше: «Иерархия духов отражает уже известные общественные отношения в мире людей: если низший хочет обратиться к высшему, он сначала обращается к высшему из низших».[9] В качестве иллюстрации приводится обряд по защите созревающего урожая. Длится он три дня. В первый день каждый дом делает подношения своему духу дома, во второй – жертвуется свинья духам-предкам деревенских вождей и отдельно – предку главы деревни. Утро третьего дня отводится на подношения духам неба, а вечер – духу земли Шадипу. В этом ритуале фиксируется общинная организация снизу вверх: семья – вожди – староста. Высшее положение, тем не менее, отводится духам природы (неба и земли).
У чинов – обратная картина: приоритет отдается кхуадрум – духам деревни; затем идут муал – духи алтаря и, наконец, природные божества.
Духи, запрещающие употребление свинины, – наглядный пример адаптации анимистических культов к мировой религии – буддизму. Как известно, у большинства народов Бирмы свинья является одним из наиболее распространенных жертвенных животных, её мясо часто употребляется в пищу. И хотя Будда ничего не предписывал насчёт употребления свинины, в бирманском варианте буддизма имеет место неодобрительное отношение к употреблению свинины, что в конечном счете равносильно порицанию самих анимистических культов. Последнее находило выражение не только в вопросе о свинине и порой выливалось в форму открытых преследований язычества со стороны правителей.
Обращение к хозяйственным и природным духам, по мнению многих исследователей, носит, как правило, нерегулярный характер и обусловлено особыми обстоятельствами. Люди поклоняются духам в случае эпидемий, стихийных бедствий, по частным причинам – выход на охоту, рыбалку, болезнь члена семьи и т. п. В некоторых случаях это общение сводится не только к тому, чтобы жертвой заручиться поддержкой у духа, но ставит своей целью обмануть, провести духа, а порой просто прогнать его. Например, если шаны-родители видят, что их сын неудачлив, они приписывают это влиянию духа. Тогда сына переодевают в женское платье и обращаются к нему как к девочке, пытаясь обмануть духа. Если это не помогает, мать ведет сына в джунгли, прячет его в зарослях, возвращается домой и, рыдая, говорит мужу, что потеряла ребенка. Он её бранит, но вдруг соседи «случайно» находят их сына, и все в один голос заявляют, что он неузнаваемо изменился; если и в этом случае не удастся обмануть духа, отец заворачивает сына в циновку и несёт на кладбище, там его закапывают, оставляя отверстие для воздуха, родственники «оплакивают умершего», читая заклинания. После этого ребенка откапывают, и ему даётся новое имя.
Последний обряд считается наиболее эффективным, поскольку переименование имеет определенную магическую значимость. Изменение имени или сохранение его в тайне с целью уберечь человека от влияния «рассерженного» духа практикуется не только у шанов. Лису дают ребенку «духовное имя», которое хранится в тайне и сообщается только духам предков. Второй раз это имя упоминается уже после смерти человека, когда заклинатели обращаются к духу умершего, прогоняя его в страну мёртвых. Качины дают имя ребенку сразу же в момент его рождения, чтобы опередить духа, который, как верят, может дать имя первым: тем самым он получит власть над ребенком и сможет навлечь на него несчастье.
Во всех этих случаях проявляется одна и та же тенденция сознания: отождествлять наименование и познание, познание и обладание, владение, а отсюда – наименование и владение. В последнем примере это прослеживается наиболее отчётливо: кто назвал – тот и «хозяин».
Насильное выдворение духа, хотя и имеет место, но практикуется редко и применяется, как замечено, только по отношению к духам болезней. В шанской семье, когда местным врачевателям не удается помочь больному, созываются родственники и знакомые, задача которых состоит в том, чтобы производить максимально возможный шум, раздражающий и изгоняющий духов.
Многие народы Бирмы пытаются оградиться шумом от духов эпидемий. Английский офицер Е. Д. Каминг рассказывает, что видел, как жители одной деревни влезли на крыши своих домов и неустанно гремели чем попало три дня и три ночи, надеясь тем самым обезопасить себя от приближающейся эпидемии[10]. Он даже усмотрел в этом рациональное начало: «физическая и духовная занятость может таким образом препятствовать заболеванию».
Прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к духу, определяется, что за дух причастен к тому или иному случаю, а также чем и каким образом на него воздействовать. Для этого у каждого народа есть свои средства. Из них выделяются два наиболее распространенных:
1) Обращение к различного рода «посредникам» – провидцам, лекарям, предсказателям, колдунам и т. п.
2) Гадание по костям, камням, бамбуку и др.
В каждой чинской деревне есть провидец. Чаще всего это женщина. Зовут её Кхуаван-ну. В соответствии со своей миссией она, впадая в транс (не без возлияний), определяет разновидность духа, которому необходимо сделать подношение. Кхуаван-ну уверяют, что были в стране мертвых и рассказывают, что они там видели.
Такие же посредники есть у племен лису и у каренов. Последние большое значения придают экзорцисту, усилия которого чаще всего направлены против духа Пии-ка. Это дух женского пола, которого никто не видел, «но слышали топот её копыт». Цель экзорциста – определить, чей Пии-ка беспокоит заболевшего человека. Ответ буквально выбивается из больного. Далее процессия направляется к дому обвиненного, и, если экзорцист установит, что слова больного подтверждаются, этот дом сжигают.
Качины по «духовным» вопросам обращаются к тумса, бирманцы – к нат-кадо (букв. «супруга ната»). В отличие от посредников многих других народов Бирмы её «профессия» наследуется. Говорят, что женщину, отказавшуюся стать нат-кадо, ждёт болезнь и смерть. В среде нат-кадо есть своя иерархия. Нат-мая джи – старшая из них; ей прислуживают младшие нат-кадо, за что она обучает их искусству общения с различными духами.
Народ кая (красные карены) чаще всего не пользуется посредниками. Всю информацию о духах им поставляют кости птиц. Если кости не показывают необходимости жертвы, таковая не приносится даже в случае смерти. Кости птицы – словарь кая: по ним определяют, где строить дом, откуда и когда отправляться в путь и т. п.
К костям обращаются и карены, чтобы выяснить, какому из главных духов (ка, лу, какн, моки) необходимо делать подношение. По тому же вопросу лису практикуют гадание, используя побеги бамбука. Всего необходимо 33 веточки, каждая девятая из которых зажимается между пальцами. Расположение побегов указывает лису, желает ли чего-нибудь дух и что именно.
Завершая тему о посредниках, следует отметить, что в случае несбывшегося предсказания они возлагают вину либо на самого пострадавшего, либо на духа типа качинских марау, которые, как считают, могут, несмотря на свой низкий статус, свести на нет влияние даже высших духов. «Эти марау – своеобразный предохранитель механизма жреческой диагностики»[11].
Буйволы, свиньи, собаки, птицы – обычные жертвенные животные у всех народов Бирмы. Мясо в большинстве случаев поедают сами участники обряда, т. к. считается, что дух удовлетворяется «жизненной сутью» животного или самим фактом жертвоприношения. Однако задача ритуала состоит не только в том, чтобы задобрить духа. Существует также социальный аспект процедуры, заключающийся в том, чтобы в известной мере закрепить и освятить социальную стратификацию общины. Право и возможность совершить подношение определяются, во-первых, положением жертвователя в обществе, во-вторых, видом духа. Например, в случае вышеупомянутого трёхдневного обряда у качинов право совершить подношение духу Шадипу предоставляется только главе деревни, а жертвы духу неба и его дочери делают низы общины. Таким образом в ритуале отражается социальная и спиритуальная исключительность вождя[12].
У чинов есть целая серия праздников, называемых «бави лам» – путь к достижению благосостояния или «ин-лаш» – путь к дому; что по сути дела одно и то же, т. к. критерием индивидуального благосостояния у них является возможность построить собственный дом. Сначала строится плетеное жилище, затем, по истечении определенного срока и с приобретением необходимых материалов для постройки деревянного дома, делаются подношения духу дома и начинается строительство. Если у хозяина достаточно средств на возведение забора, разбивку участка и т. п., он демонстрирует это в «обрядах заслуг», на которые собираются все жители деревни. Хозяин должен доказать своё право на более высокое общественное положение способностью развлечь и накормить всех гостей, особенно почётных представителей.
Во время «обряда заслуг» жертвы приносятся многим духам. Верят, что дух убитого животного отправляется в матхи-кхуа – деревню мертвых, где как бы ратифицируется новое общественное положение жертвователя. Попав после смерти в деревню мертвых, хозяин, по убеждению чинов, будет владеть теми животными, которых он приносил в жертву при жизни. Подобные обряды имеют место и у племён нага.
В завершение данного раздела остается добавить, что несмотря на наличие у большинства духов собственных имен, многие западные исследователи, а также сами бирманцы, часто называют их общим термином «нат». Термин этот чужеродный. По одной из версий, произошёл он от палийского слова «натха», что значит «хозяин». В Бирму попал, вероятно, вместе с языком пали, т. е. в XI в., когда монское государство было покорено первой бирманской империей Паган, или немного раньше – во время первых контактов бирманцев с Пегу, столицей монского государства. По существу, термин «нат» применим только к собственно бирманским духам, но даже и в этом случае он не покрывает всего многообразия сверхъестественных существ. Так, тасхей и билу, которые в бирманском и монском фольклоре сопоставимы с «нечистою» из славянских сказок, функционально близки некоторым категориям натов, однако, как правило, ими не называются. Единственное известное нам исключение – слияние двух понятий в одно – «нат-билу».
Собственно бирманский культ натов рассматривается отдельно (см. нижеследующие статьи).
Анализ этногонических мифов на территории Бирмы показывает их многослойный, эклектический характер: все они в той или иной мере испытали на себе влияние локальных анимистических верований и привнесенных мировых религий – христианства и буддизма.
Типичным для местных «малых» народов в композиционном и в содержательном плане можно назвать миф лису, который следует ниже в форме свободного пересказа.
«Давным-давно это было. Рассердился бог на людей и решил погубить весь мир. Призвал к себе крестьянина, который выращивал тыквы, и молвил ему: «Возьми семя тыквы, посади и жди плод. Больше тебе никогда не будут нужны тыквы». Услышал человек бога и сделал так. Вскоре выросла огромная тыква. Но тут тучи собрались, и ливень пошёл, и покрыли воды всю землю. Проделал тогда человек в тыкве отверстие и спрятался в ней вместе с сестрой. Много дней носили их воды, а когда вновь прибили к суше, увидели брат и сестра, что остались они одни-одинёшеньки. Некому было продолжать их род. И сказали они: «Пусть бог решит эту проблему». Влезли они на высокую гору, взяли с собой два каменных жернова и пустили их под гору. Покатились камни и внизу соединились вместе. Тогда совершили брат и сестра свадебный обряд, и вскоре родились у них три сына. Пошли сыновья каждый в свою сторону, и были они предками трёх народов. Два брата жили в горах, занимаясь охотой. Были они самые известные стрелки из лука. Однажды решил старший брат взять себе в жёны обезьяну. Но не знал этого младший, увидел обезьяну и убил её. Взял тогда старший другую обезьяну, и опять младший убил её. Рассердился тогда старший брат и выгнал младшего из дома; пошёл тот скитаться по горам, опечаленный. Да пожалел его дух гор: даровал двух женщин – красивую и обычную; измазал младший брат лицо красавицы глиной и предложил старшему выбрать себе одну из двух, а когда выбрал тот обыкновенную, рассмеялся младший брат, смыл грязь с лица красавицы, и увидел старший, что обманули его. Разгневался он пуще прежнего и загнал младшего брата в тёмную пещеру. Долго бродил младший по пещере, пока не пришёл в подземный мир, который ничем от нашего не отличался – то же небо, те же деревья. Но вдруг появились тигры, и началось великое сражение. Много тигров убил младший брат, а когда захотел назад выбраться, помогла ему летающая белка с девятью хвостами. «Держись за хвост, вывезу я тебя, только ты не смейся надо мной», – сказала она и полетела. Да не мог брат удержаться от смеха, и чем больше он смеялся, тем меньше становилось хвостов у белки. Скоро остался один обрубок. Испугался тогда младший брат, перестал смеяться, ухватился покрепче и благополучно выбрался наверх».
Этот миф, похоже, не обладает ритуальной значимостью и является сравнительно поздней версией, судя по тому, что он сочетает в себе фрагменты самых разных историй. Не исключено, что на окончательную его редакцию повлияли и некоторые христианские представления, распространяемые миссионерами, и легенды соседних китайцев.
Понятие о верховном божестве и картины всемирного потопа (явно пришедшие извне), истории о тыкве, браке брата и сестры, человека и обезьяны встречаются в мифах многих народов. Чины, например, тоже включают в свои мифы легенды о потопе, брате, сестре и их потомках. Представление о высшем божестве, правда, у них выражено слабо – это первопредок Кхуазин, именем которого католические проповедники «для доходчивости» стали называть христианского бога и тем самым окончательно запутали первоначальные представления об этом персонаже. Зато в чинском варианте мифа о происхождении людей фигурирует очень интересный образ женщины-прародительницы рода человеческого, а также понятие о яйце или «мировом яйце»:
«Сначала появились Земля и Солнце, звезды и Луна (как они появились, никому не ведано). Потом Земля сама породила женщину Хлии-нен, и снесла женщина сто яиц. 99 дали начало 99-ти народам, а одно так и осталось лежать. Нашла его птица и высидела. Вылупились из того яйца мальчик и девочка. Но судьба разлучила их. Вырос мальчик и взял в жёны собаку. А тут встретилась ему девушка, сестра его, и полюбили они друг друга. Захотели они жить вместе. И обратились они тогда к матери своей Хлии-нен. И сказала та: «Убейте собаку и будьте мужем и женой. А сыновья сынов ваших да возьмут в жёны дочерей братьев сынов ваших»[13]
