Легкомысленные заметки на полях. О Горьком
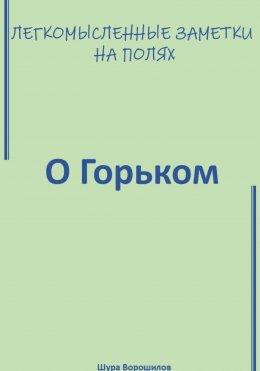
«Легкомысленные заметки на полях» – это и есть то, что утверждает название: «легкомысленные» – неожиданно возникшие мысли и впечатления при чтении и осмыслении тех или иных встретившихся при чтении мест, мыслей, суждений, фактов…. Нет, не всяких мыслей и впечатлений, которые обычно, более или менее плавно следуют за авторским или иным текстом, а тех, которые резанули, показались неожиданной стороной, удивили, спровоцировали, заинтересовали.
Конечно, очень часто такие «запинки» взывают к отдельному изучению, поиску и освоению дополнительных, связанных материалов, «всемерному углублению в тему», дабы убедиться в обоснованности и объективности таких «неожиданностей». Но это уже другой жанр. Я же кратко, под первым впечатлением, «легкомысленно», замечаю эти места и оставляю кратчайшие комментарии с тем, чтобы вернуться к тронувшей что-то внутри себя мысли, помусолить ее, нащупать скрытые смыслы и связи с прочим. Поэтому – «заметки на полях». Всего лишь.
Такой подход накладывает отпечаток и на характер и форму изложения предлагаемой публикации. Это, скорее, дневник или конспект. Причем не самих «заметок», – хотя и они присутствуют, – а попыток самого первого их осмысления, обобщения и выводов. Оригинальных. Ни «величавость» авторов, ни утвердившиеся и господствующие или популярные мнения и суждения в расчет не принимаются. Только личное.
И еще. Когда начинаешь ковыряться в мыслях и личностях Великих, – а именно они являются предметом «заметок на полях», – и, тем более, придавать публичности результаты этих ковыряний, постоянно находишься под собственным подозрением к самому себе: что (!?), мелко тешишь свое самолюбие (!?), мол, Я и Великий (!), вот я вскрываю, обнажаю, обличаю…; значит Я тоже того (!), значу! Совесть частенько подкидывало на сердце этот раскаленный уголек, который, впрочем, я быстро гасил холодным рассудком: да зачем мне это!? Ни прожитая и уже состоявшаяся жизнь, ни сам возраст вообще не располагают к подобному извращению. Просто – не нужно и противно. Само уничижительно.
А вот что действительно интересно и оказалось для меня неожиданным: когда начинаешь пытаться проникать в подноготную, непарадную область, когда начинаешь больше знать и понимать собственно личность, особенности формирования, противоречия, слабости, странности, обстоятельства и многое другое, вдруг, ее масштаб резко увеличивается. Просто к внешним общеизвестным «этикеткам», гениальным результатам труда и творчества, добавляется некоторое понимание того, насколько, зачастую, драматичен и труден путь в «Великие», насколько они «сделаны из людей», во всей человеческой «красе». Но людей, набравшихся мужества и сумевших преодолеть. Каждый – своё.
Впервые такой эффект произошел у меня с Максимом Горьким.
***
Горький – ярый «актуалист» (противоречие политическая актуальность – чистое искусство): «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» (из переписки М. Горького), но глубина и талант слова, похоже, оказались настолько сильны, а актуальность настолько животрепещуща, что получилось нечто совершенно цельное и талантливое. Причем, если актуальность убрать – искусство остается.
В письме Горькому от 17 ноября 1899 г. Репин пишет: «Меня очень заинтересовало узнать, как появлялись на свет, в хронологическом порядке, Ваши последние вещи: Читатель, Дружки, Однажды осенью, Проходимец. Это Ваши последние? Простите за любопытство. Во всех этих вещах есть нотка глубокой души, стучащей в сердце человека (актуализм – ШВ). Может быть, служение этим началам жизни порождает охлаждение к искусству, сведение его на средства к достижению общего блага? – Не мне судить. Но, признаюсь, искусство я люблю больше жизни, как старый пьяница несмотря на то, что мое художественное воспитание происходило во время господства над всем гуманных начал (либерализма? – ШВ), все-таки я остаюсь в душе неисправимым развратником независимости художества.»
Репин почувствовал в Горьком «идеологического» антипода в дилемме актуализм-искусство. Очень талантливого. И мягко намекает на последствия увлечения актуализмом. Поэтому и хронологию просит, дабы тенденцию эволюции Горького поймать. К счастью, талант Горького оказался много больше его острого актуализма. Даже предположу, что взрастал на последнем, а может и не состоялся бы без него…
Мимоходом: конечно, стиль письма Репина. Не встречал более деликатного, интеллигентного изложения. И так у него всегда.
***
Странная история. Хотя – и не странная, если реально воспринимать жизнь, а особенно человека, во всех «многообразии и противоречиях», не взирая на лица, как говорится.
Куда девался Гапон сразу после расстрела демонстраций в Питере 9 января 1905 г.? Кстати, Максим наш Горький по этому поводу писал своей жене Е. Пешковой в тот же день: «Итак – началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые – да не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью. Завтра ждем событий более ярких и героизма борцов, хотя, конечно, с голыми руками – не много сделаешь.»
Мимоходом: чтобы оценить «странность» этого пассажа, стоит освежить «Несвоевременные мысли», например, того же Горького, писанные в период двух революций 1917 г. Контраст между оголтелой «революционной кровожадностью» и истерикой от вида реальной крови очень красноречив.
Да, так вот, организатор массового расстрела рабочих (только убитыми тогда назывались ок. 1 тыс. человек, реально подтверждено в дальнейшем в 10 раз меньше) отсыпался в этот день в квартире Горького: «Гапон каким-то чудом остался жив, лежит у меня и спит. – писал Горький в том же письме, – Его будущее … рисуется мне страшно интересным и значительным – он поворотит рабочих на настоящую дорогу.»
В 1906 г. эсеры казнили Гапона через повешение как провокатора (в те времена провокатор – это и секретный агент, и просто сотрудничающий с властями) …
Что могло объединять Горького и Гапона? Немало. Можно с большой степенью уверенности предположить, что Горький задолго до событий 9 января активно поддерживал Гапона, в том числе финансово. Если это факт (прямых указаний на это не встречал), то ситуация просто изумительная: великий «гуманист», вместе с царским правительством и охранкой (что не подвергается сомнению и подтверждено самим Гапоном) и вместе с японскими спецслужбами (напр. см.: док. ист. наук, проф., лауреат Гос. премии РФ Д.Б. Павлов «Японские деньги и первая русская революция») поддерживает провокатора.
Но это все цветочки. Накануне наш «рррреволюционный» Горький, с делегацией от «интеллигенции» мотался по высоким кабинетам царских чиновников с уговорами убрать войска из города и дать демонстрантам возможность выйти на площадь Зимнего дворца (по его же данным – ок. 150 тыс. человек), встретиться с царем и предъявить ему свои требования. При этом выдавались личные уверения и гарантии, что демонстрация исключительно мирная, а до этого царю писались письма о мирном характере демонстрации и с просьбой принять их для вручения «программы требований» Гапона. Министр внутренних дел Святополк-Мирский в аудиенции отказал, председатель царского правительства Витте ответил, что повлиять не может, просьбу последнего по телефону все же принять делегацию Святополк также не удовлетворил. При этом на голословные «уверения и гарантии» ходоков по поводу мирности предстоящей акции представители власти ответствовали: «у нас другая информация».
И в данном случае больше верится «представителям власти». Информации от армии платных и добровольных осведомителей они имели массу. А если еще учесть, что Россия уже явила миру невиданные чудеса политического террора – "мочили" царей, министров, губернаторов, прокуроров, высокие военные чины, да и просто охранников, тысячами, – то вообще картинка маслом.
Очень интересная личностная черта господина Горького вырисовывается. Видимо, в лихорадочно-эмоциональном революционном угаре, два «Данко» (Горький и Гапон) нашли друг друга: оба необразованные; оба «босяки» (Горький старался поддерживать этот «имидж» всю жизнь. «Челкаш». Гапон – реальный босяк: поп-хохол из глубокой провинции, не могущий связать двух слов); оба не без мощнейшей харизмы; оба одержимы крайне поверхностно проработанными и понимаемыми идеями, которые, впрочем, были у них разными, но совпадали «на техническом уровне» (разрушительном); оба – с болезненно развитым чувством мессианства.
У меня не вызывает сомнений, что Гапон «обыграл» Максима и просто удачно использовал заслуженный Горьким своим чрезвычайным талантом и крайне популярными тогда «революционно-социалистическими» идеями авторитет, широчайшую известность, ну и, конечно, практическую помощь.
Неприятный нюанс заключается в том, что если Данко вырвал СВОЕ сердце, светил им до тех пор, пока не вывел свое племя из леса и сам погиб, то наша парочка использовала сердца и жизни «непросветленных» соплеменников, завела выживших в еще более густые дебри и… сразу же слиняла из охваченного смутой и все сильнее пахнущего кровью Питера: Горький в Ригу, Гапон – в Европу. На этом союз Гапона с «высоким искусством» закончился, а на следующий год «закончили» и его самого.
