Сторож брата. Том 2
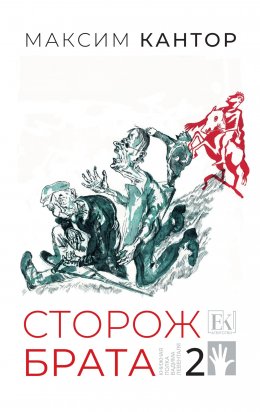
© М. Кантор, 2025
© ООО «Евразийское книжное агентство», 2025
© П. Лосев, оформление, 2025
Глава 26. Правила игры
Кухня с мокрыми от протечек стенами, с низким потолком, как во всяком английском домике, построенном на болоте. Горделивый Оксфорд воздвигли в низине, и всякий житель чихает; на простуду не обращают внимания. Мария так и не привыкла к сырости. Стены кухни покрыты черным грибком, Мария каждую неделю соскребает плесень со стен, красит стены белой краской, мальчики ей помогают. На каждый этаж приходится по комнате. Внизу – прихожая и кухня, на втором этаже спальня родителей и туалет, на верхнем, под скошенной крышей, две мансарды: одна – детская спальня, другая – кабинет Марка.
Все обитатели дома собрались вокруг стола на кухне. Лев Марк Уллис, крупный тяжелый лев с огромной гривой и внимательными глазами, сидит на том месте, где обычно сидел папа – но сегодня папы нет дома; впрочем, заметил старший мальчик, главного льва тоже зовут Марк.
– Это в честь папы?
– И в честь одного друга Иисуса. Который написал его биографию.
– Понятно.
Лев Аслан, второй лев, не менее значительный, наделенный даром прорицания, расположился на трехногом табурете, хвост свесил до полу. Мальчики сидели между львами, находясь под их защитой. Тут же были Винни Пух и Пятачок, а также три гнома: Тонте, Сигрид и Унсе; присутствовал медведь, которого звали Бьорн, он из страны Хоббитании, порой превращался в человека; подле Бьорна сидела Мария, на коленях у нее мудрая кошка Мурочка, доставшаяся Марии от ее татарской бабушки. Далее места занимали: орангутанг Дядюшка Френдли, оранжевый и косматый; затем Кролик в круглых очках и большой тигр по имени Ры. Стульев не хватило, Ры занимал один стул с Дядюшкой Френдли, Пух с Пятачком прижались друг к другу, Кролик сидел на столе, а гномы расположились прямо посреди карты, которую рисовал старший мальчик.
Лист бумаги огромный, чтобы весь мир поместился.
Мальчик рисовал и объяснял, как устроена вселенная. Слушали внимательно.
– Раньше многие думали, что карта страны Винни Пуха, карта страны Нарния и карта Хоббитании – это три разных пространства. Однако это неверное суждение, – сказал мальчик. – Там, где кончается Зачарованный Лес, страна Винни Пуха переходит в страну Хоббитанию, а затем, если двигаться к Мглистым горам и свернуть направо, то попадешь в страну Нарнию. Все эти страны соседствуют так же, как в мире людей соседствуют Англия и Франция или Испания с Португалией.
– Или Россия и Украина? – спросил младший мальчик.
– Да.
– А страны между собой не ссорятся? – спросил младший мальчик. – Скажи, мама?
– Ты должен спросить у льва Аслана или у Пуха.
– Зачем нашим странам ссориться? – удивился лев Аслан.
Старший мальчик, который хорошо знал историю, пояснил вопрос своего брата. Он сказал льву Аслану так:
– Ну, например, иногда ссорятся из-за того, что неверно проведена граница. Страна Виннипухия считает, что Зачарованное Место принадлежит ей, а Нарния считает, что это ее территория.
– Нарния так не считает, – уверил всех лев Аслан. – Земля не принадлежит никому.
– Как это – никому не принадлежит?
Сухие губы Марии почти не шевелились, когда она говорила за гнома Тонте. Гном медленно объяснял:
– Разве горы кому-то принадлежат? Мы живем в пещерах и добываем руду. То, что мы выкопаем в горах, мы меняем на хлеб. Но горы принадлежат всем.
– А как считает Хоббитания? – спросил важный Кролик, поправляя очки. – Хоббиты ценят свой край.
– Хоббиты ценят кексы и чай, – объяснил медведь Бьорн, – но никогда не думали о границах. Потому что чай и кексы должны быть везде. Мое не кончается там, где начинается твое. Твое не мешает моему. Есть общее.
– Что если у Винни Пуха иное мнение? – осведомился важный Кролик.
– Никакого мнения, – честно ответил Пух. – Как иметь мнение о том, что не нуждается в мнениях? Получится мнимое мнение. Мнимомнение.
– Не понял.
– Мнение нужно, чтобы мнение куда-то привело. Правильно? – сказал Пух. – Скажем, у меня нет меда, но есть мнение, что я хочу мед. Мнение ведет к меду, – сказал Пух. – А если мед есть, то зачем мнение?
– А когда твой мед закончится?
– Тогда я попрошу у Дядюшки Френдли. Или у Аслана.
– Но если они тебе не дадут свой мед? Если твой мед нужен льву Аслану? – спросил младший мальчик.
– Я скажу: угощайся, Аслан! И он мне скажет: на здоровье, Пух!
– Но вдруг меда на двоих не хватит? Вот Зачарованный Лес, – Мальчик обвел рукой место на карте. – Вдруг в лесу станет тесно?
– Тесно в лесу? – спросил Пух. – Так бывает?
– Один великий историк, – важно сказал Кролик, – рассказывал мне, что основное противоречие в политике состоит в том, что территории никогда не совпадают со странами, а страны не связаны с народами, их населяющими. Я знал, как зовут этого историка, только вдруг забыл.
– Вряд ли этот историк такой уж великий, – сказал Пух. – Что-то сомневаюсь.
Впервые заговорил мудрый лев Марк Уллис.
– Кролик рассуждал о людях и об их истории, – объяснил медвежонку Марк Уллис. – Мы трактуем вопрос иначе.
– Нам безразлично, к какому государству принадлежит лес, – резонно сказал лев Аслан, – потому что у нас нет государств. – Мы с Пухом оба любим лес и приходим на поляну помечтать. Нам все равно, кому это место принадлежит.
– И тебе не обидно, что ты, лев, лежишь рядом с чужим медведем?
– Как можно обижаться на Пуха? Он, конечно, громко поет. Но я в такие минуты засыпаю.
– Вот-вот! Если бы ты, лев Аслан, хотел спать, а Пух бы орал… тогда бы ты сказал: лес только мой! Не надо здесь пухов! Убрать с поляны следы пребывания Винни Пуха…
– Зачем делать такую глупость? – негодующе спросил Аслан и грозно шлепнул хвостом по табурету.
– Чтобы защитить свои права! – сказал гном Тонте.
– Разве у тебя есть права? – спросил мудрый Марк Уллис у гнома. – Какие у тебя права?
– На сокровища, которые я добыл.
– На камушки, которые ты откопал в горах?
– Тяжелым трудом!
– Откуда ты знаешь, что эти камушки – сокровища?
– Все вокруг говорят!
– Значит, тебе нужны все вокруг, чтобы понять, что камни, которые ты откопал, – это сокровища. Без них твои камушки – просто камни. Значит, без окружающих у тебя не будет сокровищ. Значит, защищать сокровища не от кого.
– Я запутался, – признался Тонте. – Получается, что своих прав у меня нет?
– Например, у меня нет прав, – рассудительно сказал Аслан. – Никаких прав, кроме права дружить с Пухом. Но это не право, а радость.
– Ты еще можешь дружить со мной, с Марком Уллисом или с кошкой Мурочкой. – Так сказал Кролик.
– Мур, – сказала Мурочка.
– Я и дружу с ними, – спокойно сказал Аслан.
– Представь, мы все тебе скажем: если хочешь дружить с нами, тогда не дружи с Пухом!
– Зачем вам так говорить?
– Ну просто так скажем, и все.
– Вы так не скажете.
– Но представь такой случай!
– Вы же не глупые.
– Можно выдвинуть такую гипотезу, – сказал Кролик. – Гипотетически можно выдвинуть ультиматум: мы или Пух.
Винни Пух переводил ошеломленные глаза с Кролика на льва Аслана, потом на гнома Тонте. Медвежонок был подавлен.
– Вы пошутили? – спросил Пух очень грустным голосом.
– У людей так бывает, – пояснил Кролик важно, – одни люди говорят другим людям: не дружите вот с теми людьми. А те люди тоже говорят этим другим: лучше с нами дружите, а на тех нападем. И тогда те другие начинают колебаться, с кем дружить и на кого нападать. И в конце концов все нападают на всех.
– А зачем они так делают? – пискнул Пятачок.
И Пух тоже спросил:
– Это зачем?
– Люди считают, что надо отнять у других людей деньги. И мед. И камни. А другие люди не хотят отдавать, – сказал мудрый Марк Уллис.
Тигр Ры зарычал, а Дядюшка Френдли заметил:
– Поэтому люди так недолго живут. И живут глупо: убивают друг друга и болеют от злости и зависти. Мы стараемся их учить, но не всегда получается. Пока люди маленькие и дружат с нами, еще все хорошо. Дети ведут себя прилично. Потом дети становятся взрослыми и глупыми.
Марк Уллис объяснил всем:
– Люди называют нас игрушками. Хотя мы ни во что не играем, мы просто живем, а играют они. В камушки и в деньги. Обманывают и убивают друг друга.
– Они становятся хуже, чем звери, – сказал лев Аслан.
– Смешно, что люди считают нас неживыми. Хотя наша жизнь, по моим расчетам, – Кролик важно поправил очки, – в пять раз длиннее их собственной жизни.
– Все так. Но надо людям помогать, – сказал лев Аслан.
– Наш долг – защитить человечность, – сказал Марк Уллис. – Человечность, которую взрослые забывают.
В разговор вмешался толстый медведь-панда, которого звали По. Это был тот самый новый медведь, которого Мария недавно встретила в магазине около школы. Оказалось, что бамбуковый медведь По сидел подле кошки Мурочки на коленях у Марии, просто его не сразу заметили.
– Человечность – это то, о чем писал Конфуций, – сказал панда По.
– И что именно он писал? – уточнил Кролик и снова поправил очки.
– Конфуций писал, что всем надо быть добрыми.
– Доброта – это мед, – сказал Пух. – Вот что такое человечность.
– Доброта – это когда ни у кого нет прав, потому что права ни к чему, – сказал Аслан.
– Доброта – это когда никого ни с кем не сравнивают, – сказал Марк Уллис. – Даже людей с нами нельзя сравнивать. Они нисколько не хуже нас. Просто другие.
– А люди нас сравнивают с собой и говорят, что мы не настоящие, – сказал дядюшка Френдли. – Верно, Ры?
Тигр Ры зарычал, но не сказал ничего. За него ответил гном Тонте.
– Про Пуха говорят, что у него опилки в голове. Про гномов рассказывают, что гномы жадные. А мы просто рудокопы.
– А еще говорят, что мы убегаем от хозяев, – сказал Пятачок. – И ссоримся с детьми.
– Мы не ссоримся, – заверил его Пух, – меда, желудей и чертополоха хватает на всех.
– А если не будет хватать, станем работать вместе с гномами, – добавил Пятачок, самый маленький, но упорный и храбрый.
Они бы еще долго беседовали, но раздался стук в дверь; электрический звонок давно не работал, в дверь стучали долго.
– Неприятный стук, – сообщил Кролик. – Кто-то барабанит в нашу дверь.
На пороге стояла соседка миссис Кингсли, ответственная по улочке Черч-роуд за соблюдение распорядка в выносе мусора, а за ее плечом – печатник Колин Хей, член добровольной дружины, и младший бурсар Камберденд-колледжа, Алекс Гормли, отставной майор со стеклянным глазом.
– Мы к вам, миссис Рихтер, – сказала Сюзен Кингсли. – Поскольку вы не ходите на наши собрания, принято решение вас навестить.
– Входите, – сказала Мария, – правда, муж в отъезде. Мы с детьми собираемся чай пить.
– Именно потому, что ваш муж Марк Рихтер в отъезде, мы и пришли, – сказала Сюзен Кингсли, неумолимо глядя в глаза эмигрантке. – Поступил сигнал, что Марк Рихтер уехал в Россию.
– Ну и решили проверить, – сказал Колин Хей. – Вдруг вы все уехали. – Колин не особенно любил допросы. Растащить драчунов на матче регби – это дело стоящее. А допросы жильцов он не любил.
– Что вам надо проверить? – спросила Мария. – Хотите поглядеть, как мы живем?
Сюзен Кингсли, настроенная на укрепление общежития во вверенной ей улице, отличалась (как многие британцы) простотой и резкостью в общении с нижестоящими и в особенности иностранцами.
– Подробностями вашего быта не интересуюсь. Но пару вопросов обязана задать. Если не ошибаюсь, вы русская?
– Да, – сказала Мария.
– Но выбрали для жизни Великобританию.
– Не выбирала.
– А как вы сюда попали?
– Мой муж здесь работает, – сказала Мария и поглядела на стеклянный глаз Гормли. Отставной майор, бурсар колледжа, распределявший жилье, кивнул.
Затем Гормли сказал:
– Ее муж больше не работает. Уехал.
– А дом, стало быть, остался за его женой, – уточнила Сюзен Кингсли. – Правильно я поняла?
– Дом выдан пожизненно, у Рихтера имеется контракт с Камберлендом.
– Что ж. Контракт – это всего лишь бумага.
– Что вы имеете в виду? Вы хотите отменить контракт?
– Именно об этом и речь, – с суровой простотой сказала миссис Кингсли, – ваш муж (вы ведь еще не в разводе?), насколько понимаю, выбрал режим Путина?
– Донос на вас написали, – сказал Колин Хей. – Ну этот, как его там, лысый такой. А мы ходим и проверяем каждый донос. Дурацкая работа, если честно.
– Наш долг, – сказала миссис Кингсли. – Итак, вы поддерживаете агрессию на Украине?
– Как я могу поддерживать? Я с детьми сижу.
– Важно, чтобы до вас дошло, в какую непростую ситуацию вы попали. Мы хотим вам добра. Я лично желаю вам разобраться в самой себе. Демократии брошен вызов. Английские законы меняются. Решено изымать имущество у преступных олигархов.
– При чем тут мы?
Сюзен Кингсли оглядела кухню и собрание игрушек.
– Допустим, вы не олигархи. Однако показательно игнорируете английское общество. Не посещаете наши собрания. Мы, знаете ли, по четвергам чай пьем все вместе. В чайной комнате Гусбери, около универмага «Маркс и Спенсер», мы пьем чай со скоунами. Весьма пристойное заведение.
– Там работает кассиром сестра моей супруги, – сообщил Гормли. – Отменные сэндвичи.
– Сэндвичи с огурцом и лососем. Мы пьем чай, обсуждаем вещи. (Discuss things.) Вы могли бы с нами обсуждать вещи. Но, судя по всему, вы не хотите обмениваться идеями. (Share ideas.) Вы желаете обсуждать вещи и обмениваться идеями с обществом?
– Обмениваться идеями? – спросила Мария.
– Да, обмениваться идеями.
– Но у меня нет идей.
– Но взгляды у вас есть? Вы должны ими поделиться.
– И взглядов нет.
– Я имею в виду мысли, – снисходительно пояснила миссис Кингсли. Надо быть терпеливой к иностранке, которая не освоила английский словарь. – Английский язык весьма трудный, понимаю. Взгляды – это мысли. Понимаете? Иметь взгляды – это значит иметь мысли; мы, англичане, имеем свое мнение и выражаем собственные взгляды. Так принято в нашей стране. Какие у вас имеются мысли?
– Я своих детей люблю. И люблю мужа. Других идей нет.
– Мужа любите? – Сюзен Кингсли осуждающе, участливо и скорбно смотрела на Марию. Да, можно наблюдать сумбурные, неосмысленные чувства; что ж, и это тоже эмигранту можно простить. Видимо, тощая женщина не лжет и действительно испытывает симпатию к своему супругу, к неверному и слабовольному человеку. Известно, что славянская женщина по натуре – рабыня. Трудно ожидать иной реакции. Сюзен Кингсли знала, что такое мужская неверность. Много лет назад у ее супруга, мистера Кингсли, была короткая связь с их дантистом, поляком Збышеком Кислевским, розовым блондином. Но мистер Кингсли сумел пройти испытание с достоинством. Семья не пострадала, мистер Кингсли раскаялся в содеянном, мистер Кислевский сменил практику; супруги Кингсли, примирившись, слетали на Майорку. Вряд ли их русский сосед Марк Рихтер способен на такое. Чтобы поступить так, необходимо внутреннее достоинство. Сомнительно, что славянам присуще бытовое благородство. Весьма маловероятно.
– Дети, понимаю. Да, дети. Наш сын уже вырос и работает в банке «Ллойд». Дети, бесспорно, занимают некое время. Но существуют иные вещи, помимо ваших детей. – О муже худой женщины Сюзен Кингсли тактично решила не упоминать. – Гражданский долг. Политика. Вы знаете, что это такое?
– Наверное, – сказала Мария.
– Вы не интересуетесь политикой?
– Нет, – сказала Мария. – Не интересуюсь.
– Вам ничего, кроме ваших детей, не интересно? – О муже опять не сказала, сдержалась. Пожалела тощую женщину.
– Нет, – сказала Мария.
– Позвольте спросить. Я обязана задать прямой вопрос. Вы любите свою родину? – миссис Кингсли отмахнулась от Колина Хея, тянувшего ее за рукав.
– Нет, – сказала Мария. – Я детей люблю.
– А мою родину вы любите? Мою родину, которая дала вам приют.
– Разве я должна любить?
– Все люди любят свою родину.
– Получается, я не как все.
– Значит, ни Великобритания, ни Россия вам не родина? Вы что же, совсем родины не имеете?
– Моя родина там, где мои дети.
– Стыдно за равнодушных. Стыдно наблюдать эгоизм. Особенно здесь, у нас, в Британии. Здесь, где права каждого человека являются первой ценностью. Вы помогаете украинским беженцам?
– Нет, – сказала Мария. – Никому не помогаем. У нас мало денег. Пусть украинские беженцы идут работать.
– Украинцы – отличные работники, – сказала миссис Кингсли сурово. – У нас на кухне плитку клали украинцы: великолепно справились и недорого взяли. Многие согласятся: взять на работу украинца – практично и выгодно. Но сейчас у украинцев беда!
– Сейчас их тоже взяли на работу. Платят хорошо. Правда, производство вредное.
– Что именно вредно? – Гормли сверкнул стекляшкой. – Осуждаете войну за демократию? Вредно воевать с Путиным?
– Воевать вредно, – сказала Мария.
– Вот как, – саркастически заметил отставной майор. – Значит, воевать с Россией – вредно? Я правильно понял?
Работа по выявлению врагов демократии шла безостановочно. В короткое время организовали штабы для слежки за гражданами. Украинская база данных под названием «Миротворец» прилежно выявляла каждого, кто хоть раз усомнился в величии Украины. Русские просочились повсюду – следовательно, надо найти и разъяснить, что за субъект проживает в свободной стране. Промолчать нельзя. Скрыться в эмиграции для человека русской национальности невозможно: искали, находили и разоблачали. Следовало публично откреститься от России, записаться в «хорошие русские», как то сделали правозащитники Плескунов и Шелепухин, Тохтамышев и Терминзабухова, Расторгуев и Шпильман – эти ярые противники режима давали интервью и клеймили былую родину. Инакомыслящим следовало громогласно отречься от государства-террориста и славить Украину в людных местах. Граждане прилежные, не желающие себе неприятностей, они заканчивали любое предложение словами «Слава Украине! Героям слава!». Те же, кто этого не делал, попадали на заметку вездесущему Шойхету, следившему за русской диаспорой. Беспощадный Шойхет (берлинский активист) вел строгий учет, выявлял скрытых путинистов, составлял проскрипционные списки, рассылал в полицейские участки. Именно с ним, с человеком принципиальным и мстительным, списался акварелист Феликс Клапан, предложил ему пакет сведений о семье Рихтеров. Шойхет изложил сведения, полученные от Клапана, в обычной своей, беспощадно обличительной манере, переслал в полицию Оксфорда, копию – в Камберленд-колледж.
Колледж, получив уведомление от полиции, обязан был разобраться.
Один из вопросов, обсуждаемых на очередном собрании fellowship, посвятили дому, где проживала Мария Рихтер с детьми.
Профессор Блекфилд с присущей ему сдержанностью не принимал участия в дебатах; он сидел на общем собрании ученых воронов, где обсуждали самые разные вопросы: от приема на работу нового тьютора античной истории до расходов на электричество; когда перешли к временному (подчеркнули: «временному») жилью семьи Рихтеров, профессор Блекфилд побледнел. Он понимал, что вопрос решен заранее, что любое громко сказанное им слово будет неуместным и скорее навредит семье Рихтеров, чем поможет. Более того, с годами Блекфилд усвоил урок, который мягко внедряют в сознание всю жизнь: все решено без тебя, силой вещей – старайся достойно встретить неизбежное. И однако мысль о том, что он не осмелится сказать, не осмелится защитить, была Блекфилду оскорбительна.
Профессор политической социологии встал, сухое бледное лицо его исказилось. Коллеги подумали, что черты Блекфилда исказил гнев, но причиной был стыд.
Кусая губы, профессор сказал так:
– Вероятно, впервые в истории Камберленд-колледжа решение совета выносится на основании доноса. Марк Рихтер наш коллега, а его семья находится под защитой колледжа. И если донос негодяя (профессор так и сказал: «негодяя») способен изменить отношение колледжа к своим обязанностям, это будет первый случай в нашей истории.
– Вы прекрасно сказали, мой друг, – мягко возразил мастер колледжа, адмирал Черч, – и я мысленно аплодировал вашему спичу. Как помните, я сам пошел навстречу Рихтеру, оформив его поездку в Россию как командировку от Камберленда. Одно обстоятельство изменило многое. Началась война. Наш бывший коллега Рихтер сегодня представляет (боюсь, по собственному выбору) сторону агрессора. Обязательства Камберленд-колледжа считаю аннулированными.
Младший бурсар Камберленд-колледжа Гормли, человек в прошлом военный, был делегирован в дом Рихтеров. Сегодня состоялся как бы предварительный разговор, неизбежное выселение семьи наметили, срок обсуждали; сегодня от Гормли требовалось четко артикулировать законные требования колледжа. И только. Никаких эмоций – справедливость и порядок.
Отставной майор Гормли, с желтым пергаментным лицом, соломенными волосами и желтым стеклянным глазом, вышел вперед. Он был похож на сказочного персонажа, и младший мальчик спросил:
– Мама, это тролль?
Потом спросил Винни Пуха и Аслана:
– Вы знаете этого тролля, он не очень злой?
Пух и лев Аслан промолчали.
Одноглазому троллю мальчик сказал так:
– Желтое одноглазое чудовище, ты пришел из леса, чтобы с нами жить?
Бурсар Гормли оскалился:
– Это ты живешь в моем доме, мальчик. Этот дом принадлежит колледжу Камберленд. Вам дом дали на время. Из милости. И мы всегда можем забрать дом обратно.
– Здесь будут жить украинские беженцы, которых бомбит твой папа, – отчеканила миссис Кингсли. – Будет жить добрая семья, которую вы обидели.
– Мы никого не обижали, – сказал маленький мальчик и собрался плакать.
– Не смей плакать, – сказала Мария. – Папа не любит, когда ты плачешь.
И мальчик не плакал.
– Дом нам дали не из милости, – сказала Мария. – Мы никогда милости не просили. Моего мужа пригласили на работу в университет и предоставили жилье. Причем стоимость этого жилья вычитали из зарплаты. Здесь нет милости.
– Милость состоит в том, что вас пустили в свободную страну, – сказал Гормли.
– Ваша страна поставила мир на грань войны. Попраны законы мирового сообщества. Такие двусмысленные персоны, как ваш муж… почему вы молчите? Возражайте, если можете!
Молчание Марии расстроило миссис Кингсли. Миссис Кингсли любила людей с позицией и презирала апатичных субъектов. Худая женщина не пробовала защищаться.
– Мне нечего сказать, – сказала Мария. – Мусор выносим аккуратно.
– Ответьте: как относитесь к Украине?
– Никак не отношусь.
– В письме, полученном нашим комитетом, сказано, что вы не одобряете борьбу украинского народа.
– Мне все равно.
– Не ходите на демонстрации на Брод-стрит?
– Плакаты видела. Не хожу.
– Остаетесь равнодушны? К борьбе, за которую миллионы платят кровью? – сказала миссис Кингсли.
Алекс Гормли, отставной майор, обличенный полномочиями в решении жилищных вопросов колледжа, расправил тощие плечи, стекляшка в глазнице блеснула.
– Потрудитесь ответить на поставленный вопрос, – сказал Гормли. – В Великобританию съехались пособники Путина. Сегодня мы желаем выяснить, кто именно пользуется гостеприимством колледжа. Что вам известно о пятой колонне?
– Ничего, – сказала Мария. – Что вам здесь нужно? Хотите, чтобы мы уехали? Мы уедем.
– Мама, почему мы должны уехать? Мы поедем за папой?
– Мама, скажи, куда мы поедем? Лев Аслан, ответь!
Но лев Аслан молчал.
– Это их игры, – сказала мама. – Они не знакомы с медведем По и с Мурочкой. Поэтому игры у них злые.
– Мама, мама, – спросил младший мальчик, – мы поедем к папе?
Мария ответила обычным твердым северным голосом:
– Конечно.
– Папа нас защитит?
– Да.
Глава 27. Игра без правил
Поезд шел на восток, и с каждым километром оксфордские путешественники углублялись в земли, где нет привычного им закона и нет известных правил игры.
Тех правил, по которым играет так называемый «цивилизованный человек» Запада, в снегах и степях не существует. Но ведь в какую-то общую игру Запад, Восток и Россия играют? Значит, у этой общей игры имеются внутренние правила. Просто мы их не знаем, думал Марк Рихтер. Каждый из обывателей применяет известные ему, локальные, правила к общей игре.
В этой общей игре Путин просчитал партию на три хода вперед, американцы на шесть. А ведь Путин играет хорошо. Но ошибся на несколько ходов. Или не ошибся? Вдруг это Запад думает, что Россия попала в ловушку, а в ловушке – сам Запад?
– Скажи, пожалуйста, – обратился Марк Рихтер к Жанне Рамбуйе, – зачем так грубо говоришь с Астольфом? Ты мужа не любишь, это видно. Но зачем унижать? Или это у вас игра такая? Договорились?
– Не стесняйся, спрашивай, – ответила великолепная Сибирская королева, – вижу, мучаешься из-за семьи. Жену оставил, любовница предала, виноват перед Родиной, Родина перед тобой. Тебе, Рихтер, просто нравится мучаться. Нормальные люди проще живут.
– Объясни.
– Я на Западе с четырнадцати лет. Думаю по-французски. Когда живу в Англии – по-английски. Я – человек Запада. Якутию не помню. Ты долго на Западе жил, а главного на Западе не понял. На Западе повсюду действуют контракты. Пришел в ресторан – заключил маленький контракт. Муж и жена – контракт. Дети и родители – контракт. Человек и государство – контракт.
– Закон, – уточнил Рихтер. – Конституция. У Монтескье есть такая книга…
– Студентам будешь втирать. Юноши, может, поверят. А я объясняю, как устроено на самом деле. На всякий контракт есть другой контракт, который отменяет первый. А на второй контракт уже приготовили третий. Таких контрактов сто тысяч. Представил? Теперь умножь сумму на триллион – получишь суммы, которые сегодня на кону. Ты сидишь такой унылый и думаешь, что в мире нет правил. А русские балбесы кричат: «Двойной стандарт!» Просто правил очень много. И стандартов не два, а двести двадцать два. Теперь понял?
– Нет, – честно ответил Рихтер.
– У нас с Астольфом – контракт. Называется «открытый брак». Мне нужен муж с родословной. Ему нужна жена с Востока – красавица. Когда заключали контракт, была дружба с Россией. Астольф меня в Москву возил, сделки оформлял, я блистала. Если надо, шла в постель с министром. И не морщи лоб. Ты с Оксфордом контракт подписал? А я с Астольфом. Какое время было, Рихтер!
Жанна Рамбуйе рассказала, как жилось в девяностые годы, как заключали сделки с директорами алюминиевых комбинатов и владельцами угольных шахт.
– Столько друзей тогда было! Инесса Терминзабухова, Зульфия Тохтамышева – золотые девочки. Думаешь, им все просто далось? Контрактов надо много, Рихтер. Один контракт сгорел, а другой действует. Узнала, что у мужа родословная липовая. Но зато у него другой контракт имеется. У Астольфа – контракт с настоящими аристократами: его признали за своего. Важно, чтобы в Брюсселе был аристократ из Оксфорда: старые клячи хотят участвовать в новом переделе мира. Мой чиновник сразу на три контракта работает. Понял теперь?
– Нет.
– Хочу, чтобы понял. Тебе легче станет. Вот у тебя коллега – поляк Медный. Поляк в Оксфорде. Как думаешь: он сколько контрактов заключил? У меня любовник – американец. Астольф с моим любовником дружит, но делает вид, что жену ревнует. Фишман из брюссельских мальчиков веревки вьет. Астольф счастлив, что я с Фишманом. Американец Фишман на России сейчас триллионы делает, а я пригожусь, за русскую сойду. Оппозицию раскручу, если надо, я умею.
– Просто Мата Хари. Не запутайся.
– Вся Европа – Мата Хари. Всегда такой была. Я и с адмиралом роман кручу. Так, про запас.
– Астольф, Фишман, адмирал Черч, – сказал Рихтер. – Ты никого не любишь.
– «Ты меня любишь?» – нарочито писклявым голосом сказала Жанна Рамбуйе, передразнивая мелодрамы. – Раз играешь, надо выигрывать.
– Я не играю, – печально сказал Рихтер, – но проигрываю.
– Проиграл. Я собиралась помочь, а теперь не могу. Что хочет Фишман, что хочет Полканов, уже не знаю. Астольфик тоже выразит пожелание. Сделаю, как скажут. Ты мне нравишься, но условия изменились.
– А война – по какому контракту?
– Сразу десять контрактов. Что-то замкнуло. Контракт на контракт наехал. Хохлам говорят, что это из-за их свободы. Дурачки верят. Деточек на убой гонят. Сколько перебьют, не знаю. И есть ли такой пункт в контракте, тоже не знаю.
Поезд шел ровно, Луций Жмур, человек с нашивкой батальона «Харон» на рукаве, дремал; временами встряхивался ото сна, ощупывал кобуру и проверял, на месте ли цыгане.
– Для России выбран противник идеально, – думал Марк Рихтер. – Обида и тоска Украины, из этого материала гитлеровцы лепили Бандеру, Мельника и Шушкевича. Грузины не годятся, их не хватит на долгую войну. Жизнь любят больше мести.
– Сладкая долгожданная месть, – зевая, сказал комиссар Грищенко. Всех в вагоне клонило в сон.
– Пришла пора! – крикнула рыжеволосая Лилиана. – За все ответите! За Голодомор! За Сталина! С каждого спросим.
Покорная судьбе, кроткая Соня Куркулис склонила голову:
– Виноваты…
– Раньше думать надо было, раньше надо было плакать! Чей Крым?
– Ваш Крым, украинский… – шептала Соня Куркулис.
– А что же молчали раньше?
– Но если русские свергнут Путина… Если Россия выведет свои войска из Донбасса? Если восстание поднимем? Мы с Кларой сами хотим распада России… – У Сони Куркулис теплилась надежда на снисхождение.
Справедливые глаза Лилианы Близнюк жгли Соню Куркулис.
– Украина избрана, чтобы разрушить Российскую империю. Украина займет ее место.
Она и правда так считает, – думал Рихтер. – У нее миссия. Прямо как мой брат Роман. Бедный глупый Роман. Вот теперь ту же самую имперскую идею переместили на Украину, в дикие степи.
И здесь, как и во многих иных случаях, автор должен дистанцироваться от ситуации, им описанной. Многие видели конфликт совершенно иначе, многие не соглашались с оппонентами, и вязкие дискуссии сложно свести к однозначным определениям. Автор полагает свою задачу в том, чтобы привести полярные аргументы. Находящийся ни в том, ни в другом лагере Марк Рихтер был человеком не героическим; точнее сказать, то геройство, которое принято считать геройством, было ему не присуще. Он жил не поступком, но речью, которую зачастую трактовал как поступок.
Марк Рихтер привык задавать своим студентам самые простые и самые при этом неудобные вопросы. Войны за Неаполитанское королевство – где схлестнулись интересы французов и фантазии итальянских князей – чем эти войны интересны? Ведь всякий думал, что погиб за какое-то право. За что этому солдату выпустили кишки? У него была жена, деточки, он поехал на войну за обладание Неаполем, поскольку наследник престола точно не обозначен. И кондотьеру всадили в живот алебарду, проткнули селезенку, выворотили наружу кишки. Он ползет по земле, кишки волочатся за ним, солдат хрипит, блюет кровью и думает, что умер за правду. Интересны Неаполитанские войны не сами по себе, но тем, что завершились они противостоянием Франциска Первого и Карла Пятого, а затем – торжеством испанских Габсбургов. Большая игра. В ней и был смысл Неаполитанских войн. А кондотьер погиб, потому что дурак.
– Скажите, – спросил Рихтер у валькирии, – а почему именно Украина избрана на эту важнейшую роль? Мне как историку любопытно.
– За то, что права Украины веками попраны.
– Ах, права! Я медленно соображаю.
Целью войны не может быть усмирение Путина, потому что система, созданная Путиным, до некоторой поры всех устраивала. Все просвещенные народы уже приноровились к торговле со стабильной Россией. Что изменилось? Это не война «за Украину», это война «против России». Стравить народы легко; Шелленберг с такой задачей справился быстро, а теперь работают еще качественнее.
– Чтобы победить Россию, вам потребуется очень много оружия. Украина ничего не производит.
– Оружие даст Запад.
– Много?
– Столько, сколько потребуется, чтобы раздавить кремлевского карлика и вас, его рабов.
Жанна Рамбуйе говорит о трех контрактах, действующих одновременно. Некоторые понятны, думал Рихтер. Как он не догадался: этот газопровод разрушат, чтобы не было возможности коммуникации с Европой. Европу лишат российской энергии – вот в чем смысл. Разве англосаксы допустят союз Германии и России и сильную Европу? Деиндустриализация Европы – в третий раз за сто лет.
Неужели в такое можно поверить? И вот из-за деревни Шепетовка рухнет экономика Европы, обвалятся рынки, и деиндустриализация Европы спасет пузырь Америки. Так понятно. Но это конспирология, как мне скажут, думал Рихтер. Не исключено, что это обычная колониальная война. Но ведь такое предположение слишком упрощает дело.
– Усе буде Украина! – назидательно говорил комиссар Григорий Грищенко, и лимонные рейтузы его сияли.
И, похоже, комиссар Грищенко был прав: дело шло к тому, что все то, что прежде называлось «западной культурой», стремительно превращалось в Украину. Европа рушилась, превращаясь в окраину мира, в плохо отапливаемый санаторий для пенсионеров.
– Неужели все будет Украиной? – с горечью спрашивал Марк Рихтер. – Совсем все?
– Да! Мы защитники европейской цивилизации! – ликовали степные свободолюбивые люди: и говорили они это аккурат в то время, как западная цивилизация рассыпалась в пыль. Вольным сечевикам казалось глубоко естественным, что западный мир перестанет существовать ради того, чтобы им, вольнолюбивым обитателям степей, было комфортно. Поскольку превратиться в Европу Украина никак не могла, следовательно, все вокруг должно было стать Украиной. Требовалось низвести весь мир вокруг до состояния Украины и тем самым достичь результата.
Только реально ли низвести готическую Европу до степной Украины? Город – до села? Невозможно. Славянское племя возбудили. Зачем? По какому контракту?
– Вы понимаете, надеюсь, – басил Грищенко, – суть противостояния?
– Не вполне понимаю, – ответил Рихтер. – Скорее всего, люди Запада не видят разницы между племенами, как в Руанде: хуту убивают тутси. И только.
– Воевать русские не умеют, – сказал Жмур. – И как ворам воевать? Все генералы – взяточники и казнокрады. За Украину встанут лучшие армии мира. А вы, мародеры и карманники, побежите перед нами и забьетесь в свои вонючие норы.
Он прав, думал Марк Рихтер. Наверняка все растащили: от скрепок до ядерного топлива. Держится гнилая конструкция на том, что вор – каждый, и на каждого вора имеется досье, и на Западе отлично знают, что верховные российские командующие давно построили особняки в Майами. С такой армией легко воевать.
Воры пригласили на трон России офицера госбезопасности, чтобы хладнокровный полковник вел учет награбленного; по той же нужде некогда пригласили славянские племена варягов: мол, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нету – все сперли. Придите, о придите к нам, варяги в голубых погонах, правьте нами, рюриковичи НКВД, заведите на нас компромат. Они позвали на трон человека, которого сами же и испугались до полусмерти. Ордынский славянин, тиран с ликом бесправного бурята, последовательно извел вокруг себя всех талантливых ворюг, и воровать стали с оглядкой, опасаясь возмездия. Деспот оставил подле себя лишь тех пришибленных страхом воров, про махинации которых он все знал в подробностях. Воры трепетали, и деспот упивался их дрожью. Свалить его теперь было немыслимо: паутина оплела всех, и, обрушив главного, они пропали бы все. Интриги-то плели, но паутины были хлипкие, поскольку даже материал на паутину разворовали, и дряненькие паутинки вплетались в большую сеть. Гигантская сеть страха накрыла всех воров разом, и лишь один, приглашенный на царство монгольский варяг, держал в руках все нити. Жулики не смогут воевать, думал Марк Рихтер, они наловчились плести комбинации с шестью нулями, и драпать, едва заслышат скрип монгольских сапог. Ах, вы не ждали, что приглашенный офицер госбезопасности воспримет роль царя всерьез? Но, позвольте, даже у моих попутчиков из батальона «Харон», даже у них есть представление о роли в истории. Почему же отказать тому, кто возглавляет шестую часть суши четверть века?
– Значит, проиграют? – спросил вслух Рихтер. А сам думал о брате, связавшем свою жизнь с воображаемой империей.
– Москали, мы погоним вас до Кремля!
Они могут, думал Рихтер, с американским оружием и с американскими деньгами. Они могут, потому что их ведет отчаяние, и они храбры. Его самого тоже вело отчаяние, но храбрым Рихтер не был. Он был – и сам это сознавал – испуганным навсегда. Своей межеумочностью, неспособностью выбрать, обычной бытовой трусостью он довел себя до сегодняшнего состояния. В нем еще сохранилась способность рассуждать – но много ли такая способность стоит без храбрости. Мельниченко был тверд, его сослуживцы были храбры и тверды, и человек в Кремле, вероятно, был спокоен и тверд. А Рихтер ощущал только растерянность.
Потом Марк Рихтер подумал, что в 1937 году Сталин обезглавил Красную армию, казнив Тухачевского, Блюхера и Якира. А далее оксфордский расстрига думал так: говорят, что процессы тридцать седьмого – крах Красной армии. Нет, наоборот! Благодаря расправам над ополоумевшими от величия командармами создали боеспособную армию. Всякий из казненных заговорщиков был ровно таким же диктатором, как Сталин, точно так же расчищал пространство вокруг себя, и, если бы их не казнили, то никогда не поднялись бы великие Конев, Ватутин, Рокоссовский и Черняховский, генералы на порядок талантливее Тухачевского. Новоявленный Наполеон, тщеславный Тухачевский провалил польское наступление, проиграл Пилсудскому, так же проиграл бы и Гудериану. Сегодняшние маршалы еще хуже Тухачевского, провалят наступление в первый день.
Сегодня все говорят про Оврагова, одноглазого бога войны.
В московских жирных гостиных, где любят обсуждать знаменитостей и делать вид, что вчера выпивали с виолончелистом Ростроповичем, позавчера с философом Мамардашвили, сегодня с дирижером Гергиевым, вдруг заговорили о полковнике Оврагове. Полковник Оврагов был одноглазым, как Кутузов, Нельсон и Моше Даян, потерял глаз в чеченской кампании; в московских гостиных его называли то Полифемом, то Одином. Неожиданно одноглазый полковник стал модным персонажем. Про Оврагова рассказывал в колледже российский оппозиционер Тохтамышев, называл полковника одиозной фигурой; мол, прочат в главнокомандующие сущего монстра. «Но обаятельный, чертяка! Остается надеяться на российскую бюрократию и клептократию, – говорил оппозиционер, – воровская щелочная среда растворит этого циклопа». – «Такой страшный? – каркали ученые вороны. – Действительно монстр?» – «Форменное чудовище».
– Победа неизбежна, – говорил, зевая, комиссар Грищенко, – мы защищаем цивилизацию, а цивилизация не может проиграть. Ты куда приперся?
Ногой, затянутой в лимонные рейтузы, комиссар подтолкнул к выходу из купе грязного цыгана, который посмел войти с мешками (неприятно пахнущими мешками) внутрь помещения.
– Оборонительная война? – спросил Рихтер. – Или война ради тотальной победы над империей?
Троянцы могли бы поспорить; впрочем, мы мало знаем об их политике. Исходя из практики новой истории, с десятого века уже не было войн, которые не являлись бы результатом сложных интриг, таких запутанных и темных, что население не имело представления, почему оно умирает за Родину. Через месяц после первого выстрела любая война становится просто войной, вне зависимости от того, кто первым напал; война – это отдельное состояние общества, противоположное миру, и гораздо более выгодное, чем мир. Собственно говоря, основная экономика мира – военная. И люди в высоких кабинетах, рассыпанных по небоскребам прогрессивных столиц, перестраивали столбцы цифр.
Украина, Россия, славяне, Евразия – все это лишь фигуры в игре; шахматная доска, о которой говорил еще Бжезинский, нуждалась в том, чтобы ее освободили от лишних фигур. Москву жалко, думал Марк Рихтер, но Москва обречена.
А поезд все шел.
Москва же, если и была обречена, то отнюдь не все в городе об этом догадывались или, во всяком случае, не подавали виду. Вечер у Инессы Терминзабуховой получил название «Проводы мира». Гости вольнолюбивой дамы, жены удачливого бизнесмена, торгующего охранными устройствами (замками, капканами, колючей проволокой), экипированы были соответственно: кто явился в галифе, кто в дедушкиной пилотке. Стены обширной гостиной декорированы военными трофеями, вымпелами и медалями – достали из сундуков. То были поминки мирного времени, проводы эпохи постсоветского рококо, то было прощание с проектами и фантазиями прошлых лет. Ждали известного адвоката (защищает в суде правозащитника Романа Рихтера), ждали куратора современного искусства Казило (уж этот непременно отчебучит что-нибудь, помните, как надел маску президента и приказал бомбить Нью-Йорк?), ждали литератора Зыкова, отбывающего в Калифорнию с разоблачительными лекциями. Наконец, ждали великого американского коллекционера Грегори Фишмана, что привез в Москву свою знаменитую коллекцию. Поговаривают, любвеобильный Фишман придет с новой пассией. Как, это уже новая, не Жанна Рамбуйе? Мадам Рамбуйе вот-вот приедет из Парижа, а это москвичка – новая, неожиданная. Кто ж такая? Да вот и она, встречайте! Тяжело неся толстую грудь, вошла взволнованная Наталия Мамонова, Фишман ввел ее в общий зал, представил.
– Что за прелестная квартира, – сказала Наталия Мамонова, полагая, что именно так надо говорить. Она склонила голову набок, послала хозяйке одобрительный взгляд.
Так говорить не следовало. Квартира в Гранатном переулке, площадью пятьсот метров, не называется прелестной. И грудью в присутствии Инессы Терминзабуховой не качают. Так нельзя делать.
Инесса снисходительно улыбнулась. Уважение к Фишману, к его коллекции и к его роли в истории России (которую все ощущали, но не могли внятно описать) перевесили отвращение к немолодой провинциалке.
– Квартира удачная, согласна. Соседство скверное. Кремлевские чиновники.
– О, неужели? Как жаль, – Наталия покачала грудью.
– Соседство не выбирают. Это ведь по их вине у нас сегодня поминки мирного времени.
– Я вам сочувствую, – что ни слово, то хамство.
– Вы очень добры ко мне. Но мы, право, справляемся.
И действительно – прямо напротив квартиры Терминзабуховых располагалась квартира Андрея Андреевича Варфоламеева.
Варфоламеев сидел в кабинете за столом. Вошел военный, передал пакет, вышел.
– Что в письме? – спросила жена. Она принесла чай, как обычно, в шесть вечера. Стояла рядом, когда фельдъегерь передал письмо.
– Служебное.
– У тебя лицо злое. Все так плохо?
Варфоламеев улыбнулся. Когда улыбался, лицо становилось еще более тяжелым, потому что глаза не улыбались никогда.
– Ну-у. Какое лицо должно быть у опричника? У генерала оккупационной армии. У российского держиморды. Соответственно должности и лицо.
Он спрятал депешу в карман.
– Это я просто вспомнил статью одного гражданина. Плескунов фамилия. Пишет Плескунов о том, как русню погонят и как НАТО объединит усилия с Украиной и завоюет Россию. Интересно пишет.
– Завоюет Россию?
– Ну-у. План такой. В целом. В виде возмездия.
– Сейчас за такие статьи сажают, да?
– Он уже на Украину уехал. Оттуда и пишет. Или в Ригу. Не помню. Сейчас кто куда.
– Его будут искать?
– Смеешься? Кому он нужен? Пусть пишет. Но не знаю. Может, и будут искать. Не мое это дело – за шпаной бегать. И спорить с ними. Не наша забота чужих детей качать.
Варфоламеев встал.
– Пора мне ехать.
– Надолго?
– Пара дней. Ну-у. Сама понимаешь. Неделя скорее. Или две. Может быть.
– Надо? – Жена говорила спокойно, но руки задрожали. Или ей почудилось, что руки дрожат, поскольку Варфоламеев ничего не заметил. Если бы увидел, ему бы не понравилось.
– Галстуки принеси. Выберу.
Выбрал из коробки три галстука, жена аккуратно свернула, положила в дорожную сумку. Сумку собрали несколько недель назад: Варфоламеев знал, что придется ехать.
– Что за шум на лестнице?
– Гости у этих воров.
– Ясно. Детей приведи. Перекрещу.
Жена вывела детей в общую залу. Самую маленькую держала на руках. Семья большая, но в огромной комнате потерялись. Сбились вместе, как беженцы на пустыре, прижались друг к другу, смотрели на отца. Варфоламеев повязал галстук, затянул узел под горлом, надел пиджак; все делал медленно. Оглядел четырех сыновей и дочь. Оглядел и комнату. Дорогую мебель купили, зря выброшенные деньги. На этом диване он собирался отдыхать в воскресенье и читать Тацита. Любил Тацита. Как-то не случилось почитать римскую историю в воскресенье, и на диване не пришлось отдохнуть. Но комната хорошая, что говорить. Удачно выбрана квартира, ремонт сделали на совесть. И вид из окна хороший.
Чиновники России обзавелись гигантскими квартирами, но жить в них времени не было. Страна большая, хлопот много.
Жена подвела детей к отцу.
Варфоламеев их перекрестил.
– Кто бы мог подумать, – сказала жена.
– До последнего момента не верил, – сказал Варфоламеев.
– Все-таки братья.
– Какая Украина? Забудь. С нами, Алена, воюет сразу десять стран.
Подумал. Добавил:
– Нет, больше. Двадцать пять, думаю. Вот уже наемники из Новой Зеландии. Энтузиасты. Англичан очень много. Поляки давно батальоны шлют.
– Господи. Зачем?
– Война. И мы, скорее всего, дураки, что ввязались. Не я решал. Сама понимаешь. Но, вероятно, уже выхода не было. Видимо, так. Мне не докладывали, как оно там решалось. Восемь лет готовились, и они, и мы.
Помолчал. Добавил:
– Ну-у, сама подумай. Если долго готовился человек. Он начнет однажды. Надо же когда-то начинать.
– Плохо воюем, – сказала его жена.
– Плохо.
– Тогда зачем едешь? – вдруг горько сказала жена. И тут же поправилась: – Прости. Не мое, не бабье дело. Поезжай с легким сердцем.
– Работа, – сказал Варфоламеев. – И делается она вот так.
– Всегда лучше мир, – сказала жена, и дети подтвердили:
– Лучше мир!
– Ну-у. Конечно. Мир, – сказал Варфоламеев. – Гораздо лучше.
Отец надел пальто, уже стоял в дверях.
Подозвал старшего, Федора, такого же лобастого, как он сам, уже крупного мальчика.
– Ты теперь за старшего. Береги братьев. И сестру. И мать береги.
Жене сказал:
– Уж если начали войну, надо ее выиграть.
Вышел.
Глава 28. Конспирология – мать истории
Кристоф Гроб, агрессивный анархист, вызвал Рихтера в коридор. Кристоф наклонился к самому уху профессора, дохнул гнилым запахом кариеса:
– Я сейчас – в туалет. Поняли? Выходите следом.
– Зачем?
– Не задавайте вопросов!
Рихтер вышел из купе, двинулся вслед за Кристофом, перешагивая через чемоданы и баулы цыган. Немецкий анархист обернулся, ухватил Рихтера за рукав, дернул к себе.
– Быстрее!
Кристоф потащил Рихтера в тамбур, втолкнул, ввалился сам, дверь в вагон припер собственным длинным телом; они стояли, зажатые в узком гулком закуте; вагоны лязгали, и тамбур содрогался. Дистанция, отделявшая Рихтера от зубов анархиста, была ничтожна. Рихтер, и от природы не особенно храбрый, страшился того, что скажет ему анархист. День ото дня Кристоф делался все более и более агрессивен и его действия были непредсказуемы.
Кристоф оскалил желтые больные зубы, сказал:
– Понимаете, что в вагоне три шпиона? Или нет?
Анархист Кристоф был одет, как это принято у радикальных активистов, в подобие военной униформы – сапоги, черного цвета френч, стальные пуговицы. Они все так одеваются, чтобы их деятельность на митингах казалась борьбой. Выправка у Кристофа военная и, если бы тамбур не швыряло из стороны в сторону, социалист смотрелся бы убедительно.
– Сообщаю, чтобы предупредить об опасности.
– Обычные украинские авантюристы. Даже не солдаты. Золотая киевская молодежь играет в войну.
– Я не про них. Знаю эту плесень. Дамочка – дочка украинского посла на Антигуа. Дочка коррупционера и вора. Парня в желтых портках встречал в Берлине. Щеки отожрал.
– Они не стоят вашей заботы, – сказал Рихтер, отворачиваясь от тяжелого гнилого духа. – Поиграют в войну и успокоятся. Но поглядите на Мельниченко. Он не авантюрист.
Кристоф вплотную приблизил больной рот к лицу Марка Рихтера:
– Англичанин, француз и итальянец – шпионы НАТО.
– Кристоф, успокойтесь.
– Они шпионы.
– Кристоф, – сказал Рихтер, – неужели вам мало того, что происходит? Надо добавить?
– Вас пугает радикальность, – Кристоф проверил, все ли стальные пуговицы застегнуты, поправил ту, что у горла. – Не гламурен. Непримирим! Мы – дети шестьдесят восьмого!
– Нет, – ответил Рихтер, он набрался духу спорить с опасным человеком, – вы незаконнорожденные дети тысяча восемьсот сорок восьмого. Так сказать, от морганатического брака. А те, что были детьми тысяча девятьсот шестьдесят восьмого – давно сидят в банках директорами, пьют шартрез.
– Но-но! – сказал Кристоф. – Без оскорблений!
Хриплое карканье анархиста не походило не вежливое покашливание ученых воронов Оксфорда.
– Кристоф, вы опоздали на полтораста лет. Вы – брызги тысяча восемьсот сорок восьмого. Тогда был пролетариат, было о чем фантазировать. Левая идея сегодня – полная дрянь. Чьи права защищать? Арабских террористов? Нет пролетариата. От безделья фантазии. Вы не корреспондент. Так ведь?
Кристоф не стал отвечать.
Кристоф смотрел в лицо Рихтеру, но смотрел сквозь собеседника, туда, где видел площади, толпу и черные флаги анархии. Проблема пролетариата волновала мало; как всякий борец, Кристоф сражался, не вдаваясь в детали.
Кристоф и сам знал, что возбуждение его всегда подводит. Успокоился, все взвесил, сказал сдержанно:
– Вы мне не доверяете. Сказанное мной считаете конспирологией?
Рихтер развеселился. Его первоначальный испуг сменился на иронию. Кристоф не опасен, он попросту безумен.
– Я совсем не против конспирологии. Вся историческая наука – конспирология. Не надо стесняться термина. Убийство Цезаря или падение Карла Десятого Бургундского – это заговоры. Большевики – заговор. Фашизм – заговор. Тамплиеры, гибеллины, оранжевая революция, глобалисты, Бильдербергский клуб – какая разница? Все это заговоры. Вся дипломатия – искусство заговоров. Одному говорят одно, другому – другое, или так говорят, чтобы ничего не сказать.
– Гм, – сказал на это Кристофер Гроб, – я так широко вопрос не рассматривал. Исключительно с точки зрения деятельности нынешнего канцлера.
– Выбор невелик. Можно признать наличие Бога, который направляет. Можно принять Маркса, который считает, что история борьбы классов ведет к бесклассовому обществу, которое и есть свобода. Но мы рабы объективизма: изучаем, что произошло «на самом деле». А никакого «на самом деле» нет. Мы занимаемся раскопками. Расшифровываем глиняные таблички. Но ничего объективного не раскрывается. На каждую новую глиняную табличку найдется свой новый черепок. Мы сопоставляем заговоры.
– Бруно Пировалли – торговец оружием.
– Какая чепуха!
– Ваш итальяшка – посредник в приобретении тяжелого вооружения. Минами не торгует. Только ракеты среднего радиуса действия, противоспутниковые установки.
– Вы с ума сошли.
– А чем итальяшка, по-вашему, занимается?
Марк Рихтер растерялся. Он затруднялся определить род занятий коллеги. Как-то не удавалось расспросить Бруно.
– Вы все перепутали, профессор Пировалли исследует кинематограф времен Муссолини.
– И ради такой ерунды итальяшка пересекает Европу? Нет в России никаких фильмов про Муссолини!
– Бруно вообще занимается эстетикой тоталитаризма. Кажется.
– И ведь наверняка допущен в архивы Министерства обороны, да? А как же! Исследователь! – Кристоф хрипло каркал.
– Допустим, – Марк Рихтер вдруг понял, что Кристоф прав, и профессору Бруно Пировалли совершенно нечего делать в архивах Министерства обороны. – Но кому он будет продавать оружие в России? Неужели России своего оружия мало?
– Не продавать, а покупать. У русских генералов. Для украинской армии.
– Вы бредите.
– Весь Донбасс – зона контрабанды оружия. Все продают оружие всем. Украинские генералы продают оружие сепаратистам, сепаратисты продают русское оружие американским наемникам, а русские начальники продают ракеты украинским врагам.
– Вы сами верите в то, что говорите?
– Считаете, в Афганистане было иначе? Или в Сирии?
– А вы бывали в Сирии?
Гнилые зубы веером разошлись в улыбке.
– Год там прожил.
– Возможно, на Востоке оружием торговать проще. Но скажите, где тихий оксфордский дон возьмет ракету средней дальности? На Корнмаркете купит? В Бодлианской библиотеке?
– Ему брать не надо. Он посредник. Скажите лучше, часто он летает на конференции в Латинскую Америку? Исследовать диктатуры?
– В Венесуэлу ездил раз пять. Всем социологам интересна риторика Мадуро.
– Откуда у сандинистов было оружие, давно известно. Откуда у субкоманданте Маркоса оружие и зачем расшатывать Мексику, вам понятно. Это же милое дело – поддерживать современных левых. Они всю работу сделают за правых.
– Верно, – сказал Рихтер. – Понятно.
– Ну а теперь задам вопрос. Как организуется сопротивление Мадуро внутри Венесуэлы? Международный валютный фонд отклоняет просьбу о финансовой помощи во время пандемии. Странно, да? Все же просят лекарства, не бомбы. Мины тоже не просят. А вот бомбы туда идут. И мины. Поинтересуйтесь.
– Уж не Бруно Пировалли возит в Латинскую Америку мины и стингеры.
– Пировалли просто договаривается о ценах. Товар поставляет другой. Чем занимается Алистер Балтимор?
– Лондонский галерист.
– Это что значит?
– Продает богатым бездельникам квадратики, полоски и кучки экскрементов. Современное искусство.
– На таких спекуляциях можно сделать миллионы?
– Сотни миллионов.
– Как это?
– Алистер Балтимор – идеолог свободы. За идеологию платят.
– Конкретно что это значит?
– Балтимор предъявляет покупателям товар, который договорились именовать искусством.
– Поточнее, будьте добры. Мои товарищи называют все настоящими именами. То есть Балтимор продает фальшивый товар?
– Тамбур поезда, – сказал Марк Рихтер, – не лучшее место для лекций по социологии искусства.
– Не важничайте! – зубы веером изобразили улыбку. – Лекцию здесь читаю я, а не вы. Итак, за что конкретно галеристу платят?
Марк Рихтер за последние два месяца успел убедиться: обман – самая убедительная реальность. Говорил уже не для зубастого социалиста, а сам для себя.
– Слово «фальшивый» не точно. Любая идеология декларирует нечто бездоказательно. Скажем, слово «любовь» остается идеологией, пока в жертву объекту любви не отдана жизнь. На этом, в частности, строится понятие религиозной жертвы.
– Ближе к теме.
– Вы же просили объяснить. Англичанин торгует символами свободы. Современные кляксы выражают порыв к торжеству над конкурентом, это тотемы общества рынка. Поэтому у «свободы» сегодняшнего общества Запада нет определенной формы. Тотем современной свободы – это бесформенная клякса. Галерист продает идолов.
– Скажем проще: богатые знают, что платят за фикцию.
– Но платят фальшивыми ценностями. Напечатанными только что бумажками.
– Мы подошли к сути. Еще один шаг. Можете?
– Так было всегда. Золото объявлено ценным по договоренности. Алмаз – это просто уголь. Но договорились считать алмаз драгоценностью. Деньги – это раскрашенная бумага. Так и с кляксами. Договорились, что кляксы – символ свободы.
– Вы согласны с тем, что клиенты галереи – это те, кто производит мыльные пузыри: банкиры, инвесторы в финансовые махинации, торговцы наркотиками и облигациями. Теперь скажите, много через такого спекулянта проходит денег?
– Очень много.
– По всему миру?
– Кристоф, это происходит на уровне инстинкта.
– Так вот. Обычный шпионаж.
– Невероятно.
– Вас не удивляет, что за кляксы можно получить миллионы, а то, что полученные путем мошенничества миллионы можно передать правительственному чиновнику, удивляет? Скажем, генералу, отвечающему за участок фронта от Харькова до Одессы, сколько надо дать? Сколько квадратиков?
– Невероятно, – повторил Рихтер, который понял, что все именно так и есть.
– Как считаете, в какое количество полосок обойдется отрезок в двадцать километров по харьковскому направлению? Допустим, отодвинуть артиллерийскую батарею в глубину от линии фронта. Пара квадратиков?
Кристоф скалил гнилые зубы, скверное дыхание превратило тамбур в газовую камеру.
– Вы полагаете, Бруно Пировалли и Алистер Балтимор случайно в одном купе? Итальянский демократ и британский консерватор? Они о чем там целый день разговаривают? О судьбах демократии?
– Да, – согласился Марк Рихтер.
– Вы вообще как относитесь к украинским событиям? – каркал Кристоф.
Марк Рихтер ответил осторожно. Он не понимал уже, с кем разговаривает. Полувоенный человек был военным человеком.
– За билеты на провинциальный спектакль заплатили слишком большие деньги, – сказал Марк Рихтер.
– Верно, Европе дорого встало это представление. Особенно простым людям. Богатые станут богаче. А обычным людям с галерки придется раскошелиться. Билеты на галерку очень дорогие. В партер задаром пускают.
– Вы не журналист, – сказал Марк Рихтер. – В левых газетах не принято ругать богатых. Пикируются, но с реверансами. Левые правее правых. Вы кто?
Вместо ответа зубастый Кристоф спросил:
– Раз уж речь зашла о ценах на билет. Кто билетами торгует?
– Сама Европа и торгует.
– Ну, допустим, цену на билеты назначила Америка. Но торгует билетами Европа, это верно. На галерку билеты стали особенно дороги.
– Непомерно дороги, – сказал Рихтер.
– Кассир строгий. Без билета в зал не пустит. Никто, правда, не собирался на представление идти. Провинциальный цирк приехал – зачем идти? Насильно согнали народ. Теперь внимательно. Французик, Рамбуйе. Он чем занят?
Марк Рихтер неожиданно увлекся разговором. Кристоф с момента своего появления вызывал раздражение и пугал. Кристофа старались не замечать. В присутствии украинских боевиков анархист стал незаметным, забился в угол купе. Теперь же Кристоф говорил властно и разумно; в конце концов, подумал Рихтер, это здравый анализ нашей экспедиции.
– Астольф Рамбуйе?
– Аристократ?
Кристоф опять закаркал своим неприятным зловонным смехом.
– Он не настоящий граф, поддельный. Но настоящий феодал. А зачем ему притворяться аристократом? Феодализм – единственное, что реально. Это демократии нет! Скажи, Рихтер, тебе не приходило в голову, что оплот демократии, свободная Европа, вся сплошь – королевская? Везде короли и графы! В Англии народные массы совершили революцию! Прорыв! И сразу же вернули короля! В Нидерландах революция! Гезы! И вернули короля! В Испании революция! Цистерны крови пролили, чтобы вернуть короля! Демократическая Европа, ха! Бельгия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Дания, Голландия, Испания, Англия – все монархии! Не говоря уж об этих Лихтенштейнах и Монако! Монархии! Народ следит за королевскими свадьбами, монархи принимают парады. И собрание играющих в гольф Габсбургов называется «оплот демократии»!
– Все говорят, что это декоративная монархия, – по привычке сказал Марк Рихтер. Так в Камберленд-колледже принято было говорить.
– Неужели? – язвительно сказал Кристоф. – И палата лордов – декоративная. И то, что графы и пэры во всех банках или президентами или вице-президентами – это просто совпадение. И все эти Мальтийские ордена и Бильдербергские клубы – просто скауты? Не много ли декораций? А республик-то в Европе всего три: Германия, Италия и Франция! Они же – главные экономики Европы. Почему так получилось, а?
– Легко объяснить, – сказал Марк Рихтер. – Так получилось потому, что государств Италии и Германии до девятнадцатого века не существовало, но был набор мелких княжеств, россыпь республик, иногда вольных городов. А во Франции монархия долго сопротивлялась, но республика победила. Редкий случай. Вот потому что были самостоятельные вольные города, на этих территориях возникли страны, где самая сильная экономика и самая богатая культура.
– Именно эти республики всем мешают. Не только Советская республика Бавария! А вообще любая республика мешает. Вот их, эти республики, и надо развалить. Мечтали о Соединенных Штатах Европы! Де Голля помните? А как это возможно, какие такие Соединенные Штаты Европы, скажите, при том, что вся Европа – монархическая? И почему весь двадцатый век тем только и занят, что гробит германскую экономику? Почему?
Сейчас Кристоф был уже не карикатурен. Социалист был грозен.
– Уверены, что не ошиблись? – спросил Рихтер. – То, что это третья мировая, я слышал. Но вы сказали интереснее. Третья война против Германии?
– Война против идеи республики. И ведут эту войну демократы.
– Подождите, – Рихтер медленно перемалывал мысль, – демократия против республики. Ну да, если Платон – это идея республики, а Платон ненавистен демократии…
– Неужели не понимаете?
– Зачем вы мне все это говорите? – спросил Рихтер. – Почему именно мне?
– Потому, что вы единственный в этом поезде, кто не выдает себя за другого. И еще потому, что вас хотят убить.
– Меня? Убить? Кто? Мельниченко?
– Мельниченко тоже не притворяется. Но вас он спасать не будет.
Не почувствовал ничего. Ни страха, ни удивления.
– Зачем убивать? Я даже не свидетель.
– Вас просили вступить в переговоры с правительством. Не лгите, уже знаю. Брат арестован, а вас колледж посылает на переговоры с русскими. И вы согласились. Русское правительство снимет санкции с банка, Британия снимет санкции с олигарха. Сделка, правильно?
– У колледжа деньги вложены в какой-то банк на сомнительной территории. Меня попросили… Но это уже недействительно. Война. Миллиардер Полканов убежал из России.
– Дожили до шестидесяти лет, остались дураком. В торговлю оружием деньги вложены, – каркнул ворон анархии, – и в подкуп генералов. Имейте в виду: от всякой санкции, наложенной на российскую олигархию, богатеет западный феодализм. Вас посылают посредником. Компания в вагоне не удивила? Недвижимость кремлевского чиновника освободят после того, как обрушится фронт на Донбассе. После переговоров вас уберут.
– Откуда знаете?
– Послушайте! – Кристоф взял Рихтера за отвороты пиджака, встряхнул. Рихтер освободился и отодвинулся, насколько позволяло пространство тамбура. – Кто-то верит, что новый класс феодалов создан ради борьбы с «империей»? Но воюет демократия не против империи – а против республики. Поняли? Рамбуйе не скрывает: он расшатывает русское общество. Готовит заговор олигархов. – Так дракон обдает смрадным дыханием в пещере – Кристоф гулко закаркал, гнилой воздух сгустился в тамбуре. – Депутат Европарламента! Сейчас вводят санкции против русского олигархата. Русские в ответ обрежут газ Европе. Санкции обогатят элиты и сделают население Европы беднее. Надо, чтобы народ с ликвидациями прав согласился. Тогда все согласятся с войной. Думаете, только славян к бойне готовят?
– Вы правы, – медленно сказал Марк Рихтер. – Говорят, что готовят гражданскую войну в России. А готовят мировую резню. Только зачем я Рамбуйе, если он профессионал?
– Чтобы превратить в шпиона. Вас арестуют, за вами шлейф других. И вот вам война. А санкции будут, разумеется, без ваших рекомендаций. И не ради народа Украины.
– Верно, – сказал Рихтер.
– Всем плевать на народ Украины. А если было бы иначе, то почему не заботятся о народе Конго? Почему Конго не примут в НАТО? Ты давно читал про помощь голодающим в Африке?
– В семидесятые годы.
– В шестидесятые. Хочу спросить тебя, – Кристоф давно перешел на «ты», – мир и труд – это одно и то же?
– Связанные понятия.
– Взаимосвязанные понятия, – утвердил Кристоф. – Значит, война, причем любая война, не только националистическая война, как сегодня, но и религиозная, и классовая война даже, противоречит понятию «труд». Ты с этим согласен?
– С этим поспорят дельцы. Они скажут, что военная экономика дает рабочие места.
– Как абстрактное искусство заменяет фигуративное. Как идолами заменяют иконы. Так экономика войны заменяет экономику мира. Экономика разрушения, а не труда.
– Да.
– Война – это дело государства. А мы – против государства!
– Кто – мы?
– Я представляю трудящихся Германии, – сказал Кристоф. – Никакая газета меня не посылала. Я еду для того, чтобы связать трудящихся Европы с трудящимися России и Украины.
– Зеленые? – с презрением спросил Рихтер.
– К черту продажных зеленых.
Марк Рихтер задал новый вопрос:
– Если все здесь – шпионы, то почему нет главного действующего лица, американского агента?
– Полагаю, на встречу с американцем и едем, – сказал Кристоф. – А как же?
И добавил:
– Не поручусь, что вы доживете до радостной минуты. Вас подведут к нужному чиновнику, огласите предложение, и будет на кого списать растрату. В дальнейшем не понадобитесь.
– Как считаете, если наши попутчики – шпионы, они знакомы друг с другом? Балтимор понимает про Рамбуйе?
– Здесь только один простофиля. Вы.
– Еще польская монашка.
– Монашка! – Кристоф захохотал. – Монашка! Никогда не видел монахини без молитвенника и четок.
– Вернемся в купе, – сказал Рихтер. – Не знаю, какую цель вы преследовали, рассказывая мне это. Но спасибо.
Они прошли по вагонному коридору, лавируя между спящими на полу цыганами, вошли в свое купе.
– С вашим отцом, – говорил Алистер Балтимор украинской валькирии Близнюк, – мы вместе провели упоительные часы, атрибутируя Малевича.
– Отец обожает супрематизм.
– Он знаток. Распознает подделки мгновенно!
– Мы, отец и я (тоже увлечена авангардом), в курсе того, что сейчас на рынок выброшено большое количество подделок.
– Безусловно.
– Скажите, – обратился Марк Рихтер к лондонскому галеристу, – неужели среди русских имеются подлинные ценители авангарда? Разве азиатам, разве сибирякам или бурятам, например, – нужны магические загогулины?
– Поверьте, коллекционеров хватает.
– А я думал, – сказал Рихтер, – у бурятов свои идолы. Зачем квадратики?
– Иронизируете, – сказал с укором Алистер Балтимор. – Неуместно. Вот прелестная Жанна, родом из Сибири, легко опровергнет неделикатные инсинуации.
– Авангард! – сказала Жанна Рамбуйе. – Моя страсть!
Потом он спросил у Бруно Пировалли, дремавшего у окна, но встрепенувшегося, когда дверь в купе лязгнула.
– Для тебя, Бруно, это просто очередное приключение… Нам страшно, а ты привык. Холодновато, конечно. Снег, пальмы не растут. Тебе, который бывал в Венесуэле, в Парагвае, среди партизан Мексики… Что тебе эти волнения славян?
– Я человек мирный, – ответил профессор Пировалли. – Встречался с теми, кто изучает тоталитарные режимы, до контактов с боевиками не доходило. Я противник насилия.
– Мы, в отличие от русских, не носители рабской культуры! – назидательно сказал комиссар Грищенко, обращаясь сразу ко всем (кроме цыган, разумеется). – В отличие от российских мародеров, мы – люди, ценящие духовный дискурс.
– Разве кто-то сомневается в этом?! – ахнула Соня Куркулис. Лишь от возможного подозрения в предательстве украинского интеллекта ее прозрачные пальцы дрожали.
– Вы, украинцы, несомненно, отличаетесь от русских «имперцев» еще и тем, – сказал Марк Рихтер, – что тяготеете к католицизму.
– Несомненно, – важно сказал Грищенко, – православие нам глубоко антипатично.
– И это неудивительно, – сказал Марк Рихтер, поворачиваясь к сестре Малгожате, – ведь вопрос о Боге-отце и Боге-сыне так окончательно и не разрешен, не правда ли? Вы обсудили с комиссаром «Харона» изменения, внесенные в догмат Второго Вселенского собора?
Сестра Малгожата благосклонно кивнула и перекрестилась.
– Вам, уважаемый комиссар, – сказал Рихтер, – несомненно ближе учение филиокве, изложенное на Флорентийском соборе? Или, сестра Малгожата, вы начинаете отсчет с Лионской унии? Я человек неосведомленный, поправьте меня.
– Истинный Христос, – сказала польская монахиня, – живет во всех нас, и он не допустит разногласий.
– Несомненно, – сказал Рихтер и добавил, импровизируя, упиваясь невежеством окружающих, – не об этом ли говорил на Никейском соборе Тертуллиан, споря с Августином?
– Благословенны дела его, – сказала монахиня торжественно.
Комиссар Грищенко перекрестился вслед за сестрой Малгожатой.
– Аминь, – сказал Марк Рихтер.
Рихтер отвернулся к мутному заиндевевшему стеклу.
Это и есть война, когда врут со всех сторон. Вытащу брата и сразу же бежать. Пешком, на попутках уеду. Как это и свойственно людям несмелым, Рихтер строил планы, в осуществление которых и сам не верил. Надо вернуться к Марии и к сыновьям. И брата забрать с собой. Хорошо бы вывезти отсюда и Россию, подумал он.
Он глядел в белое стекло и думал так. Россию и русское слово вывезти прочь нельзя. Это придется прожить. Придется приехать в это место, которое историк Мишле называл Бастилией, зажатой между Европой и Азией, придется приехать – и здесь умереть. В Бастилии, говорят, в камеры подсаживали шпионов. Везде так было. В Лефортово тоже. Отец рассказывал.
Не впервой, думал он. Кто ты такой, чтобы тебе досталась иная судьба? Трудящиеся, говорите. Над чем собрались трудиться? Над судьбой себе подобных? Королевич Владислав, а до него Лжедмитрий: им оброк будете собирать, иначе никак. Ну, пусть придут. И Грозного выдержали, и Путина переживем. Тем более, Речь Посполитую.
Зачем он оставил сыновей, Марк Рихтер уже не мог понять. Любовница, ее медовые крымские глаза, отельные страсти и акварелист Клапан – метель давно вымела всю дрянь прочь.
Он видел лишь белую дорогу России, суровую и ровную, как лицо его жены, тихую, как руки детей, безмолвную, как любовь.
Она приедет ко мне, вдруг понял Марк Рихтер. Если я все верно понимаю. А я теперь понимаю все верно. От этой мысли ему стало холодно – так, как было холодно за окном.
– Скажите, – спросил Марк Рихтер француза Рамбуйе, – ваш род ведь берет начало еще в Бургундском герцогстве? В хрониках Фруассара попадалась фамилия.
– А как же, – благосклонно отозвался Астольф Рамбуйе, – поместье сохранилось. Мы туда на охоту ездим.
– Вот оно что.
Белое-белое окно. Осталось немного, и они уже приедут.
Когда они засыпали, то всегда договаривались, кто кого будет обнимать. Ты сегодня меня обнимаешь, Мария, или я тебя? И она говорила: сегодня – ты. Обними меня сегодня ты, Мария, шептал Марк Рихтер. Прости и обними меня. Я справлюсь. Меня не убьют. Только ты обними меня крепче. Мы совсем одни, и я тебя предал.
Глава 29. Цыганская доля
Человек в лимонных рейтузах распахнул дверь в купе лондонского галериста и итальянского профессора – Грищенко заглянул к европейцам в поисках интеллектуальной беседы.
– Вы позволите? Устал от людей.
Поскольку ответа не последовало, Грищенко вошел, озарил рейтузами тесное пространство, благосклонно заметил, что общения европейского в снежной пустыне недостает. Когда увидел бутылки с вином, проявил осведомленность. Приятная улыбка раздвинула щеки, оживила полное лицо:
– Неужели бургундское?
Ладонь с короткими полными пальцами ухватила покатые женские плечи бургундской бутылки. Бруно Пировалли, впечатлительный романтик, всегда сравнивал прямые, с развернутыми плечами бутылки бордо с древними каменными куросами – с мужскими фигурами крито-микенского искусства; плавные покатые плечи бургундских бутылок напоминали ему мраморную Венеру Каллипиги. И вот пальцы украинского комиссара крепко ухватили бургундскую бутылку, и Бруно Пировалли почудилось, что Грищенко сжал в своей жмене статую Венеры.
– Боюсь, здесь уже пусто, – сказал Алистер Балтимор. И добавил с британской бессердечностью: – Мы не рассчитывали на ваш визит и уже все выпили.
– Извините, ничего не осталось, – развел руками Бруно Пировалли.
– А вот мы побачим, – комиссар Грищенко требовательно встряхнул бутылку, и то, что еще оставалось на донышке, отозвалось, встрепенулось. Грищенко немедленно переключился на другую бутылку, потом на третью, затем стремительно слил опивки в один стакан и оказалось, что стакан полон.
– Это три разных вина, – заикнулся было Бруно, но осекся, увидев презрительный холодный взгляд Алистера Балтимора. Англичанин не одобрял бесед с плебеями, он следил за действиями комиссара, никак их не комментируя, лишь скривил губы.
– И открыто неделю назад, – волновался Бруно.
Комиссар батальона «Харон» не расслышал, поднял бокал, присмотрелся к напитку, оценил цвет вина, внюхался в напиток, как и положено знатоку, затем отхлебнул, покатал уксус во рту.
– Давно не пил хорошего бургундского, – поделился с европейцами своими злоключениями комиссар Грищенко. – В Париж теперь выбираюсь редко. Война!
Европейцы выразили сдержанное сочувствие.
Григорий Грищенко, однако, был настроен оптимистически.
– Москалей разобьем, отпразднуем победу в Париже. С лучшим бургундским. Конечно, война изменила привычный ритм моей жизни. Вырываюсь на вернисажи нечасто. Вы авангардом, насколько понял, интересуетесь?
Последнее замечание адресовано галеристу. То был, в представлении Грищенко, диалог профессиональный, разговор двух европейских ценителей прекрасного. Алистер Балтимор кивком головы подтвердил предположение комиссара.
– Украинский авангард, уверен, занимает достойное место в вашей коллекции. Не удивлюсь, если первое место. Я прав?
– Сложно сказать, – равномерно бессердечный Балтимор не произносил лишнего. – Коллекция имеет несколько направлений.
Григорий Грищенко придирчиво осмотрел купе, отыскал еще три недопитые бутылки, слил содержимое в бокал.
– Украинский авангард, – комиссар смаковал напиток, слегка причмокивал, – отличается от русского авангарда безудержной свободой. Свобода – наша родовая, национальная черта. Знакомы с философией Ольгерды Харитоновой?
– Нет, – сухо сказал англичанин.
– Напрасно, – заметил Грищенко, – Ольгерда – специалист по рабскому менталитету россиян.
Комиссар выпил уксус, облизнул полные губы.
– Любопытно, – сказал англичанин.
– Мы, украинские интеллектуалы, принуждены были столетиями выносить соседство варваров. Скажу откровенно, Лилиана Близнюк, человек подлинно европейской культуры, физически не выносит соседства России. Дочь посла в Антигуа, она выращена в обстановке рафинированных ценностей западной культуры.
Поскольку Алистер Балтимор и сам прибегал к услугам офшора на Антигуа, он знал, о каких ценностях идет речь.
– Пожалуй, надо размять ноги, – сказал англичанин, – засиделись. Пройдусь по коридору. Спать мы сегодня вряд ли будем, вина у нас больше нет.
Алистер Балтимор вышел из купе, не удостоив Грищенко взглядом, но тот воспринял слова галериста как приглашение к совместной прогулке.
– Что ж, хоть и не парижский бульвар, но фонари горят всю ночь! – куратор из восточно-европейской страны ухватил лондонского галериста за локоть, интимно прижал и не отпускал. – К людям сходим, посмотрим, чем дышит народ!
Интеллектуалы направились по ярко освещенному коридору туда, где на полу спали цыгане.
Украинские боевики не позволили выключить свет в купе на ночь. Микола Мельниченко, кажется, вообще никогда не спал: прямой, несгибаемый, он сидел на откидном сиденье вагонного коридора – вечный страж. В эту и в последующие ночи – а время в пути растянулось, расписание давно забыли – свет горел. Батальонный командир Жмур объяснил, что обязан держать ситуацию под контролем: надо проверять, что происходит в вагоне. Прошло несколько ночей, бессонных ночей.
Поезд то шел, то стоял – и стоял поезд подолгу, несколько часов кряду, а возле Орши стояли целую неделю; и все это время Жмур следил за порядком, покрикивал на чумазых постояльцев литерного вагона. Микола Мельниченко же, напротив, успокаивал цыган, время от времени окликал их по именам (узнал имена и запомнил), объяснял, что едут они на волю. Ему мало кто верил.
– Время военное, – объяснил командир батальона европейцам, – требуется дисциплина. А эти дикари простых вещей не понимают.
Командир выглядывал из купе в коридор, следил за нарушениями.
– Сиди ровно! Ноги убрал из прохода!
– Не кричи, и так люди напуганы, – сказал командиру Мельниченко. И цыгана успокоил: – Сиди как сидишь, никому не мешаешь.
Старик цыган не понимал того, что ему говорил командир батальона «Харон», впрочем, довольно было повелительной интонации украинского бойца. Старик съежился, поджал ноги.
– Убрала рундук! Не поняла? Не вразумляешь?
Смуглые, невысокого роста люди вздрагивали, когда на них кричали.
И женщина тащила свои пожитки вдоль вагонного коридора, хотя приткнуть вещи ей было некуда. Требовалось показать покорность: отползти дальше по коридору и там устроиться снова. Цыгане разложили пожитки на полу, легли вповалку, детей держали на груди.
Их гортанный говор не был понятен никому, но когда грязные люди плакали, – а некоторые женщины плакали тяжело, навзрыд – их было жалко. Нежная Соня Куркулис переживала, порывалась поговорить с бойцами украинского Сопротивления, но не решалась; в результате метаний и колебаний отдала пачку овсяного печенья женщине с грудным ребенком. Женщина выхватила пачку печенья и прижала к груди рядом с ребенком, прикрыла одеялом.
– Напрасно это сделали, – сообщил Соне Куркулис полноликий комиссар Григорий Грищенко. – Эти попрошайки всегда стараются нас разжалобить.
– Чем вам не угодили цыгане? – спросил Марк Рихтер.
– Это ромы, – рыжеволосая Лилиана привыкла точно именовать проблему, называть вещи своими именами. – Все они дикари, а эти еще и воры.
– Не стоит так говорить, Лилиана, – хмуро сказал Микола Мельниченко, – мы все устали, но обижать нищих не стоит. Для кого-то и мы – дикари.
Кто такие цыгане, никто в вагоне толком не знал, даже просвещенная публика из Оксфорда не сумела договориться. Суждения высказывались разные. Православные? Какая-то у них смешанная вера. Индусы? Бруно Пировалли, специалист по тоталитарным режимам, и Астольф Рамбуйе, брюссельский чиновник, занимающийся правами человека, высказались неопределенно: в годы нацизма погибло, кажется, полтора миллиона. Или два. Что-то в этом роде. Государственности нет, анархия и воровство. Вот и все, что могли сказать эти информированные мужи. Кто-то там из цыганских баронов встречался с министрами иностранных дел Европы – будто бы им права обещали. Но даже в Брюсселе на это давно махнули рукой. Черт ногу сломит с этими референдумами, правами, претензиями. Вот, скажем, в Молдавии будто бы гагаузы хотели отделиться, а Молдавия не разрешила. А может быть, и не было никаких референдумов: гагаузов по пальцам пересчитать можно, какие уж тут референдумы. На планете гагаузов осталось несколько тысяч, едва ли намного больше, чем амурских тигров или белых медведей. Но ведь об амурских тиграх заботятся, думал Марк Рихтер.
Пусть их очень мало, думал Марк Рихтер, но даже одной семьи достаточно; любая семья – это маленькая общность людей, небольшой народ. Любая семья заслуживает того, чтобы ее интересы учитывали. Наши семьи включают в большие коллективы, а эти большие коллективы включают в еще большие общества, но кто же может сказать, какое именно количество людей считать достаточным для того, чтобы признать их право на особенность? Они осознают себя как отдельное общество, так осознавали себя отдельными от других евреи в Египте. Евреи пошли через пустыню, но куда идти цыганам? Вокруг живут другие народы, и нет на их пути горы Елеонской. И ведет их сейчас не Моисей, не Иисус Навин, а батальонный командир Жмур, который выставит нищих перед собой, когда дойдет до стрельбы. Они никому не нужны, за них не вступится ООН, за них не волнуется Брюссель, и ради них не станут финансировать военные концерны. Сколько таких никому не нужных семей бредет сейчас по России? Когда развалили Советский Союз, то разворошили народные семьи, и теперь эти чумазые люди не могут найти себе места. А ведь это тоже европейский народ, подумал Рихтер. Одновременно с тем, как в 2014 году состоялся референдум в Крыму и полуостров Крым отошел к России, – одновременно с этим событием состоялся референдум гагаузов в Молдавии; гагаузы не приняли внедрения румынского языка и пожелали автономии. Референдум в Крыму разъярил просвещенное человечество, хотя просвещенное человечество отлично понимало причины голосования в пользу России; а референдума гагаузов попросту никто не заметил. В сущности, с ними случилась история, схожая с русскими на Донбассе, думал Рихтер, но большому миру трудно брать в расчет ничтожно маленький народ. Кто будет думать о гагаузах? Референдум гагаузов сочли незаконным просто потому, что внутри комбинации «Молдавия – Транснистрия – Румыния – НАТО» интересы никчемных гагаузов были даже не пешкой на доске, а лишь претензией казаться пешкой. Никто не озаботился даже будущим многочисленных курдов (карта Востока бы изменилась), а уж думать о будущем цыган и вовсе не собирались. Нет цыган, не существует, коль скоро их интересы нельзя совместить с продажей оружия. Никто из мудрых менеджеров планеты, принимающих решения о политической карте, не взглянул в их сторону: чумазые люди не вписались в новую конфигурацию карты, их не существовало. Однако эти чумазые люди были еще живыми, они шевелились и дышали, они ползали по полу вагона, они ощущали родство друг с другом, они лежали на полу, прижимая к себе своих грязных детей, и при этом их как бы не было в природе – не существовало этих субьектов на карте мировой гуманности и мировой свободы. Они должны были покорно занять свое бесправное место на общем пиру демократии – превратиться в пыль или вовсе исчезнуть.
Но это же семья, думал Марк Рихтер, такая же в точности, как моя семья. Разве этого мало? Вот, нищие люди прижимают к себе детей, потому что боятся за малышей: таковы условия семейного договора. Но ведь мы, говоря о больших обществах, употребляем слова «социальный договор», мы чтим Руссо. И вот большой, просвещенный мир, который кипит и булькает миллиардными доходами и свободолюбивой риторикой, этот большой мир к себе маленькую семью цыган не прижимает. Их никто не обнял и согревать не спешит: в отношении них социальный договор не действует. Почему?
Идет война за передел мира, за расчленение России, и, может быть, Россия это заслужила; «тюрьма народов», как ее всегда называли демократы, должна быть разрушена. Возможно, надо Россию наказать за то, что эта непомерно длинная, огромная страна не вписалась в аккуратно поделенную мировую карту. Теперь ее называют «империей». Сегодня решено разделить мою страну на много губерний и мелких народов. Уйдет в прошлое слово «русский», сгинет русская культура, но зато появятся слова «чухлома», «мордва», «меря», «якуты», «хакасы», «карелы» – и эти народности станут такими же никому не нужными, как цыгане. Неужели, когда разделят Россию, кто-нибудь в просвещенном мире озаботится судьбой якутов? Или нуждами чухломы? Эти народности сгинут, они пропадут, как пропадают сегодня цыгане – сгорят в топке цивилизации. Найдется сильный, богатый и хорошо вооруженный субъект, он будет управлять слабыми племенами. Это будет такой же полнощекий самодовольный тип, как комиссар Грищенко; он часто будет произносить слово «свобода». Именно так, состояние полного контроля и рабства они назовут словом «свобода». Это будет свобода без равенства, и это назовут словом «историческая справедливость».
Вот сидит упитанный человек в лимонных рейтузах, комиссар Григорий Грищенко, он желает воевать с Россией за свободу. Грищенко никогда не держал в руках оружие, он обычно пьет коктейли в барах Киева и выезжает на брифинги и саммиты в приятные города мира. Здесь, в поезде, ему утомительно и крайне непривычно – ведь он создан для ресторанов с авторской кухней. Но Грищенко верит: грянет час победы над варварами, и тогда лучшие люди вернутся в ресторан. Мир должен сгореть на этом огне, на нем же поджарят сочный бифштекс для банкета. Хочу ли я принять участие в такой войне?
Что делать в Москве? Воевать на стороне путинской армии? Принять сторону тех, кто хочет разрушить Россию?
Рихтер не разрешал себе рассуждать патриотически – однажды, уже давно, он сказал себе: гуманист не имеет права быть патриотом. Требуется принять весь мир как единую семью; но что делать, если из общей семьи выгнали блудного сына? Если Россию гонят из общего дома планеты, как я должен себя вести?
Цыган сейчас гонят эти страшные ряженые люди, что их ждет, непонятно. Мельниченко не мог солгать, он прикроет любого нищего. Но поможет ли Мельниченко? Мирные жители, особенно бесправные нации, всегда попадали на передовую, между двумя армиями – это повелось со Столетней войны. Да, так было, и это повторяется снова: «справедливость» будет на стороне батальонов цивилизации. Ничего особенного сейчас не происходит, это обычная практика: слабых никто не жалеет, особенно тех слабых, которые пожелали быть сильными и не согласились ползать и лебезить. Те международные союзы, которые богаче и агрессивнее, они именуют себя «нациями, ищущими историческую справедливость», а народности, не вписавшиеся в новый порядок, они объявляют варварами. Сегодня «к украинцам относятся как к богам», так громогласно сказал украинский пропагандист Арестович; высший чин в украинской пропаганде сообщил истину всему человечеству, его суждения повторяли агитаторы мелкого разбора. Лимонно-рейтузный комиссар Грищенко густым басом многократно повторял формулу: «К украинцам сегодня относятся как к богам!» Украина заменит Россию на карте, сообщила всем Лилиана.
– А цыган заменят кем? Пока не решили? – спросил Марк Рихтер.
– Вы пожалели попрошаек? – горько сказала Лилиана. – Проявили, так сказать, гуманность. Живете в комфорте, испытываете гуманные чувства. За вас сражаются другие, – услышав эти слова, комиссар Грищенко надул щеки, а командир Жмур одернул френч, – а вы имеете возможность гуманно рассуждать.
– Разве дело в жалости? – сказал Мельниченко. – Можно никого не жалеть. Долг надо исполнить.
Лилиана встала и произнесла короткую речь, обращаясь к европейцам в вагоне, взывая к пониманию цивилизованных людей:
– Не прячьте глаза, европейцы! – яростно сказала рыжеволосая валькирия. – Наша война с Россией началась с тысяча шестьсот пятьдесят четвертого года! Мы, боги мести, носители европейской цивилизации, призваны уничтожить варварскую страну.
– Ужасно, правда? – тихо сказал Рихтер застенчивой Соне Куркулис. – Царю-то, Алексею-то Михайловичу, покойному самодержцу, что принял под крыло запорожцев, уж ему-то мстить за что?
– Мы должны их понять, – прошептала Соня Куркулис. – Обиженный исторически народ.
– Как это – «исторически обиженный народ»? – сказал Рихтер. – Вроде евреев? Да? А русские – это тогда египтяне?
– Давайте перестанем жевать жвачку из слова «мир», – сказала Лилиана, обращаясь непосредственно к оксфордским пассажирам. Кристофа она обожгла презрительным взглядом. – Довольно говорить о мире!
– Ну, конечно, мы это понимаем! – нежно пропела Соня Куркулис. – Я сама нисколько не воин, и я не умею, как это говорится… Я не могу обращаться с ружьем… Целиться… Это совсем не мое… Но я душой за свободу и цивилизацию, я стреляю вместе с вами! Вы – боги мщения!
– Вы обязаны Россию победить, – согласился Астольф Рамбуйе, – в данном пункте европейская цивилизация надеется на вас.
– Соня, – наклоняясь еще ближе к нежной девушке, еще тише сказал Марк Рихтер, – почему к украинцам надо относиться как к богам?
– Они восстали, – шепотом объяснила Соня Куркулис.
– Согласитесь, если вас поддерживает тридцать государств и все дают вам деньги и оружие, то употреблять термин «восстание» неуместно. Вот, допустим, цыгане… Им восстать трудновато. Ракет не дадут. Или гагаузы восстали против молдаван, но проиграли. Вы ведь из «Эмнести Интернешнл», да? Вас такое может заинтересовать.
– Да-да, однажды дойдет, разумеется, очередь и до гагаузов. Поверьте, Марк Кириллович, я глубоко сочувствую положению этих людей. Они ведь беженцы, не так ли? Однажды мы поднимем этот вопрос.
– Немедленно после вопроса о Хакасии и Якутии? – спросил Рихтер. Но говорил он, скорее, сам с собой, Соня его не поняла.
История описала круг, возвращается Речь Посполитая, украинцев сольют с Польшей; русское море высохло, и славянские ручьи текут в другую сторону. И кто же их права оспорит, и кто же подумает о цыганах, якутах и гагаузах? Уже и русских скоро забудут. Так захотела цивилизация: выбраковывает ненужных.
Кому нужен этот грязный ребенок? Никому.
Рихтер долго смотрел на женщину с младенцем, спящим на ее груди, вглядывался в горбоносое лицо; женщина почувствовала взгляд, проснулась, их глаза встретились.
Младенец был похож на младшего сына, когда тому было шесть месяцев от роду.
Рихтер улыбнулся матери малыша, но женщина не ответила на его улыбку.
Куда им бежать, думал Рихтер. Польша их ненавидит. На Украине их избивают. До Франции не дойти. Если в этих местах, под Оршей, к тому времени встанут украинские аванпосты, то цыгане как живой щит им пригодятся.
Поезд стоял, бессонная ночь при ярком свете выжгла былые заботы Рихтера. Теперь ему стоило труда вспомнить, что он переживал в Оксфорде; выгорело в памяти.
Он говорил сам с собой, давно усвоил: мысль надо проговорить, подбирая точные формулировки.
Христианская цивилизация сегодня настаивает на существовании свободы без равенства. Трудно поверить, что христианская доктрина, основанная на равенстве в любви к Богу, может мириться с неравенством в распределении свободы. Цивилизация согласилась, что неравенство образуется как результат свободного соревнования, в итоге получилась христианская цивилизация без христианства. Но, возможно, к этому надо относиться как к эпизоду в истории христианства?
Согласимся ради развития рынка, который обеспечивает технический прогресс, что свобода продуцирует неравенство, и взглянем на проблему с другой стороны.
Однажды я буквально физически ощутил взаимосвязь этических доктрин и эстетических принципов. Это было давно, помню комнату отеля, где меня посетила простая и оттого поразительная мысль. Проснулся и смотрел на репродукцию картины Мондриана: в дешевых отелях стены принято украшать репродукциями авангарда. Прежде украшали слащавыми неаполитанскими пейзажами, сейчас – брутальными картинками. Я смотрел на квадратики: всякое изображение несет информацию об обществе и мире. Любое, даже спонтанное произведение – это код культуры. Тогда я вдруг понял, какое именно общество строит манипулирующий первичными страстями авангард. Возникает регламентированное, квадратно-гнездовое казарменное общество, оно-то и изображено; авангардист зовет нас вперед, верно; но вовсе не обязательно, что он предлагает нечто доброе и гуманное. Квадратики разной величины и равномерно бездушны. Картина предлагала казарму и регламент неравенства. Это же самое предлагал и Малевич, подумал я. Крайне важное открытие – в дешевом отеле, перед дешевым завтраком. Вывод оказался столь прост, что я удивился: неужели элементарную связь не видят? Видят порыв к свободе – но никто не задается вопросом: какого рода свобода предложена? Это было первым шагом. Значит, думал я, если этический принцип воплощен в эстетике, то, манипулируя эстетическим, можно конструировать пригодную для управления этику. Потребовалось упростить мироустройство и вывести христианскую любовь – вон из цивилизации.
Значит, подумал я, в новом законе мироустройства (ибо что есть авангард, как не постулат новых правил, провозглашение новых законов) не будет любви. Ведь любовь может возникнуть только как выражение равенства.
Затем я сказал себе так: лишь беззаветная любовь к другому существу может стать основой социального договора. Это легко доказать логически: закон не может быть пристрастен и преследовать чью-либо выгоду, следовательно, общим принципом социального договора может стать только беззаветность. Любовь, понятая как принцип равенства, таким образом уравнивается со справедливостью, данная доктрина равенства лежит в основе законообразования Республики Платона. Соблюдение регламента равенства утомительно – как порой утомителен обет верности супругов; но этот регламент равенства есть условие взаимной свободы; ибо что и есть свобода как не возможность защитить другого.
Я сказал себе так: разница между свободным и несвободным состоит в том, что свободный имеет возможность защитить другого, а раб защитить никого не может. Рабу не разрешают защитить другого, он даже и себя защитить не может. И я не смог защитить свою семью. Я тоже раб. Как эти вот цыгане.
Затем следовало связать социальные законы с эстетическими принципами: любовь = равенство = свобода = справедливость = прекрасное. Я подозревал, что такая связь понятий существует, Платон подводил к этой мысли. Но умозрительно допускать возможность связи и ощутить единство физически, – разные вещи. Лишь собственная жизнь, опыт соединения понятий: дети, жена, родина, партия, семья, любовница, нация, искусство, даже плюшевые игрушки – мы переживаем каждое из явлений отдельно, и лишь осознание беды и потери помогает врастить одно в другое.
Стоит единство осознать, как все явления – растения, животные, люди, продукты, произведенные людьми, искусство, идеи и машины, все, что мы называем культурой, – делаются компонентами закона равенства сущностей. Мой младший сын иногда говорит о том, что животные имеют право поднять восстание против людей, так отвечая на истребление, учиненное человеком. Но равным образом я вижу права игрушек или картин, которые унижены нашим людским непониманием. Все отдельное возможно воспринять лишь внутри единой сущности, иначе мы не сможем полноценно пережить особенность отдельного, мы не сможем любить ребенка и женщину, если не осознаем, что они выражают общее для всех чувство единения с сущим. Неоплатоники это хорошо понимали. Они говорили – «эйдос».
Единую сущность всего, существующего отдельно, неоплатоники называли словом «эйдос», но я сейчас скажу: народ.
Когда я обнимаю Марию, я обнимаю весь мир, и плюшевых игрушек своих мальчиков, и картошку из подвала, которая спасла мать во время Второй мировой, и картины из Прадо. Мария согревает меня, как земля, как растения и солнце. Дети так добры ко мне, как тепло и свет. Все это вместе – растения, дети, игрушки, жена, свет – называется словом «народ», просто надо понимать народ не как «нацию», а как всех обитателей земли. Россия – это трансформатор энергии, помещенный между Востоком и Западом, Россия – вовсе не империя, но симбиоз энергетики и упорства, помогающий единству планетарной семьи; дай мне сил, Боже, проплыть между украинской Харибдой и российской Сциллой – к единой семье народов. Но что может вернуть осознание равенства лицемерному миру?
– А вам не кажется, Марк Кириллович, что самый страшный здесь человек – это совсем не Жмур с пистолетом и не госпожа Лилиана? Они агрессивные, признаю, но их можно и нужно понять. Самый неприятный здесь – это анархист Кристоф. Вот от них все беды в Европе! – говорила взволнованная Соня Куркулис.
– Вы, Соня, социалистов боитесь больше, чем капиталистов?
– Кто революции устраивает? Марк Кириллович, вы же знаток истории! Согласитесь, что все зло от идеи принудительного равенства!
– Не преувеличивайте мои знания, дорогая Соня.
– Вы сами говорили, что идея объединенной Бургундии – репетиция европейского единства! – торжествующе сказала Соня.
– Когда-то на лекциях говорил… Это так давно было. Мы и в Гражданской войне России разобраться не можем, а всего-то век прошел! Ну да, – говорил Марк Рихтер, постепенно увлекаясь, – выстроить анализ можно из любой точки. Извольте, можно начать от битвы при Пуатье…
– Гораздо интереснее! Так надоели эти названия… Макеевка, Ясиноватая, Горловка… Умоляю, расскажите о битве при Пуатье!
Глава 30. Лекция о революции, религии и прочей ерунде
– Соня, важна не сама битва, но следствия битвы при Пуатье. Герцогство Бургундское – данное в апанаж младшему сыну короля, – это следствие, и несомненно важное. Но что еще важнее – на короткое время возникла республика во Франции, первый Конвент. Король в плену, Франция живет без монархии, парижский прево Этьен Марсель организовал Генеральные штаты. Представьте – первый Конвент был в монастыре. Через два года король вернулся, все отменили, но первый Конвент состоялся, и Марсель – это Дантон четырнадцатого века!
– А я думала, вы мне о Столетней войне расскажете.
– Видите, как странно. Англичане сражаются с французами – и в итоге республиканский проект. Напомню вам о Франко-прусской войне тысяча восемьсот семьдесят первого года. А в итоге – Парижская коммуна.
– Ну вот. Опять революция, снова социализм, коммуна. А я, наивная, ждала рассказа о культуре. Про революцию можем спросить зубастого Кристофа – только поглядите на урода социалиста, какой же страшный! Я хочу говорить о христианской культуре!
– Христианской культуры без революции нет.
– Вы меня разыгрываете!
Соня засмеялась тихим, чарующим смехом. Лет сорок назад, думал Рихтер, я мог бы влюбиться в такую тонкую нежную девушку. Мы встретились бы на какой-нибудь московской кухне, в тесной квартире безработного интеллигента. Мы бы передавали друг другу томики Авторханова и Солженицына. И мы бы вместе ходили на собрания диссидентов. Так мы когда-то, сорок лет назад, ходили на диссидентские вечера с юной Елизаветой. Пили бы крепкий чай, ругали большевиков, говорили бы слово «демократия». Потом бы мы поженились, вместе бы эмигрировали в Израиль… Немногим хуже отъезда в Оксфорд. Так же нелепо. Такая у нас была бы жизнь, а сегодня – что же я могу ей сказать?
Старик цыган достал из мешка черствый хлеб и разломил его на три неравные части; себе оставил меньшую, две другие отдал дочерям. Оказалось, что женщина с ребенком – его дочь. Марк Рихтер следил за движениями цыгана.
– Милая Соня, в истории мысли, в истории социальной, невозможно вычленить одно явление; всякая мысль длится во времени, переживает несколько вариантов воплощения.
Соня Куркулис кивнула.
– Первый и главный вопрос, который ставит Мишле в многотомной «Истории французской революции», звучит так: в какой мере революция есть воплощение христианства. Этот же вопрос в России поставили Маяковский и Блок. Ответ, казалось бы, прост: революция (как французская тысяча семьсот восемьдесят девятого года, так и русская тысяча девятьсот семнадцатого года) упразднила религию и даже казнила священников. И разве Вандея не действовала от имени католической церкви, подняв Бретань против революции, разве белое движение не обращалось к народу от имени православия? Следовательно, революция и религия антагонистичны. Революционер в глазах контрреволюции – безбожник, враг церкви. И, если отвечать, следуя хронике гражданских войн, то христианство противостоит революции. Но это поспешный ответ.
Марк Рихтер рассказывал не торопясь; как это всегда бывало с ним во время лекций, ему быстро делалось безразлично, слушают его или нет. К тому же лекции – даже такие, вагонные – дают возможность отвлечься, забыть о том, что ты трус, предавший семью. Едущий неизвестно зачем неизвестно куда.
– Позвольте сделать рискованное заявление. Коль скоро я не на кафедре, а в поезде, и мы едем неизвестно куда, то могу позволить себе неакадемическое обобщение. Революция, которая не вступает в диалог с религией, не спорит и не переосмысливает Завет, – не вполне революция.
– Я вас не понимаю.
– Вспомните, милая Соня, что начало прошлого века в России – я говорю о революционных десятых годах – стало временем русского религиозного Ренессанса. Флоренский и Сергий Булгаков, Бердяев и Розанов – они ведь эхо Ленина и Бакунина. Вы задумывались над этим?
– Каков вывод?
– Сакральная природа революции. Добавьте сюда Первую мировую войну. Революция выпестована Первой мировой, как Парижская коммуна – Франко-прусской. Мне представляется, что Россия, когда она атакована всем миром, начинает вырабатывать в себе фермент революции. Так было в Отечественную войну тысяча восемьсот двенадцатого года, так было в Крымскую войну, так было в Первую мировую, так было в Великую Отечественную и, полагаю, так происходит сейчас. Россию выталкивают в революционное сознание. Сегодня происходит неожиданное: Запад решил убить капитализм в России, капиталисты бегут. Предположение смелое, и я не хочу ошибиться, высказывая его. Скажу иначе. Возможно, Россия – гнилой корабль, который постоянно на грани катастрофы. Но когда крысы бегут с корабля, корабль всплывает. Но ты сам – крыса, бегущая с одного корабля на другой, и оба тонут, подумал он.
– Марк Кириллович, мне трудно уловить вашу мысль. Россия – гнилой корабль, империя, идет ко дну. Согласна! Писатель Зыков это прямо говорит! И моя сестра каждый день про это пишет. Но революция и Россия – понятия несовместимые. Революционная страна – Украина!
– Мы в плену магического слова. Идея революции может возникнуть только сейчас. Надеюсь, России снова дан шанс совершить революцию.
– Вы шутите?
– Это причина моих расхождений с братом. Старший брат считает, что предназначение России – скреплять мир идеей Софии, своего рода империей Любви. Я полагаю, что миссия России – во всемирной революции.
– Неужели вы говорите эти страшные вещи всерьез?
– Я вам все объясню.
Лекция – это не книга; если не интересно, пусть не слушают. Когда-то, теперь уже давно, он намеревался написать книгу о религиозном сознании; потом передумал.
Жена Мария сказала ему так:
– Попробуй сначала объяснить детям.
– Я не смогу.
– Тогда и писать не стоит.
Мария никогда не говорила много слов подряд, но Рихтер понял.
Он все же спросил жену:
– Но ведь бывают случаи, когда надо писать?
– Да. Если война или потоп. Чтобы рассказать. Даже если не поймут.
– Спасибо, жена.
Марк Рихтер продолжал:
– Вопрос надо поставить так: насколько гуманистические ценности равенства и братства, которые революция противопоставила угнетению трудящихся и бесправию народа, соответствуют идеалам Нагорной проповеди? Разве свобода, равенство и братство противоречат заповедям первых христиан? Пролетарский поэт Маяковский называл себя «тринадцатым апостолом», а революцию считал поновлением Завета. Известно, что первоначальным планом Робеспьера было опереться на две силы: на якобинцев, но одновременно и на «низшее духовенство», на те восемьдесят тысяч священников, что испытывали гнет клира; Робеспьер выдвинул предложение разрешить низшим клирикам браки – и получил многотысячные отклики поддержки от священников. То, что Сталин вернул Православие (преследуемое в первые годы революции) во время Мировой войны, можно рассматривать как циничный расчет сатрапа; можно усмотреть в этом возвращение классической триады власти («самодержавие, православие, народность»), но можно увидеть идеал равенства – ибо христиане равны перед Богом так же, как солдаты перед долгом. Долг перед другим, он – общий, как для революции, так и для христианства.
– С этим не могу согласиться, Марк Кириллович! Христианами становятся добровольно, а в армию призывают. Люди идут служить несправедливости. Поверьте, я и люди моего круга такие базовые вещи отлично понимаем!
Соня принадлежала к той чудной московской интеллигенции, которая ощущала себя держателем нравственных акций России. Они вложили всю свою страсть в ненависть хладнокровному офицеру с азиатским лицом, хотя лично Путин им, обеспеченным столичным жуирам, не сделал ничего дурного и даже не обложил их налогами. Никому из «оппозиционеров» не приходила в голову мысль «ходить в народ», как то делали народники девятнадцатого века. «Народников» было принято презирать за то, что те проложили путь ненавистной Октябрьской революции, устранившей привилегии образованного класса и, как считалось, отбросившие Россию вспять от цивилизации. Народников ненавидели за то, что те «разбудили» злого Ленина. Самое слово «народ» было презираемо – косная, бесперспективная масса двуногих; собеседником оппозиционера стал просвещенный капиталист. Оппозиция, да! Хотя никто из бойких протестантов ни разу в жизни не держал в руках «Философию истории» Гегеля, им мнилось (нет, они были убеждены!), что все то, что совершалось на территории одной шестой суши, было сделано закономерно и справедливо, исходя из интересов высшей «прогрессивной» поступательной рыночной цивилизации. Приватизация, рынок, конкуренция – все это опровергает революцию, считали они. Революции устраивает народ, чтобы отнять честно заработанное элитой.
– Вы правы в одном, Соня, – сказал Марк Рихтер. – Революции часто становятся инструментом захвата власти и порабощения. Так было с Октябрьской революцией. Так же точно обстоит и с украинской.
– Как вы можете… – ахнула Соня Куркулис, – герои шли на ружейные дула… Героям слава!
– В религиозных войнах в атаку идут то католики, то протестанты. Я имел в виду иное. Это важно понять.
– Я вас слушаю.
– Революции – все известные мне революции – устраивали во имя социальной справедливости и во имя равенства. Революции происходят потому, что терпеть угнетение невыносимо – и тогда возникает план: как изменить жизнь общества. Идеологи революций поднимают народ ради общественного спасения. Соня, революционер – это тот, у кого есть программа спасения Отечества. Революционеры исповедовали доктрины Марата и Бабёфа, Фурье и Сен-Симона, Маркса и Томаса Мора, Ленина и Бакунина, Грамши и Либкнехта. Потом – бывало часто! – по плечам революционеров приходил диктатор: Наполеон или Сталин присваивали себе победы революции. Но сама революция от этого не меняла пафоса! Коммунистов сажали в лагеря другие коммунисты, якобинцы отправляли на гильотину жирондистов – но революционеры продолжали верить в идеалы Руссо и Маркса! Идеал на гильотину не отправишь. Идеал революции бессмертен. Только не на Майдане.
– Почему?
– Вы где-нибудь слышали о революциях, вождями которых выступают миллиардеры Сорос и Рокфеллер? Это же противоречит здравому смыслу. Вы читали о революциях, за которые борются капиталисты всех стран, в то время как они могли бы помогать голодным в Африке?
– Данная революция не социалистическая, а национально-освободительная!
– Борется с русской империей?
– Вот именно! С империей борется! – Соня привстала и руку протянула вперед, к процветанию предпринимателей и частного сектора.
– А за что борется? За присоединение феодальной элиты к гигантской капиталистической структуре? Или за права трудящихся своей страны?
– Но ведь революции бывают не только социалистические! – крикнула Соня в отчаянии. – Зачем все сводить к социализму! Существуют революции демократические! Да! Либерально-демократические революции!
– Как Февральская?
– Да! Да! Как Февральская!
– Соня, для революции нужна программа. Хотя бы черновик плана. Звучит один лозунг, только тот, что произнес Гучков, военный министр Временного правительства Февраля. «Мы должны все объединиться на одном – на продолжении войны, чтобы стать равноправными членами международной семьи». Наши конвоиры повторяют его слово в слово. И ничего больше.
– В этом отношении все ясно! Украина стала форпостом Запада! Украина желает идти путем Европы!
– Каким именно из путей? Таковых несколько.
Соня Куркулис хмурилась и не соглашалась.
– Вы не будете отрицать, Марк Кириллович, что народ предал интеллигенцию. Значит, мы не должны давать народу программу.
– У вас программы нет, – сказал Рихтер.
Что мог Рихтер сказать Соне? Интеллигенты путинской поры, думал он, тяготились тем, что косное население не понимает своего предназначения – пойти в перегной. Не за народ, отправленный нынче умирать, болела душа: мобилизованных дураков презирали. Интеллигенты русской столицы страдали за порушенный комфорт убеждений, за хорошо забаррикадированное невежество, которое было декорировано корешками нечитаных книг и общими фразами, повторяемыми в гостиных. Прогрессивное сознание не требовало ни ежедневного чтения, ни сомнений, ни знания жизни другого. Требовалось усвоить нехитрую мантру: «западная цивилизация = рынок + демократия + технологический прогресс», и эта мантра, многажды проговоренная в кружках и редколлегиях, держала интеллигентов в тонусе. Сегодня, во время войны с Украиной, интеллигенты вложили всю энергию обиды от разрушенной мечты, всю энергию, направленную на обеспечение комфортного колониального существования, – в ненависть к азиату, воплотившему бунт варварства против цивилизации.
Автор должен заметить, что сам Рихтер, несмотря на свою эмиграцию, был точно таким же интеллигентом, и такой же упрек он должен был бы адресовать прежде всего самому себе.
Не революция на повестке дня, нет! Для интеллигента подлинной революцией является истребление варварства.
– Я поняла, как вам надо ответить! – воскликнула Соня Куркулис. – Революция сегодня – это не борьба с капитализмом! Это борьба цивилизации с варварством!
– Как вы определяете варвара? Леви-Стросс однажды сказал: варварство – считать, что существуют варвары. И апостол Павел говорил о том же. Давайте начнем с того, что уравняем «цивилизацию» в правах с «варварами».
– Революция и религия? Не смешите!
И в заметенном снегом поезде, стоящем в российских снегах, Марк Рихтер подумал, что единственный достойный выход из Столетней войны – это путь Джироламо Савонаролы.
– Кристоф, – спросил Марк Рихтер у попутчика, зубастого социалиста, – вы никак не связываете свое христианское имя с вашей социальной позицией?
– На что вы намекаете? – зубы веером и подозрительный взгляд.
– Скажите, – спросил Рихтер польскую монашку, – вы готовы ради веры в Иисуса строить республику нищих?
– Как в Донецке? – спросила католичка и зло засмеялась.
– А вы, уважаемая Лилиана, как видите вы социальную структуру победившей Украины?
– Основанной на европейских идеалах!
– Петеновских или деголлевских? Согласитесь, это не одно и то же.
Лилиана не сочла нужным ответить, а лимонно-рейтузный комиссар густо рассмеялся.
– Лишь бы не путинских!
– Уважаемые попутчики, – сказал Марк Рихтер, – уж коль скоро поезд стоит и война, судя по всему, началась, у нас образовалось время выяснить, ради чего эта война идет.
– Неужели не понятно? – рявкнул Грищенко.
– В том-то и дело, что мне не очень понятно. Скажите просто: вы собираетесь строить общество социалистическое или капиталистическое? Это же простой вопрос.
– Вот-вот! – вмешался Кристоф, ему удалось подхватить нить разговора. – Пусть они нам ответят. Капиталисты вы или социалисты? А ну-ка, скажите, революционеры! Вы, Рихтер, молодец, правильный вопрос им задали. А то я было решил, что вы из этих, из попов. Крест не носите?
– Что вы, Кристоф, – сказал Марк Рихтер. – Мне до попов далеко. Но крест ношу.
Поздно, думал он, от христианства в революции ничего не осталось. Теперь это уже будет не христианская революция. Сервисный капитализм так называемой «христианской» цивилизации фактически ликвидировал пролетариат Запада, переместив производство в страны Третьего мира.
Это не означает, что пролетариат как таковой исчез. По-прежнему существует огромная масса людей, производящая продукт, прибавочная стоимость которого достается западным менеджерам, организаторам производства. Масса управляемых людей должна именоваться «пролетариатом» ровно на тех же основаниях, на каких именовался «пролетариатом» рабочий класс Англии с отчужденным характером труда. Однако «осознание права» и «революционный характер класса» оказались в современной истории привиты к культуре мусульманства (или индуизма), а не христианства, как то было во время Маркса. И это принципиальный пункт. Маркс в своей революционной теории исходил из того, что грядущая пролетарская революция и коммунистическое бесклассовое общество являются логическим выводом из христианства. Вот оно, наследие Этьена Марселя и кордельеров. Пролетариат – это своего рода «первый христианин», возвращающийся к истокам христианской морали, а «Капитал» есть поновление христианского завета любви к ближнему.
Перемещение труда (и перемещение пролетариата, революционного класса) на Восток, в мусульманские страны, лишило концепцию пролетарской революции ее христианского базиса. Маркс руководствовался ренессансной моделью свободного труда, его нравственным идеалом оставался труд христианского гуманиста – свободный труд, добровольно отданный на благо Республики. Эта христианско-гуманистическая концепция превращала европейский рабочий класс в носителей ренессансной модели общежития. Однако производство, вынесенное за рамки христианской цивилизации, перевернуло концепцию Маркса: отныне христианское общество не может представлять ренессансную модель гуманизма – а мусульманский пролетариат не связан с европейской ренессансной традицией никак.
Таким образом, капитал (в неолиберальной редакции) стал могильщиком ренессансной концепции свободы. Мутация, занявшая сто лет, стала очевидной в середине двадцатого века, а в двадцать первом веке сожалеть об утраченной ренессансной эстетике поздно. Нам не на что опереться.
Уже никогда свобода не будет равна равенству, а прекрасное не будет тождественно справедливости. Украина хочет войти в ту Европу, которой прежде не было, – в Европу менеджеров.
Все изменилось. Уравняв граждан принципом христианского гуманизма, Просвещение произвело «авансом» всех христиан в тружеников единой семьи. Но христиане перестали быть тружениками; нет единой семьи.
Примечательно в данном рассуждении было то, что думал так человек, сам предавший свою семью. Но мысль эта, столь очевидная, в голову Рихтеру не приходила.
Пролетариат, с ним и революционная идея, а вместе с ними концепция общей семьи народов ушли с Запада. Но, если нет уже более народа, то ради чего теперь бороться? И это думал человек, оставивший собственных детей.
Поезд все шел и шел, и расстояние между Рихтером и его семьей все увеличивалось.
– Мы глобальная элита! – говорил сметанный Грищенко. – Ваше дело – снабжать нас оружием! И давайте быстрее и больше! Мы же умираем за вас!
– А за нас не надо умирать, – сказал Кристоф Гроб. – Я лично вас не просил. Вы, ребята, лучше не умирайте, а поживите-поработайте. Может быть, вы лучше за нищих африканцев поработаете? Или вон для этих, для нищебродов цыганских.
Цыган отдал ребенку весь хлеб, но хлеба не хватило. Попросить у своих европейских попутчиков цыган боялся, а ребенок тяжело плакал; Рихтер присмотрелся – это была девочка.
Глава 31. Цыганский ребенок
Поезд на три недели застрял в белорусской Орше, на границе с Россией; украинские боевики сошли раньше.
В Орше русские военные остановили состав, искали командира батальона «Азов».
– Вам именно командир «Азова» нужен?
– Здесь что, всякие командиры имеются?
Но не было уже в вагоне никакого командира.
Командир батальона «Харон», юркий Луций Жмур, покинул вагон на перегоне между Минском и Оршей. Жмур изучал белорусскую степь через оконное стекло, а когда высмотрел известное ему место, дернул стоп-кран, поезд затормозил, и украинский военный, а с ним и его спутники спрыгнули на снегом припорошенное жнивье. Сперва согнали в тамбур и вытолкали из вагона цыган. Цыгане цеплялись за поручни, не хотели выходить – в поезде тепло, а в степи ледяной ветер. Цыгане прижимали к себе детей и мешки, неуклюже отпихивались, но командир и комиссар неумолимо толкали корявых людей в спины. Люди, привыкшие, что их всегда куда-то гонят, противились, но слабо, поддавались напору, сыпались вниз, в снег, роняя мешки.
Европейские интеллектуалы заглядывали в тамбур, интересовались происходящим. Соня Куркулис, заботливая, спросила у рыжеволосой валькирии, для чего плохо одетых детей гнать на мороз.
– Пожалели? – резко спросила рыжеволосая Лилиана. Жилистая и цепкая, она как раз ухватила цыганку, перевязанную платком накрест; за цыганкой волоклись ее грязные дети. Мальчики держались за подол матери, семенили за ней к вагонным дверям, в руках цыганка сжимала свертки и пакеты – ни с чем не желала расстаться. Лилиана Близнюк развернула женщину лицом к снежной равнине: – Прыгай!
– Степь кругом, – сказала Соня. – Может быть, до станции доедете?
– Основания есть, – сказал командир Жмур. – А жалеть цыган не стоит. О них позаботятся, накормят.
– Спросите лучше у себя, – резко сказала Лилиана, – кого жалеете? Зачем сожгли наши дома на Херсонщине?
– Мы увозим цыган от погромов, – сказал Мельниченко, сказал медленно и веско, как всегда. – Спрятать их можем только у себя. Больше негде.
Соня не нашлась что ответить.
– Я домов не жег, – сказал Рихтер. Он вышел вместе с прочими пассажирами в тамбур.
– Смотрели, как другие жгут?
– Не смотрел, – сказал Рихтер. – Но стыжусь.
– В самом деле, Марк Кириллович, – сказала робкая Соня Куркулис, – нам всем должно быть стыдно перед украинцами.
– Ганьба! – крикнул комиссар в лимонных панталонах. – Ганьба!
По-украински это слово обозначает «позор», но наивная Соня Куркулис решила, что комиссар назвал некоего Ганьбу, повинного в преступлениях перед многострадальной Украиной.
– Но мы не знакомы с Ганьбой, – робко сказала Куркулис, а социалист Кристоф разразился каркающим смехом.
– Знаете, зачем цыгане нужны? – прокаркал Кристоф. – Когда эти вояки больницы и школы занимают, а на первых этажах женщин с детьми держат. Тут, наверное, поселок поблизости. И школа есть. Вот они цыган впереди себя поставят, будут из-за спин стрелять.
Вопиющее это предположение возмутило европейцев.
– Не обращайте внимания на этого человека, – сказал Бруно Пировалли. – Перед вами анархист в самом худшем понимании слова. Ни стыда ни совести.
– Уверен, вы позаботитесь об этих людях, – сказал мсье Рамбуйе украинским боевикам.
И Мельниченко подтвердил это кивком кудлатой головы.
– Мы можем им предложить только то, что имеем.
Рамбуйе глядел, щурясь, на искристый белый покров степи, вспоминал фильм «Доктор Живаго» и Омара Шарифа в главной роли. Все же умели снимать кино в семидесятые. И музыка к кинофильму превосходная.
Бруно Пировалли, знаток кинематографа, угадал его мысли.
– Нино Рота? Не так ли? Помните, снега… Метель. И вот эта сквозная тема…
– Они боятся, что на станции их встретят русские солдаты, – сказал Кристоф. – Поэтому сходят сейчас. Цыгане нужны как щит.
– Вы не имеете права так думать!
– Имею! – надрывался анархист.
Микола Мельниченко не удостоил Кристофа ответом, поглядел презрительно.
Управлять пестрой толпой было трудно. Цыган проталкивали по вагонному коридору: комиссар Грищенко и командир Жмур тянули людей за рукава, тащили за шиворот, выпихивали их в тамбур, а рыжеволосая валькирия последним толчком меж лопаток сталкивала людей в снег.
Толкнула в спину женщину, перевязанную платком, и та посыпалась со ступенек тамбура вниз, просыпалась, как порванный мешок картошки. Повалились из рук пакеты с какой-то пестрой дрянью, съехал на сторону бурый платок, старший мальчик упал в снег лицом, младший повалился на брата, сел на него верхом. Женщина, падая, стараясь удержать детей, спотыкаясь на железном полу тамбура, роняя тюки, успела сунуть один из пактов в руки Соне Куркулис и уже с земли крикнула на гортанном своем языке, а потом и по-русски, коверкая слова:
– Деточку не загубите, деточку побереги.
И Соня поняла, что пакет, который у нее в руках, – это завернутый в байковое больничное одеяло младенец.
– Немедленно отдайте ей ребенка, – распорядилась Лилиана. – У вас нет никакого права забирать ребенка. А ты стой! А ну-ка, быстро подошла сюда! Тебе сказано! – это уже крикнула вслед женщине, которая, подобрав полы, отбросив платок, бежала прочь от поезда. – Не сметь убегать! Для их же блага стараемся!
– В самом деле, – заметил разумный Бруно Пировалли, наблюдавший сцену с неодобрением, но и без явного осуждения, – лучше отдайте им ребенка. Вряд ли разумно оставлять чужого младенца. Что мы с ребенком делать будем?
– Насколько могу судить, – взвешивая слова, сказал английский галерист Балтимор, – повстанцы знают, куда именно сопровождают табор. Нет оснований сомневаться, что о несчастных позаботятся.
Цыганка продолжала бежать прочь от поезда, ее мальчики, сильно отставая, бежали следом за матерью, комиссар в лимонных панталонах спрыгнул в снег и погнался за ними; желтые ляжки комиссара крутились в морозном воздухе.
Соня Куркулис, никогда прежде не державшая в руках ребенка, тяготилась новой ролью: материнство в планы Сони не входило, а если бы такое событие когда-либо и приключилось, то уж, конечно, сыскалась бы на этот случай и няня. Сверток не тяжелый, но неудобный в обращении, причем с одной из сторон мокрый; Соня вертела сверток в руках, стараясь не уронить, но прижимать к себе мокрую упаковку не хотелось. Она собралась уже отдать сверток с младенцем рыжеволосой партизанке.
– Замерзнет ребенок, – сказал Марк Рихтер.
– Я возьму ее, – сказал Микола Мельниченко, – вы можете не беспокоиться о ребенке.
Но Рихтер взял из рук Сони Куркулис ребенка, завернутого в одеяло. Девочка – это была девочка – спала и дышала ровно. Привычный к обращению с детьми, Рихтер принял девочку на ладонь, другой рукой прикрыл от ветра, свистящего из двери вагона.
– Марк сочувствует детям, – пояснил военным людям Бруно Пировалли.
– Вы бы лучше Украине так сочувствовали! – горько сказала Лилиана Близнюк.
– Русня, – сказал Жмур. – Я имперца сразу чую.
– Тримай его, Луций! – гаркнул комиссар. – Тримай гада! – Комиссар вернулся к вагону, волоча за собой пойманную женщину. Мальчики плелись подле комиссара. – Вот она, паскудина. Бери своего пащенка. Ну-ка, все вместе двинулись!
– Времени нема, – сказал командир батальона «Харон». – Выдвигаемся.
К ним бежали проводники, требуя вернуться в вагон, поезд был готов к отправке.
– Неужели не сочувствуете Украине? – ахнула Соня Куркулис. – Простите нас! – Соня Куркулис закрыла порозовевшее от смятенных чувств лицо.
– Я тебя запомнил! – крикнул снизу, с белой равнины, комиссар Грищенко. – Мы всех запомним, не простим!
Женщина-воительница спрыгнула вниз.
За ней Мельниченко.
– Присмотри за девочкой, – сказал он Рихтеру.
– Присмотрю.
– Обещаешь? – Мельниченко смотрел пристально. – Надежда на тебя невеликая. Ты детей защищать не обучен.
– Обещаю.
Последним, как положено командиру подразделения, сошел с поезда Луций Жмур.
Поезд набрал скорость, скрылись из глаз и цыгане, и рыжие кудри валькирии, и лимонные рейтузы комиссара.
Глава 32. Споры попутчиков
На станции Орша в вагон вошли солдаты; сказали про эпидемию, забрали у европейцев паспорта: рекомендован двухнедельный карантин.
Состав отогнали на запасной путь, локомотив отцепили. Местные власти колебались: не разместить ли иностранных пассажиров по больницам – да откуда в Орше столько больниц взять? А может, и не интересовались местные власти этим вопросом – откуда подробности знать? Держали состав с европейскими гостями в Орше, вот и все. Решили: нехай в купе сидят, чтобы на улицу ни-ни! Паспорта обещали вернуть, но не возвращали долго, никто не заботился о заморских гостях. Медсестра ежедневно навещала вагон, приносила баночки и пробирки с детским питанием – после звонков в местные клиники наладились девочку кормить.
Женщины сразу устранились: Жанна Рамбуйе грациозно повела плечом; Соня Куркулис развела руками; монахиня пообещала в Москве связаться с миссией при костеле Святого Людовика, там, кажется, имеется приют. У нее опыта обращения с детьми нет – откуда у монахини дети? Равно и Алистер Балтимор, и Кристоф Гроб не сталкивались с проблемой ухода за младенцами: один был занят зарабатыванием денег, другой – классовой борьбой.
– Поможете? – спросил Рихтер у Бруно Пировалли. – Управимся вдвоем.
Многодетный итальянский отец охотно откликнулся.
– Плачет – и пусть. Поплачет – успокоится. У меня семеро. Семерых детей и на тещу, и на жену, и на всю родню хватает, – Гвидо рассмеялся злорадно. – Такая у Италии судьба, вечно страну делят, мы привыкли делить семью. Этого ребенка надо было разрезать на части – по завету Соломона. Разумно делить на три части: одну – украинским борцам, другую часть – силам НАТО (в данном случае это мы), а третью часть можно отдать цыганам.
– Возможно, так и поступят с Украиной, – ответил Рихтер и тоже рассмеялся.
– Вы не смеете так говорить! – Соня отшатнулась.
– Мы шутим, Соня.
Марк Рихтер остался с ребенком, который ему напоминал о собственных детях. Еще недавно были такими вот маленькими. Асфальтовые, еще не обретшие цвет глаза девочки, напоминали глаза жены, Марии, в те минуты, когда жена сжимала в себе обиду и ее зеленые глаза темнели. Гвидо предоставил Рихтеру право менять пеленки, сам занимался детским питанием: грел на плитке баночки, принесенные медсестрой.
А поезд все стоял. Дни шли, снег замел запасные пути, зачерствел наст на шпалах, состав заиндевел.
Приходили солдаты, переодетые в белые врачебные халаты, и врачи, одетые в пеструю рванину. Щупали пульс, проверяли багаж. Наконец, паспорта вернули.
Может быть, и впрямь дело в вирусе: липучая зараза, как известно, приходит всегда во время войны. Вот и сто лет назад накрыло Европу испанкой – и как раз во время большой бойни. На Первой мировой поубивали изрядно народу, но еще больше перемерло от никому не понятной заразы. Солдаты (или врачи?) советовали всем носить маски. Но масок не было.
– Маски у вас есть? – спрашивала попутчиков взволнованная Жанна.
– Противогазов даже нет, – отвечал злой Кристоф.
– Зачем противогазы, лучше венецианские полумаски, – говорил итальянец. Но Бруно мрачнел день ото дня.
– Вирус придумали американцы, – говорил Кристоф, скалясь. – Сварганили вирус в секретных лабораториях и выпустили в Европе. Химическое оружие, понятно? Чтобы людей превратить в роботов, понятно?
Три недели пассажиры маялись, не покидая свои купе, бранили путинский режим и американский вирус. С бургундского перешли на водку, покупали скверное пойло у алкашей на перроне. Кристоф научил итальянца пить стакан залпом. Белорусские бабки совали в окна вагона кастрюли с картошкой да картофельные пирожки, продавали пассажирам драники – картофельные блины; у белорусов кулинария сводится к вариантам картофельных блюд. Обвыклись пассажиры в Орше; а как поезд тронулся, тут и новости подоспели. Согнали российские войска к границе с Украиной, объявили по всем каналам: мол, идут учения; и – помертвели пассажиры. Поняли, что будет война.
Снег все шел. От Орши до Смоленска несколько часов пути, а под Смоленском – опять военный грузовик поперек железнодорожного полотна.
В Смоленске задержали еще на две недели. Про вирус даже не говорили. Опять отняли паспорта. Долго о чем-то расспрашивали мсье Рамбуйе; он не рассказал о чем. Потом говорили с англичанином Алистером Балтимором.
– Они вообразили, что я – шпион, – сообщил попутчикам галерист. – Кому-то в Кремле пришло в голову, что британский галерист отвечает за снабжение Украины ракетами.
– А вы не шпион? – спросила польская монахиня. – Англичане часто занимаются шпионажем; я детективные рассказы читала.
– Евангелие надо читать, – резко ответил англичанин.
– Тогда зачем детективы издаете?
– Спросите его, зачем квадратики продает! На абстрактном искусстве наживается! – Кристоф успел узнать подноготную Алистера Балтимора.
Недобрая атмосфера, пассажиры нервные. Чуть слово – и сразу спор.
– При чем тут шпионаж, – кипел социалист, – все боятся журналистов! Прослышали, что едет левый журналист, и вот результат. Правда никому не нужна.
– Православной церкви, – кротко сказала монашенка, – нестерпим дух католической веры.
– Не хватало еще религиозной войны, – заметил Рамбуйе. – Чума есть.
– Давайте «Декамерон» разыграем, – сказал Бруно Пировалли. – Сюжет похож: компания интеллектуалов прячется от чумы; сидят взаперти и рассказывают истории.
– Секреты! – Жанна оживилась. – Пикантные подробности! Предлагаю тему: как я потеряла невинность. Сестра, – это к монахине, – начнем с вас!
– Как я потерял политическую невинность, – сказал Алистер Балтимор. – Это было страшно.
– В книге Боккаччо гуманисты говорят о любви, – сказал Гвидо.
– Сегодня, – сказала Жанна Рамбуйе, – мы устали и хотим веселья! Надоело воевать! Будем говорить о внебрачных связях, супружеских изменах! Мне скучно! Рихтер, рассказывай!
– Последние двадцать лет изучаю пятнадцатый век, – сказал Марк Рихтер. – Оказывается, сегодня врут больше. Пишут конституции, а потом конституции отменяют. А женам изменяют, как раньше. Друзей предают. Объяснить ясными словами, что такое справедливость, Платон еще старался. У него не получилось.
– Какая банальность! – сказала Жанна Рамбуйе. – Сильные люди не боятся несправедливости и супружеских измен. Скажите, имеется в Смоленске шампанское?
Смоленская кухня оказалась разнообразней, нежели белорусская – в станционном буфете пассажиры разжились пельменями, сварили кастрюлю. Отважный Бруно Пировалли раздобыл несколько упаковок с детским питанием, забота о ребенке украсила общество. Жанне Рамбуйе удалось – без особого труда – очаровать коменданта вокзала; среди ночи открыли станционный ресторан, где делегация скупила шампанское.
Вечер завершился дружеским застольем.
На следующий день все поссорились.
– Всегда можно договориться, – начал Бруно. И после этих слов началось.
– Италию кто только не завоевывал. А мы зла не держим.
– А что вы вообще держите? – спросил немецкий анархист. – Правительства нет, одна мафия.
– Русские простили немцев, – сказал Рихтер, – хотя казалось, что вражда навсегда.
– Ничего вам Украина не простит!
– Нам поляки ничего не простили, – желчно заметил Кристоф, – требуют с немцев миллиард репараций.
– Урок вам, – вставил свое мнение Алистер Балтимор. – Никого из грязи вытаскивать не следует.
– Из-за поляков Вторая мировая началась. Как Чехословакию делить, тянут руки. А когда самих разделили, им не понравилось!
– Ах, вы недовольны поляками! А как вы помогали варшавскому восстанию?
– Мы так помогали варшавскому восстанию, как варшавяне помогали восстанию варшавского гетто!
– Это немец говорит?
– Что хотите от немцев? Если бы украинцы, поляки, литовцы и французы нам евреев не выдавали, так и душить было бы некого. Вы со своими евреями что сделали?
– Есть вина вашего народа! Покайтесь!
– Сами кайтесь!
– Русские пусть каются!
– Неужели? Англия за африканские колонии воевала, а на фашизм вам, британцам, было плевать.
– Во всяком случае, британцы сражались дольше всех!
– Чужими руками! Кто Украину вооружает? Сознайтесь, вам безразлично, сколько славян убьют.
– Гуманисты нашлись!
– Мы обязаны дать отпор новому Гитлеру, – сказал Алистер Балтимор.
– При чем тут Гитлер?
– Путлер!
– Это что, Путин Сирию бомбил с Ираком?
– Демагог и спекулянт!
– Вот представьте, – восклицала Соня Куркулис, – в подворотню входит очкарик, а на него бросается маньяк с бритвой… А вокруг стоят люди и спорят о правах… В такой момент вы, европейцы, ссоритесь! Ах, стыд, стыд!
Путешественники притихли.
Требовалась изрядная доза воображения, чтобы представить президента Соединенных Штатов Байдена, или премьер-министра Великобритании Джонсона, или глав оружейных концернов, или биржевых спекулянтов в роли очкариков в подворотне. Некоторые из упомянутых персонажей и впрямь носили очки, но плохо пришлось бы тому маньяку, что по неосторожности рискнул бы на них напасть.
Орали друг на друга, Кристоф даже разбил стакан. Так миновал очередной день. И снег все шел.
На следующий день говорили о женском начале русской культуры: не потому ли Россия всегда ищет себе господина, что в ней нет мужского начала? Рассмотрели вопрос: расположены русские люди к рабству по своей генетике – или же нет. Вспомнили, что слово «славяне» намекает на слово «slave», что значит «раб». Ученые разворошили так называемую «норманнскую теорию»: без внешнего влияния славяне так и остались бы дикарями.
– А как же революция? – вскипел социалист Кристоф. – Революция русская – вы ее чем объясните? Рабским сознанием?
– Однако наш коллега Марк Рихтер бежал из революционного дома, – ядовито сказал Пировалли.
– Уехал от контрреволюции, – ответил Марк Рихтер.
Так перебрасывались они словами, разговор отвлек от того, что происходит в стране. Галерист Алистер Балтимор, мсье Рамбуйе и итальянский профессор то и дело бросались к компьютерам, искали сети, вчитывались в новости.
– Постойте! Помолчите! Вы слышите?!
– Что там? Что такое?
– Война.
Двадцать четвертого февраля, почти через два месяца после их отъезда из Парижа, началась большая война.
В эти дни русские высадили десант в Киеве и в Чернигове, видимо, собирались закончить войну в один день, хотели арестовать киевское правительство. Вертолеты зависли над украинским аэропортом в Гостомеле, в город Ирпень вошли бригады десантников. Были отброшены, отступили. Русских, как оказалось, горячо и трепетно ждали, встретили достойно. Разведка спутниковая, космическое наблюдение – и уж наверняка не украинская разведка, как заметил ехидный Пировалли, – в точности показала места высадки российского десанта. Русские войска откатились назад. Бои теперь шли на окраинах Ирпеня и в какой-то неведомой Буче. Пассажиры поезда про Бучу услышали впервые; отныне про это местечко знал весь мир. По слухам, там, в этом местечке под названием Буча, русские учинили резню мирного населения, стреляли в затылок старикам, кромсали беременных женщин, резали детей.
– Оh, that is a perfect choice! Place named Butcher – is the right point for massacre! – сказал Алистер Балтимор. Butcher по-английски значит «мясник».
– Верно, название выбрано не случайно, – сказал Рихтер. – Господи! Какое страшное совпадение!
– Господи, вразуми иродов, – монашенка молилась.
– Стыдно, стыдно, стыдно быть русским! – кричала Соня Куркулис, и она бегала по коридору вагона, то у одного окна остановится, то у другого, упрется лбом в стекло – и так стоит. За окном та же снежная ночь – и сквозь мрак виделись Соне окровавленные тела.
Русские войска отошли к Донецку. Теперь бои шли вокруг укрепрайонов, выстроенных еще при советской власти и усовершенствованных английскими и американскими фортификационными мастерами. Потери нападающих всегда больше, чем у тех, кто в обороне. Да и снабжение русских подвело. Президент Путин дождался весны, и дороги развезло; машины с продовольствием и снарядами выстроились в колонны на узких шоссе, не могли свернуть ни вправо, ни влево – вокруг топь; колонны расстреливали с воздуха. Русская армия отступила.
– Невозможно разворовать всю страну и создать боеспособную армию, – хладнокровно заметил англичанин, спекулировавший картинами.
– Ожидаемое поражение, – согласился мсье Рамбуйе. – Российская армия обречена.
– Стыд, стыд, стыд, – бормотала Соня Куркулис. Точно молитву читала.
И даже младенец, девочка, оставленная цыганами на попечение европейцев, рыдала. Бруно Пировалли кормил младенца с алюминиевой ложечки, утешал.
Выяснялись жуткие и вместе с тем унизительные подробности российского наступления. Передавали, что русские солдаты убивали в Буче беременных женщин, издевались, насиловали и пытали, а из разоренных украинских хат солдаты-оккупанты воровали унитазы и стиральные машины. Эти краденые унитазы и стиральные машины мародеры посылали по почте к себе домой, в свои убогие города, где нет ни водопровода, ни канализации.
Рядом с образом хрупкого очкарика в подворотне, на которого кидается маньяк, нарисовалась еще одна картина: дикий русский солдат выворачивает унитаз из кафельного пола, затем пакует унитаз в деревянный ящик, сколоченный из украденных на лесопилке досок, тащит, обливаясь потом, этот ящик в почтовое отделение. И хорошо, если почтовое отделение близко и не закрыто на обеденный перерыв или по случаю артобстрела. Видимо, мародерам приходилось бросать при транспортировке оргтехники свое табельное оружие: донести до почтового отделения ящик с унитазом и одновременно автомат и шинельную скатку – немыслимо.
Картина мародерства развеселила немца Кристофа.
– А в унитазы русские напихали украинское сало, – скалился анархист, – дикари отбирают сало у хохлов, прячут сало в унитазы и отправляют своим семьям в голодные деревни!
– Как можно смеяться в такие минуты!
– Представьте себе, сколько стоит посылка унитаза или стиральной машины по почте, – сказал Рихтер. – Втрое дороже стоимости унитаза, который можно купить в любом магазине.
– Орки не думают! – кричала Соня Куркулис. – Подонки воруют инстинктивно! Тем более убийцы живут в таких убогих дырах, где и канализации нет!
– Но зачем за большие деньги посылать стиральные машины в отсталые места, где нет водопровода? Зачем дорогие бандероли с унитазами посылать туда, где нет канализации?
– По-вашему, русские не способны на такое? Вы националист?
– Какой любопытный инстинкт у этих солдат, – задумчиво отметила Жанна Рамбуйе. – Насиловать собак. Сколько силы надо иметь. А каких именно собак насиловали?
– Вам что, порода интересна? – спросил анархист. – Болонок буржуазных!
– Болонок? – Жанна Рамбуйе, Сибирская королева, разочарованно вздохнула. – Борзые намного привлекательнее. – Сама она была изящна и стремительна, как борзая. – Надеюсь, хотя бы не бульдогов. Успокойте меня.
И добавила фразу, изумившую попутчиков:
– Судя по всему, срывается поездка на Мальдивы. Мы с Грегори Фишманом собирались после вернисажа на Мальдивы. Лететь должны с прекрасной парой меценатов. Милейшие люди, Полкановы. А теперь, по слухам, Полкановы уехали из Москвы в Лондон. Все меняется.
Никто не ответил Жанне. Не до культурных мероприятий. Резня в Буче, изнасилованные собаки, унитазы украли – какие тут меценаты?
Поезд двигался вяло, чуть тронулся, и опять остановка, часы тянулись – чтобы проехать десять километров, требовался день; остановили состав сразу перед Москвой, в Вязьме.
Опять военные; лязгают двери, хрипят голоса.
В вагон вошел одноглазый человек в полковничьих погонах. Глаза не было вовсе, никакого, даже стеклянного глаза не было, даже черной повязки через глаз не было. Пустую правую глазницу человек не старался скрыть: на лице его была яма. Показал удостоверение. Полковник танковых войск Оврагов.
– Что ж вы без танка, полковник? – спросила Жанна Рамбуйе, изучая яму в лице военного. Полковник был широкоплеч и прям, свое уродство не прятал. Жанна продолжала размышлять о собаках, и образ одноглазого полковника волновал ее.
– Потерпите, – ответил ей полковник Оврагов. – Не все сразу.
– Значит, будут танки?
– Если очень попросят.
– Мы чем можем помочь? – спросил корректный англичанин.
– Информацией, – сказал одноглазый полковник. – Документы посмотрю.
Его ординарец, невзрачный субъект, собрал у гостей города документы; сличал лица с фотографиями; дошел до паспорта Марка Рихтера, всмотрелся, вчитался в имя и крикнул горестно:
– Так вот ты какой, сволочь!
– Что с вами? – спросил Рихтер.
Полковник Оврагов удержал подчиненного взглядом. Такой силой обладал взгляд одинокого глаза, что Паша Пешков стих и привычно съежился. Попав в армию, Паша не изменился: минуты неистовства чередовались с часами тихой трусости.
– Жену он у меня увел, – голос Паши Пешкова дрогнул. – Разрешите доложить, отбил у меня жену иностранец.
Глаз полковника Оврагова задержался на профессоре Рихтере, потом опять поглядел на Пашу Пешкова.
– Врешь, – сказал полковник. – Нет у тебя жены. – Затем отдал Рихтеру честь.
– Вы ученый, господин Рихтер?
– Теперь я никто, – честно ответил Марк Рихтер, – совсем никто.
– Добро пожаловать в столицу нашей Родины. Через час будете на Белорусском.
– А на фронте как обстоят дела? – спросила Жанна Рамбуйе, завороженно изучая полковника. Оврагов был пугающе красив, как может быть красив пожар.
Гвидо Пировалли, склонный к романтическому восприятию действительности, сравнивал облик полковника с ликом войны.
– Вы просто нордический бог Один, – сказал профессор Пировалли.
– Не преувеличивайте, – сказал полковник.
Соня Куркулис подумала о циклопе Полифеме.
– Вы – персонаж греческой мифологии, – сказала Соня Куркулис, обращаясь к военному. – Такие, как вы, стояли на пути Одиссея.
Лицо полковника Оврагова украсило бы любой плакат тридцатых годов прошлого века: каменные скулы, прямой нос, подбородок – скалой. Только одного глаза нет.
– Почему вы не на фронте? – любопытствовала Жанна. Одноглазый мужчина тревожил воображение.
– Опытных людей там хватает.
– Но таких, как вы, наверное, нигде нет. Вы очень жестокий? – Голос Жанны вибрировал на низких нотах. – А у нас были приключения, полковник. Нас чуть не изнасиловали. Как тех собак.
– Каких собак?
– Доверчивых, неопытных болонок. Но послушайте… – Жанна описала сцену с цыганами, рассказала про лимонно-рейтузного комиссара и про забытого ребенка.
– Мне, полковник, цыган жалко.
– Обычное дело, – сказал одноглазый. – Погонят на фронт, дыры в обороне заткнут. За ребенка спасибо. Девочку заберут в детский дом. Распоряжусь.
– Какой вы спокойный. Такие, как вы, собак не насилуют?
– Времени нет, – успокоил даму Оврагов. – Отдыхайте, уважаемые гости.
– Мы как раз собираемся отдохнуть. Устраиваем праздник вечером. Не желаете присоединиться, полковник? На мое общество время найдется? Буду ждать.
Глава 33. Бал мазохистов
Поезд «Париж – Москва» прибыл по месту назначения, на Белорусский вокзал – в то самое время, когда мыслящие люди столицы ринулись прочь из города.
Первыми уехали самые сметливые, обладавшие связями за границей. Следом спешили те, кто жаждал походить на сметливых, и в этом желании явил расторопность. А за ними ломанулись простофили: аэропорты вспухли от граждан, покидающих отечество. Вокзалы, напротив того, опустели: поезда в Европу отменили. Впрочем, и полеты на Запад отменили быстро. Оставались считаные дни летной погоды – граждане покупали билеты на рейсы в Израиль, Берлин, Ригу или Нью-Йорк, не вдумываясь, где будет лучше: главное, чтобы приняли.
Европейская делегация растерялась, и это еще мягко сказано. Как же это? Приехали в гости – а дом пуст? Куда они все? Ведь стремились приехать именно в общество избранных интеллектуалов!
Бывает же такое: отправишься в гости, а хозяева как раз ушли прочь. Зачем же ехали, спрашивается, если хозяев дома нет? Москва пустела на глазах: еще вчера столичные обитатели куролесили, предавались привычному московскому словесному блуду, язвили правительство и заказывали изысканную пищу в ресторане «Третий Рим» – и вот рассыпался праздник, опустел пейзаж. Так вода океана внезапно уходит во время отлива за горизонт, остаются только рифы и водоросли. Рифы и водоросли – то есть гастарбайтеры-таджики, какие-то вовсе неуважаемые интеллектуальным обществом квасные патриоты да никчемные пенсионеры – эти остались на местах, а цвет нации, избранные персоны, что своим дерзновенным дискурсом создавали московскую атмосферу – они превратились в едва различимые точки улетающих самолетов. «Прощай, немытая Россия!» – воскликнул поэт в ту пору, когда страна и впрямь была грязновата. А сейчас страну отмыли, почистили – однако мыслящие люди и с мытой Россией распрощались.
Оксфордские гости ступили на московский перрон, повели глазами. Вокзал как вокзал, весьма ухоженный, чище, чем парижский, зал аккуратно выметен – мытая стала Россия, Лермонтову придраться не к чему. Но ожидаемой радости приезжие не испытали. Война не успела исказить черты города, однако пространство гудело, как сирена. Европейцы, увидевшие город впервые, молчали, панорама не впечатлила. Обмена мнениями, обязательного для гостей, не случилось.
Конечно, идет война; это понятно. Но, согласитесь, Москва – город не военный, патрулей не видно, а если идут бои в Киеве, так это далеко. Экое диво – война! Мало ли на свете войн: всегда где-то стреляют. Любую газету открой, хоть английскую, хоть бельгийскую – так на пятой странице всегда про какие-нибудь стычки. Цивилизованным людям не привыкать. Однако возникло скверное чувство: слишком долго ехали с востока на запад – планета за это время испортилась вся, целиком.
Общее мнение выразил социалист Кристоф Гроб. С социалистами такое случается частенько, они говорят вслух то, что другие произнести стесняются. Кристоф оскалил кривые зубы:
– Как на Луну прилетели. А луноход где?
Лунохода к перрону не подали, но зато шофер, посланный Грегори Фишманом, подхватил чемоданы супругов Рамбуйе, проводил чету к автомобилю «Майбах».
– Мы – в Хайят! – объявила Жанна Рамбуйе. – Неужели нормальная ванная? Но вечером все встретимся? Почти два месяца вместе! Как же я без вас? Рихтер, я без тебя уже не могу! Всех вас приглашаю к своей лучшей подруге, к Инессе! Слышите! Всех!
И впрямь, пассажиры злополучного поезда сроднились. Отметить день приезда общим застольем – что может быть естественнее? Как это порой бывает в жизни людей светских, Сибирская королева, пригласив всю компанию на бал к подруге, сама прийти не смогла. Не явился на общий праздник и Марк Рихтер.
Но, потеряв на время из виду двух героев, следует рассказать о том, как встретила Москва западных гостей и что увидели цивилизованные люди в одном из лучших домов города. Дом этот по праву считался украшением столицы: здесь писатели праздновали издание своих романов, а композиторы слушали свои произведения в исполнении лучших музыкантов, здесь банкиры заключали контракты, а дамы находили (пусть ненадолго) свое счастье.
Хозяйка встречала гостей в дверях.
И первой – как может быть иначе? – заключила в объятия Амалию Хорькову, столичную модницу.
– Входите, входите, дорогая! А где же Ник? Понимаю, понимаю, все расписания сбились в эти страшные дни! Вы слышали новости? Они бомбили Купянск. Боже, я не знаю куда деться от стыда. Серж, предложи, наконец, Амалии шампанское… Ах, я сама не своя…
Сергей Кучеящеров, успешный торговец капканами и колючей проволокой, не только не потерял свой бизнес в страшные военные дни, но, по понятным причинам, приумножил. Кучеящеров привык держаться в тени своей блистательной супруги, Инессы Терминзабуховой. Он понимал, что ему выпала несказанная удача – сумел жениться на особе, умеющей собирать у себя всю Москву – все то в Москве, что имело смысл собрать.
Сергей Кучеящеров разносил розовое шампанское, а Инесса продолжала говорить – обращаясь к гостям, что стекались в просторную залу.
– Мы все до одного виноваты в том, что произошло. Мы заслужили самое беспощадное наказание, не правда ли? Сейчас, как никогда прежде, я чувствую жгучую вину за то, что русская… За то, что родилась и жила в этой бесчеловечной стране… Серж, прошу тебя, будь повнимательнее, вот рядом с тобой Алистер Балтимор… У него нет бокала… Простите меня, Алистер, но сегодня мы говорим только об одном… Других тем у нас нет… Не ищите здесь развлечений, мой друг…
– Это клеймо, которое выжжено на каждом из нас! – сказала безымянная женщина с большим бюстом и тонкими ногами. Ее часто видели на общих балах, но имени так и не узнали.
– Ты тоже чувствуешь это клеймо, Амалия? – в ответ на реплику хозяйки вечера Амалия Хорькова, жена ресторатора Хорькова, передернула обнаженными плечами. Клеймо на теле было незаметно или же находилось ниже ватерлинии платья, но определенно дама испытывала дискомфорт.
– Скажем себе правду, Амалия. Мы сами – убийцы. Да! Мы сами совершили эти преступления. Резня в Буче – это моя вина. Прошу вас, дорогой Бруно, возьмите сами… Эти с утиным паштетом, а вот здесь с икрой… Сегодня стало известно, что русские солдаты насиловали беременных женщин… Представьте, русских заставляют перед атакой принимать возбуждающие капли… Солдаты пьют виагру, чтобы насиловать детей!
– А ведь мы живем среди этих нелюдей.
– Амалия, будем честны: мы одни из них. Мы ходим по кругу истории, инфернальность – и спуск в Коцит!
Инесса Терминзабухова в юности была женой режиссера Терминзабухова, и ее словарный запас вызывал зависть. Коцит, ледяное озеро в самой потаенной глубине ада, было известно не всем собравшимся.
– Как точно, – сказала Амалия Хорькова. – Это слово я хотела произнести буквально секунду назад.
– Мы опозорены навсегда, не правда ли?
– Это невыносимое чувство презрения к себе самой! Ах, боже мой, мы все тебя ждем, Ник. Где ты пропадал?
Крупный экземпляр человеческой породы Ник Хорьков, столичный ресторатор, вплыл в зал, точно большая рыба, продвигаясь среди золотых рыбок помельче. Плавниками он мягко раздвигал толпу, продвигаясь к жене.
– Тяжелый день, дорогая, люди подавлены. Рестораны полны, не скрою, но веселья нет. Я травмирован. – Ник рассеянно принял из рук хозяина бокал. – Откровенно говоря, испытываю отвращение, глядя в зеркало.
– Когда я вижу свое отражение, мне хочется кричать, – сообщила его супруга.
– Я никогда не стану чистой, – сказала хозяйка вечера.
– И мне так кажется, дорогая. Мы стали грязными навсегда.
– А вы знаете, что ракета влетела в жилой дом в Мариуполе и убила семью?
– Я раскаиваюсь!
– Ах, если бы нашим покаянием вернуть их к жизни!
– Бессильная ненависть – вот то, что я испытываю, Инесса! Ненависть к себе и к народу, который я считала своим.
– Погибли старики родители, муж с женой и младенцы.
– Младенцы! Они-то в чем виноваты? Серж, ну разве я должна все время напоминать…
– Дорогая, просто закончилась бутылка. Открываю новую.
– Я раскаиваюсь в том, что говорю по-русски!
– И я раскаиваюсь!
– Но что же делать с русской культурой? Ах, мы больше не имеем права употреблять это слово.
– Привел с собой Олега Кекоева, – сообщил ресторатор. – Известнейший комментатор Мандельштама. Да идите же сюда, Олег, не стесняйтесь. Беда сближает всех. Поверьте, Олег, тут все знают и любят Осипа Эмильевича.
Кекоев растерялся среди дорогих пиджаков и шипящих бокалов. Небогатый человек не знал, как вести себя среди богатых людей.
– Беда с русской культурой, – сказал Кекоев на всякий случай. – Беда.
Сказать, что с русской культурой «беда» – это всегда уместно.
– Не беда! Катастрофа!
– Да, это наша вина… О, я задыхаюсь, мне душно!
– Скорее, скорее дайте Амалии воды! Серж, что ты делаешь?! Сейчас не надо шампанского, неси эвиан! Вам с газом или без газа?
– Спасибо… Без газа… Я принадлежу к народу-убийце!
Сюда, в эту анфиладу комнат, украшенных произведениями современного искусства, стекались гости – из тех, кто еще не уехал из милитаристского государства. То были самые известные, самые яркие. Как поредели их ряды! Но от того лишь ярче сияли те, кто остался в оккупированном городе – ибо что как не оккупация бесчеловечной властью происходило нынче с Москвой. Вот адвокат Басистов, расспросите его, адвокат вам расскажет, что происходящее несовместимо ни с каким законом! Вот Ник Хорьков, владелец лучших ресторанов, он объяснит, что свободное общение людей ушло в прошлое; вот Арсений Казило, куратор современного искусства, он знает о проблемах ущемленного творчества: еще вчера дерзким жестом акциониста стало публичное действо на Красной площади – авангардист Павловский прибил свою мошонку к брусчатке, прямо под носом у кремлевских сатрапов. А кого сегодня удивишь наскоро прибитой к мостовой мошонкой? Плевать сатрапам на твою мошонку! Сегодня пленных солдат кастрировали, отрезали им конечности и вырывали языки. Какой уж тут любительский акционизм, когда за дело берутся профессионалы. Деяние Павловского осталось в прошлом, отступив перед армейской практикой, и куратор Казило негодовал на упавший рынок. Пройдите немного дальше: вот движется по зале Юлия Пиганова, она возглавляла фракцию партии «За правое дело», но партию объявили распущенной; а вот Вилен Фокин, многие знают, что его романы не печатают; неужели вы до сих пор незнакомы с Виленом? Ресторатор подвел комментатора Мандельштама к новеллисту, и Кекоев выложил свои козырные карты: «усатый горец», звонок Пастернаку, Воронеж, Владивосток, братская могила… И беседа завязалась.
Здесь многие страдают! Глядите, здесь и Михаил Шульман, главный редактор газеты «Будем!». Добавим: увы, не существующей уже газеты… Буквально вымели русскую культуру прочь из страны. Прикажете продолжать список гостей и их славных дел? Вот Джабраил Тохтамышев – уж Тохтамышева-то и представлять не надо… Помните его речь на Болотной площади? Вот именно, вот именно… А там, в соседней зале, и Ревякин (его программа «Сумерки Империи» ныне запрещена в России, но переехала в Ригу, вещает оттуда), и подле него стоит Виктор Лямкин, публицист, которого объявили иноагентом; какой цинизм, не правда ли? О времена! Кстати, здесь одна из руководителей «Эмнести Интернешнл», та седая дама с бриллиантом на пальце, а рядом с ней Соня Куркулис – девушка едва с поезда, она приехала только что из Европы, и она тоже активист «Эмнести Интернешнл». Вента карбонариев в Италии, пребывавшей под гнетом австрийцев, не выглядела столь живописно.
Москва! Ты умираешь, ты гниешь, ты смердишь, но сколь сладок запах полураспада!
Оксфордские гости смешались с толпой, закружившей их по анфиладе комнат.
– Я не понимаю, как можно не осознавать, что возмездие неотвратимо, – сказал Виктор Лямкин, публицист. – Как можно спокойно спать, есть, водить детей в школу, бухать на корпоративах? Что с людьми произошло?
Гостей (общество собралось изысканное) покоробило простонародное «бухать», но, в конце концов, публицист описывал психологию плебеев – именно тех служащих, менеджеров среднего звена, которые как раз «бухают» на «корпоративах» (словом «корпоратив» назывались офисные праздники). Теперь фирмы закрывались одна за другой, а их владельцы уезжали кто куда. Оставшийся офисный планктон продолжал «бухать» (как режет ухо это слово), но напитки у менеджеров становились все более скверными, а эстрадных певцов на застолья звать перестали.
– И культуру уже не спонсируют? – вполголоса спросил Олег Кекоев у своего собеседника Фокина. И надежда всплеснула плавниками в темных озерах его горестных глаз.
– Да, что с ними всеми произошло? – громко спросил Вилен Фокин, новеллист, показывая за окно.
Там, за окнами особняка на Пречистинке, сияли бессердечные золотые купола храма Христа Спасителя и высилась твердыня Кремля, этого ужасного творения одураченного итальянца Фиорованти. А ведь было время, когда мы слепо доверяли этой крепостной православной вере! Верите ли, некоторые из нас даже ходили в церковь… Молились! Крестились! «Я даже на исповедь ходила!» – воскликнула с горечью Инесса Терминзабухова, и Амалия Хорькова обняла за плечи страдающую подругу. Чему поклонялись? Произволу православному? Хотя были сомнения, были! Некоторые давно понимали! А теперь – что остается нам делать теперь, когда воинственные попы, заодно с диктатором, гонят покорный народ в мясорубку войны?
– Вы слышали, нет, вы слышали, как патриарх сулил убитым солдатам рай?! Какой цинизм! – Амалия Хорькова погрозила отсутствующему патриарху кулаком. – У-у-у, прихвостень! Он обязан был сказать, что рая нет, старый лгун!
И те, кто стоял подле Амалии Хорьковой, оценили справедливость упрека. Достаточно взглянуть в окно: кровавый кирпич стен, вульгарные золотые купола – что это? Нет, не свечи, поставленные Богу, но шлемы жестоких опричников! Россия, зачем ты явилась на свет? Чтобы обмануть цивилизованный мир?
– Еще немного шампанского? Последний бокал. Нас ждет кролик, к нему, я уверена, Серж предложит что-то особенное.
– Шамбертен, – сказал застенчивый Серж Кучеящеров и потупился: уж не ошибся ли он? Но Алистер Балтимор, ценитель прекрасного, одобрительно похлопал торговца капканами по плечу.
– Отличный выбор, мистер Kucheyashcherof!
– Умоляю, зовите меня просто Серж!
– А я для вас Алистер, мой друг. Торгуете предметами охраны жилища?
– Людям хочется ощущать себя в безопасности. Капканы, колючая проволока. До торговли стингерами не дорос…
Глаза Алистера Балтимора на мгновение заледенели.
– …А торговать прекрасным, как вы, так и не научился, – закончил свою мысль Кучеящеров.
Инесса Терминзабухова и Серж Кучеящеров сияли, радостно лучились в окружении гостей, хотя радость, казалось бы, была неуместна: то была радость саморазоблачения, радость самобичевания.
Вилен Фокин, новеллист, привлек общее внимание.
– Россия смердит, запах гниения проник даже в эти стены, – сказал Фокин, и гости, принюхавшись, согласились.
Пахло тушеным кроликом, с кухни в столовую прислуга как раз внесла поднос, но гостям казалось, что это дух каземата, пусть и не вовсе отвратительный.
– Ужас в том, что невозможно открыть окно, чтобы избавиться от запаха тлена, – развил метафору Фокин. – За окном еще более смрадно.
– Да уж, здесь не Париж, – сказал Джабраил Тохтамышев, правозащитник, и с завистью поглядел на Фокина.
– Не Париж, определенно, – холодно подтвердила Юлия Пиганова, которой недавно отказали в визе.
– Не Париж, – эхом отозвался оскорбленный Шпильман, не допущенный даже и в Ригу.
Все завидовали Фокину, у него в кармане лежал французский паспорт, и где-то в тихих рукавах 16-го аррондисмана счастливца ждала небольшая, но отменно обставленная квартира; двухкомнатная гарсоньерка для пресыщенного интеллектуала – о чем может мечтать гонимый судьбой москвич. Фокин настолько был влюблен в свою парижскую квартиру, что постоянно носил с собой альбом, составленный из фотографий интерьера. Переплетенный в красный сафьян, альбом извлекался из кармана в минуты задушевных бесед.
Те счастливцы, коим Вилен Фокин демонстрировал фотографии своей квартиры (фотосессия выполнена тем же великим фотографом, что запечатлел президента Зеленского с супругой на фоне руин Мариуполя), втолковывали прочим, что изящество обстановки фокинской обители ошеломляет. Это ведь надо уметь от рождения, такому вкусу не обучишь, примитивный мужик и не поймет, где следует ставить пуфик, а где небрежно уронить раскрытую книгу. Здесь будет скомканный ковер, тут выцветшая фотография чужого дедушки, там рассыпанный набор раковин, собранных не тобой; за окном – шумящий бульвар. Тонко, изысканно, и налоги заплачены.
О Париж! Сын советского посла в Париже, Вилен (назвали в честь Владимира Ленина, так называли детей партийцы), то есть нынешний правозащитник Вилен Фокин – вынес из номенклатурного прошлого преданность 16-му аррондисману, пристрастие к трюфелям, ненависть к России и французское гражданство. Вилен Фокин раз в год наезжал в Москву, дарил былых сограждан протуберанцами свободного духа.
Он один из нас, но – гражданин мира! Вилену Фокину завидовали и не скрывали зависти: чуть возникнет потребность у совести нации, и она улетит отсюда прочь, туда, где за окнами ничего бессмысленно не золотится и воинственно не высится. Совесть нации будет парить в горних пространствах, а мы здесь, в утлой долине, останемся вдыхать миазмы тоталитаризма.
– Вы в Париже живете? – спросил Олег Кекоев у новеллиста.
– Да, в шестнадцатом аррондисмане, на севере района, прямо около леса. – «Буа де Булонь» решил не добавлять, чтобы не расстраивать беднягу.
– А, это хорошо, гулять можно. Я тоже живу около Тимирязевского парка. Приходите в гости, буду рад.
Вилен Фокин поглядел на безумца, рот открыл для отповеди, но ничего не сказал.
– Там у нас утки в пруду, – пояснил Олег Кекоев, – даже на зиму не улетают, представляете? Придете?
Вилен Фокин решил не реагировать на бестактность, но вместо этого сказал так:
– Как государственного объединения России уже нет. Это просто подморозка трупа. Ну да, идет спор между реанимацией и моргом!
Над столом с закусками прошелестел аплодисмент.
– Я сам чувствую себя разлагающимся трупом.
– Браво, Вилен! – восторженно воскликнула Инесса Терминзабухова, подавшись всем своим телом, точно балетная танцовщица, точно раненая птица – к оратору. – Как беспощадно и как точно!
– Дорогая, это супер! – подтвердила Амалия Хорькова.
– Неужели уже труп? – растерянно произнес Олег Кекоев.
– Вы нашли точные слова, – сказал Казило, на которого пока еще не обратили внимание, и он еще не придумал нужной реплики. Раскаиваться следовало громко и надо было произнести нечто запоминающееся, хлесткое, как удар плети. Куратор современного искусства Казило пил бокал за бокалом в ожидании вдохновения, фраза должна прийти на ум, всякий из собравшихся обязан отметиться в самобичевании.
– Чувствую свой позор, – сказал Казило неуверенно. Но, поскольку рот у него был набит утиным паштетом, да к тому же эту фразу сегодня уже дважды говорили, эффекта куратор современного искусства не добился.
– Стыд меня жжет каждую секунду, – сказал Казило более отчетливо, прожевав бутерброд. Помолчал и добавил: – Буквально каждую.
Но раскаяния опять никто не заметил. Взоры всех гостей устремились на адвоката и правозащитницу из Америки, члена правления «Эмнести Интернешнл» – госпожу Диану Фишман. Адвокат Басистов и американская дама соединили свои бокалы и выпили за скорейшее освобождение всех политических узников. Ресурсы убеждения и переговоров с тираном исчерпаны, констатировала дама. Пусть тюрьма народов падет во прах, пусть ракеты демократических стран испепелят этот город.
– Да будет так, – просто сказал адвокат Басистов.
И к чему пафос, если этот человек – вот этот самый адвокат Басистов! – он ежедневно спасает гонимых? И, если надо приговорить страну к уничтожению, и если страна заслужила уничтожение – то пусть свершится справедливость! И наконец Казило осенило, и он громко произнес:
– Карфаген должен быть разрушен!
На этот раз он снискал одобрение аудитории.
Госпожа Диана Фишман, одобрив упоминание о Карфагене едва заметным наклоном головы, сказала:
– До основания.
И Катон, обличая Карфаген, не мог бы сказать лучше. Соня Куркулис, сотрудница «Эмнести Интернешнл», приникла к плечу госпожи Фишман, как бы греясь подле ее убеждений, напитываясь ее величественной правотой.
– Мы оскорблены как женщины и как гражданки, – подтвердила Соня Куркулис, и ее тонкое лицо затрепетало.
– И вы оскорблены как мать, – скорбно добавила Инесса Терминзабухова, обращаясь к Диане Фишман; но сразу же осознала промах. Поскольку ни одна из присутствующих здесь дам не была матерью, реплика Инессы, как и давешние реплики Казило, не была оценена. В самом деле, когда стоишь на баррикаде, все же необходимо знать, в кого именно стреляешь. Инесса, осознав ошибку, сделала шаг назад, отступила от бруствера.
– Мое оскорбление глубже, – пояснила свою позицию дама из «Эмнести Интернешнл», – потому что я представляю права человека. Не своего сына, – у госпожи Фишман не было детей, но она сочла нужным уточнить, – но любого сына. Я оскорблена как мать всех украинцев, что гибнут в эту минуту в Мариуполе.
И госпожа Фишман, оскорбленная как мать, гражданин и женщина, поискала глазами в толпе гостей своего супруга, мецената Грегори Фишмана. Где-то здесь он бродит со своей новой подругой. Что ж, такое случается с пожилыми мужчинами.
Скорбное молчание сковало присутствующих. Они жевали и пили без энтузиазма. Сейчас, именно в эту самую минуту, ракеты российской империи рушили жилые кварталы.
И в тишине раздался звенящий голос хозяйки праздника:
– Я убила украинцев! – Голос вибрировал на высокой ноте и звук гудел под потолком. – Я виновна!
Олег Кекоев ахнул и даже сжал руку соседа, Вилена Фокина, в порыве братского единения в раскаянии.
Выступление Инессы несомненно было лучшим за вечер. Арсений Казило скривился – его выступление по поводу Карфагена было сразу забыто, Вилен Фокин сделал вид, что немного шокирован резким криком, а Джабраил Тохтамышев, сетовавший, что Вилен Фокин умеет привлечь к себе внимание, захлопал в ладоши.
– Браво! Браво, Инесса! Я тоже могу сказать, что это именно я их всех убил!
И стон пронесся по гостиной, каждый гость выразил свое причастие к зверствам в Мариуполе.
Удары плетью следует наносить мастерски, чтобы рубец видели все, но гостей было много, и они хлестали себя беспорядочно. То в одном конце зала, то в другом слышалось стенание, но всякое ли стенание было достаточно осмысленно, всякий ли вздох был подлинно искренним? Флагелланты со сладострастием наносили себе удары, в окровавленной одежде шли к обеденному столу. Что бы там Фокин ни говорил о смраде гниения, но пах тушеный кролик божественно. А тут еще и хлопки пробок, выдергиваемых из узких горлышек бургундского. Еще пара ударов плетью – и к столу.
Гости рассаживались, обменивались репликами, страдали. В последний год в Москве модным сделалось слово «эмпатия»; эмпатию в острой форме переживал каждый из присутствующих, в комбинации с коллективным стыдом эти чувства составляли достойную пару: как кролик и шамбертен, как стилтон и портвейн.
И еще было одно, общее удивленное переживание: ведь все уже было – и вдруг ничего не стало. Ведь казалось, что цивилизация – вот она, в кармане. И – отняли.
– По крайней мере, мы имеем право сказать, что мы пытались! Украинцы должны понять, что мы сделали все, что могли.
– Мы старались! – яростно крикнул Шпильман. Но разве латвийские пограничники – те, что должны были пропустить его в свободный мир – услышали этот крик?
– Но я лично не могу упрекнуть себя в том, что всю жизнь боролась за демократию! – горестно сообщила друзьям Амалия Хорькова.
Гости не ждали справедливости от народа России: слишком хорошо изучили его. Если народ дурен, то для кого же собирались учреждать демократию? И возможна ли демократия без народа – вот вопрос вопросов!
В сущности, если рассматривать демократию как идею, как концепцию, то зачем ей собственно народ?
Джабраил Тохтамышев высказал соображение, которое следовало донести до ООН. Надлежало ввести в интернациональный обиход особые паспорта, на манер «нансеновских» паспортов начала прошлого века. Надобно учредить паспорта, в которых в графе «национальность» можно будет писать «хороший русский» – в том случае, если речь идет о противнике режима. Это станет пропуском, предъявитель такого паспорта достоин быть допущен в цивилизованный мир. Те из гостей, у кого не было твердых виз (Шпильман или Пиганова), встретили предложение с восторгом; Вилен же Фокин брезгливо поморщился.
– А как доказывать убеждения собираетесь? Придете и скажете комиссии: агрессию, дескать, не одобряю! Этак все захотят иметь такие паспорта, – сказал Фокин презрительно.
– Они не захотят! Им такое не нужно! – уверила Фокина опальная журналистка. И гости поддержали: даже и в голову этакое мужикам не придет. Им бы, ханыгам, до амбразуры добраться и лечь на нее своим пивным животом.
– Ведь они же давно сами избрали свою участь, – развел руками Шпильман.
И верно, любому здравомыслящему наблюдателю должно быть ясно, что русские мужики сами переписали свою конституцию, сами распродали недра своей земли ворам, сами выбрали себе президента из охранного ведомства и сейчас сами начали подлую войну, чтобы их страна окончательно развалилась.
Адвокат Басистов обдумал план, кивнул:
– Здравая, своевременная мысль!
Диана Фишман пообещала представить данную мысль нужным людям в Вашингтоне; а сама все обшаривала глазами зал: ну, где же он, куда он подевался, ее муж Грегори? Неужели уединился с этой ужасной женщиной – как ее зовут, запамятовала. Где Грегори? Соня Куркулис тоже озаботилась этим вопросом, расспрашивала гостей; но коллекционер как в воду канул.
Некая никому неизвестная дама – ах да, кажется, ее звали Наталия, – появилась вместе с ним час назад, затем они пропали.
– Я-то думала, что Грегори где-то с Жанной, – растерянно сказала хозяйка праздника.
– Кстати, и Жанны ведь нет! Может быть, вы Жанну видели? – Соня Куркулис интересовалась у своих былых попутчиков. Но и про Жанну никто ничего не знал.
– Бруно, вы ведь вместе с Жанной приехали?
Бруно Пировалли, уютно расположившийся между Амалией Хорьковой и Инессой Терминзабуховой, был, как обычно, приветлив, словоохотлив и, хотя в общем покаянии не участвовал, одобрял русское раскаяние.
Нет, он не заметил; но, собственно, тут присутствует супруг Жанны, отчего бы его не спросить? Астольф Рамбуйе отдавал должное закускам и не тревожился, куда исчезла его жена; отсутствие Жанны отметили все, помимо ее законного супруга: Астольф Рамбуйе сосредоточил свое внимание на ожидании олигарха Полканова.
Поинтересовался у адвоката Басистова, когда ждать значительную персону и ждать ли олигарха вообще. Вечер недурен, но и дела надобно делать. По слухам, Полканов должен был вылететь вчера на свою яхту, стоящую в порту Сан-Франциско, однако выяснилось, что яхту арестовали. Впрочем, оставались две другие яхты – мог улететь и в том направлении. Время такое, что планы меняются ежесекундно.
Комментатор Мандельштама, покинутый новеллистом, к общему столу не прошел, но бродил по анфиладе комнат, переходил от группы к группе, стараясь пристроиться к беседе, если выдастся такая возможность. Поразительно было то, что споров не было – все говорили только правильные вещи, принятые в этом кругу, говорили ровно то, что от них ждали услышать. То было нечто большее, нежели единодушие на демонстрации – гости инстинктивно ждали друг от друга одинаковых реакций, спасение было в отрицании той реальности, что их окружала. Страшно было всем.
– Прошу внимания! Поэзия! – Инесса Терминзабухова мелодично постучала десертным ножичком по тарелке.
Инесса пригласила специального гостя вечера выступить перед собранием: пауза между аперитивом и горячим блюдом логична.
В центр зала, непосредственно под венецианскую люстру (обошедшуюся в три капкана и двести метров колючей проволоки), вышел взволнованный Ефим Юдковский. Он прибыл в Москву с обличительными поэмами и, находясь в логове врага, испытывал волнение.
Гости слушали стихи, хмурились, сетовали – и хлопали в ладоши. То была едкая пародия на некогда знаменитую в России песню времен Великой Отечественной войны. И сколь хлесткой была издевка украинского барда!
Считалось неуместным вспоминать о том, что не только в России, но и на Украине мобилизовали всех подряд, включая женщин – исключения сделаны были лишь для сыновей чиновников и олигархов, коим разрешено покинуть страну, таких избранных называли «батальон Монако». Шли на войну с агрессором обученные в Англии и Польше солдаты, но шли и вовсе необученные, так называемая «тероборона».
Доходили слухи о том, что иные мобилизованные предпочитали пойти в тюрьму, а кто-то даже покончил с собой, были и такие случаи. Но выражать сочувствие им, жертвам алчной пасти России, было сегодня непристойно.
– Неужели все русские такие… – Бруно Пировалли аплодировал, но был растерян.
– Русские люди – чудовища. Есть среди них… – И Инесса рассказала о бесчеловечном донбасском ополченце, Павле Пешкове, о котором успела сделать специальную передачу «Немецкая волна», а газета «Фигаро» посвятила штурмовику целую полосу. Судя по всему, солдат Пешков был законченным садистом. Слухами о его зверствах была полна западная пресса.
– Садист?! – ахнули гости; в устах тех, кто предавался самобичеванию, худшего определения не было. – Неужели Пешков – садист?
– Да, – подтвердил Ефим Юдковский, – как всякий русский, и Пешков тоже садист.
– Мы все – садисты! – крикнула Инесса. И оглянулась в поисках подруги Жанны: все же исключительно странно, что подруга отсутствует.
Инесса наконец громогласно спросила, не знает ли почтенная публика, что с ее подругой.
Кто-то неудачно пошутил, что Жанна Рамбуйе решила первой отправиться в ад, но острота была столь нелепа, что гости и реагировать на такое не стали.
Жанна Рамбуйе и Грегори Фишман отсутствовали в общей зале, но отнюдь не потому, что вместе удалились с праздника флагеллантов. Грегори Фишман, как уже догадалась хозяйка праздника, был увлечен в один из удаленных будуаров своей новой пассией – Инесса видела, как пара торопливо проследовала по коридору в гостевую комнату. Да-да, ведь меценат появился одним из первых, а с ним эта простоватая молодящаяся особа, она сумела с порога отличиться – обнаружила вопиющую вульгарность. Впрочем, кто же не знает Грегори: человек искусства, он легко увлекается. Правда, в этот раз его выбор сомнителен. Но не надо ханжества, не будем моралистами – особенно в тот миг, когда вся страна утратила представление о морали.
– Ах, дорогая Диана, – сказала деликатная Инесса Терминзабухова, – в эти роковые дни люди теряют контроль над собой и даже ориентацию в пространстве теряют. Грегори в высшей степени эмоциональный человек… Он мог задуматься, присесть, чтобы сосредоточиться… На скамейке в парке…
Диана Фишман слишком хорошо знала супруга, чтобы поверить, будто он присел поразмышлять.
– В этой стране… – начала госпожа Фишман, собираясь сказать, что в России все женщины – шлюхи, но Инесса перебила ее:
– В этой стране мы все убийцы!
И собрание вновь зашлось радостным стенанием.
Пока избранные москвичи предавались радостям мазохизма, Жанна Рамбуйе беседовала с полковником Овраговым – они стояли в огромной прихожей квартиры Варфоламеевых.
Едва машина доставила подругу Инессы к вальяжному особняку, туда же подъехал и служебный автомобиль Оврагова. Столкнулись на мраморной лестнице. Одноглазый человек в военной форме прибыл, чтобы перехватить Андрея Андреевича Варфоламеева перед самым отъездом. Жанна, гибкая красавица, увидев чудовище, вновь испытала тот же сладострастный испуг и томительное влечение к пороку и насилию. Война – это ужасно, но это зажигательно и великолепно. Она подошла к военному вплотную.
– Вы все-таки нашли меня, полковник.
– Не ожидал снова увидеть, – сказал Оврагов. Шагнул к дверям квартиры кремлевского чиновника.
– Не обманывайте себя, – заверила военного гибкая Жанна, – вы приехали ко мне. И я вас ждала.
– Жаль вас разочаровывать.
– Ну-у, барышня, свидание придется отложить. У полковника имеется долг перед Родиной, – сказал тяжелый человек, выходя из квартиры. – Ты уже в курсе, вижу. Догонишь меня?
– Я на аэродром. Ты на машине. Встретимся.
– Хорошо. Можешь пройти в квартиру. Если потребуется спальня, не стесняйся. Полчаса у тебя есть. До встречи.
– Спальня не нужна.
Варфоламеев спустился по лестнице. Полковник с Жанной прошли в огромную темную прихожую варфоламеевской квартиры.
– Вы ничего не должны Родине, полковник!
– Так, по мелочи, – сказал Оврагов, улыбаясь.
– Но мне вы должны так много.
Оврагов поглядел на нее единственным глазом.
– Где же вас так? – спросила Жанна.
– В Чечне. Двадцать лет назад.
Полифем пугал, но красивее мужчины Жанна в своей жизни не видела.
– Разрешите постоять здесь.
– Полагаю, вам пора к гостям.
– Разрешите постоять рядом с вами.
– Развлечь вас нечем. Любовью не интересуюсь.
– Только войной?
– Всегда найдется где воевать.
– Вы мне расскажете?
Полковник мог сказать многое. Он всегда думал о войне.
Нет таких племен в мире, между которыми не зрел бы конфликт. Не существует в природе таких народов, что любили бы друг друга. Тутси и хуту, шотландцы и англичане, ирландцы и англичане, португальцы и испанцы, грузины и абхазы, курды и турки, евреи и палестинцы, англичане и французы, армяне и азербайджанцы, немцы и французы, русские и украинцы. Весь так называемый «Европейский союз» собран из народов, затаивших обиду друг на друга. Война даже не спит, война дремлет.
Ну и здесь. У нас, в России. Чечены и русские. Украинцы и русские. Два брата всегда рады стрелять друг в друга.
Злое начало существует в любом. Вопрос в том, кому потребовалось воспользоваться гнилым зерном. Убийство всегда рождает убийство, через час после начала войны «человек» перестает существовать, остается лишь «свободное» животное. Только солдат не свободен.
Он много думал про это, с тех пор так выкопал яму на лице.
– Мне вам нечего сказать. Ступайте к гостям. Пора.
Жанна Рамбуйе всю свою жизнь покоряла новые рубежи. Трудность заключалась в том, чтобы шагнуть от обеспеченного партнера к еще более обеспеченному. Так менеджер компании переходит в более крупную компанию, а затем в еще более крупную, если его приглашают. Мужчины отличались мимикой и физическими данными, но способы заработка были схожи. Персонажа, подобного одноглазому военному, она не встречала.
Она не знала, как с такими людьми говорят.
– На что же вы надеетесь?
Зачем она это спросила? Спросить следовало другое: женат ли он, есть ли дети, не против ли полковник провести уик-энд в Сен-Тропе. Полковник, конечно, на работе; но и у военных бывает отпуск. Или как у них называется: увольнительная? Впрочем, зачем ей это? Удовольствия с монстром не получишь. Разумнее перейти лестничную площадку и отправиться к гостям: там все просто, там родные люди.
– Я хотела спросить вот о чем: зачем вы этим занимаетесь?
– Чем?
– Войной.
– Мадам, – сказал полковник Оврагов, – вы когда-нибудь вызывали водопроводчика? Если засор в трубе. Или потоп на кухне.
– Эти невыносимые plombier. Приходят, когда хотят. Знаете, во Франции говорят, что у нас республикой правят водопроводчики.
– Неужели правят?
– Только потому, что могут починить трубу.
– Но ведь не водопроводчики трубу сломали. Они чинят.
– Но как чинят! Вы бы видели их работу!
– Как умеют.
– Вы правы, уж лучше пусть чинят.
– Вот и русский офицер так же.
Глава 34. Разговоры с народом
Чиновник Варфоламеев раскинул тяжелое тело на заднем сиденье; машина вырвалась из города на автостраду, и злой водитель Василий дал волю разнузданной езде. Номера у автомобиля были такие, что полицейские шарахались, как коты, вздрагивали, как пешеходы.
– Почему ты, Андрей Андреевич, на самолете не полетел? – спросил Василий. – И охота в машине двадцать часов трястись? Не по чину тебе, Андрей Андреевич, такие вояжи на личном автомобиле совершать. И шофера личного пожалей.
– Ну-у-у. Шофера, допустим, нового найдут. Много вас таких на Руси.
– Василия не жалко, так себя пожалей, – злой Василий хотел сказать неприятное и сказал. – Мужчина вы крупный. Вес лишний имеется. Устанете, понервничаете, – Василий прибавил скорость, потом вильнул, обгоняя фуру. Едва справился с рулем. – Видите, как оно бывает. Вот вам и инфаркт. Раз – и сердечко в лоскуты.
– И самолеты падают, – сказал Варфоламеев. – Доедем, потерпишь. И с народом поговорим.
Автомобиль обогнал колонну бурятов: крытые брезентом грузовики старого образца, не похожие на машины, потребные для третьей мировой. Варфоламеев подумал, что дела обстоят не столь лучезарно, если в ход пошли грузовики тридцатилетней давности. Лица новобранцев, которые он и его водитель успевали рассмотреть, были плоские, с косыми глазами.
Если бы Андрей Андреевич Варфоламеев был знаком с изысканной дамой Жанной Рамбуйе, он бы обнаружил этническое сходство в чертах. Жанна Рамбуйе родом была из тех самых – крайне бесперспективных с точки зрения цивилизации – мест, но она поднялась высоко. Прочим же бурятам повезло не так явно: быт их был убог, а сейчас многие получили повестки, они ехали сейчас на фронт в холодных грузовиках, ехали, кутаясь в шинели; брезент плохо греет. Буряты ехали на херсонские земли – и скоро их должны были убить. Буряты ехали умирать за Россию, которая дала им все, что они имели в жизни, то есть дала ничтожно мало, но сейчас потребовала долг вернуть. Никто из них лично ничего в долг не брал, но выяснилось, что долг огромен. А поскольку у них не было ничего, кроме жизни, требовалось отдать эту самую жизнь. Они ехали умирать за Крым, которого никогда в своей бурятской жизни не видели и никогда не увидят. Ехали умирать за президента, который был спортивен и поджар, сметлив и остроумен. Президент избегал алкоголя и не имел того, что называют «вредными привычками»: он не курил, не ел вредной пищи, занимался спортом – и это было разумно: следовало себя беречь для России.
Время от времени президент выезжал на природу, он уважал Алтай, Байкал и тайгу, любил побродить вдоль монгольской границы. Чуйский тракт, непролазные чащи – для спортивного президента прорубали просеки, и он шел, задумчивый следопыт, исследуя потаенные уголки родины. Правда, в отличие от бурятов, которые жили там постоянно, президент проводил в тайге не более трех дней и был окружен охраной, одет в специальное термобелье и питался исключительной пищей. Но места эти, первозданно прекрасные, президент России ценил более, чем старые камни Европы. С некоторых пор, подражая вкусу президента, его близкое окружение, а следом за ним и окружение дальнее, пересмотрело европейские вкусы и всецело отдалось байкальским и таежным красотам: вот где надобно строить виллы, а заодно рыть бомбоубежища. Главное сокровище – Байкал, величайшее пресное озеро мира, вдоль берегов его строили теперь дворцы, забыв про Côte d'Azur и пошловатый Сен-Тропе.
Из таежных мест президент и призвал на подмогу России тамошний народ, аборигенов; не обошел вниманием жителей приглянувшихся красот. Ехали буряты умирать, и, если вдуматься, этот факт должен был убедить украинцев в том, что покоренные народы не всегда протестуют против метрополии. Вот и чеченцы идут в бой. Вот и татарский батальон сформирован.
Потом проехали колонну бронированных автомобилей с экипажами из Иркутска, как явствовало из надписей на броне. Перегон для сибиряков был долгим: лиц солдат не разглядеть через узкие щели на броне, а водители в кабинах были серыми и усталыми.
Затем шли колонны самоходных орудий, по лафетам которых писали «Газпром»; иной западный журналист мог бы решить, что менеджеры газовой компании решили отдать жизнь за Родину: тем более, что вопрос с поставкой газа через трубы «Северного потока» был ключевым для начала войны. Не исключена вероятность, подумал бы журналист, что менеджеры среднего звена едут мстить украинцам (а через них – англосаксам) за то, что контракт сорвали. Однако менеджеры на убой не поехали – отправили письмоводителей и вахтеров. Тридцать тысяч человек должен был поставить в армию «Газпром» и двадцать тысяч человек обязан был рекрутировать из своих сотрудников Сбербанк; ну и почистили ряды охранников, уборщиков, водителей и прочих дармоедов. Зачем держать на парадном подъезде десять мордоворотов, если пятерых достаточно? Бравые бритые парни ехали умирать, чтобы отдать долг «Газпрому». Война решала щекотливый вопрос: что делать с личными армиями олигархов? Россию наводнили десятки тысяч бывших спортсменов, служивших в личной охране богачей, – их следовало утилизировать. «Газпром» так и поступил. Закупили (помимо бритых парней) также бронемашины и гаубицы.
– Повезло тебе, Василий. Пошел бы шоферить в «Газпром», так сейчас бы на броне катался.
– А я что. Куда пошлют. Мне, Андрей Андреич, жизнь ни к чему. Телевизор я уже посмотрел. Водку попил. Можно и помирать.
– Верно.
Ехали дальше – попутно изучали войска.
– За что воюем, Андрей Андреич?
Варфоламеев не отвечал. Привычки разговаривать с шофером не завел. Но путь длинный, через час Василий опять спросил:
– Ежели мне помирать, так я ведь интересуюсь: за что помирать?
– А тебе не все равно?
– Вообще-то, без разницы. А ты сам, начальник, знаешь?
– Приблизительно.
– Хорошо, Андрей Андреич, что ты своему шоферу не врешь. А то сказал бы: «За Родину». А я, дурак, еще поверю.
– Ну-у-у. Как тебе, Василий, объяснишь? Ты ж не поймешь ничего.
– И то верно.
Долго ехали молча.
– Но ты, Андрей Андреич, рискни. Объясни. Вдруг пойму.
– Страна большая. В одном месте приклеишь, в другом отвалится. Если царь дурной, сразу в пяти местах отвалится. А нам что делать? Всякий новый царь за другим прибирается. Понял?
– Потому и война?
– Как всегда.
Василий помолчал, раздумывал.
– Понял. Чего тут не понять? Все знают. Пьющий был старый царь. Принимал на грудь много. Россию пропил.
Варфоламеев глядел в окно на колонну танков; шли гулко и ровно, тяжелое стадо слонов.
Василий продолжал:
– Хватился новый царь, а поздно. Проснулся, кофий выпил, глядь по сторонам: и того нет, и сего нет. Зовет, допустим, свою секретутку любимую. Ох, в народе говорят, он до баб охоч. Ну, приходит такая. А он ей грит: «Где, – грит, – наша Прибалтика?» – «А нетути, вашество, Прибалтики. Пропили». – «А Одесса-то хоть есть?» – «Так ведь и Одессы нет!» – «Ладно, – грит, – а Ташкент – город хлебный?» – «Так и Ташкент пропили. И ладно бы просто пропили! Так ведь русских людей там оставили, крепостными у баев. Везде русских бросили». Верно говорю, Андрей Андреич?
– Своих не бросаем, – с неожиданной злостью процедил Варфоламеев, цитируя кого-то.
– То-то и оно, что бросаем. Везде бросили. Вот, интересуюсь я, Андрей Андреич. А сколько русских мы бросили в чужих странах? Ну, когда этот пьяный дурак бумажки подписывал? Просто любопытно.
– Миллионов тридцать.
– Много.
И опять ехали молча.
– А вот говорят, Сталин народы переселял, – сказал Василий. – Правда или нет?
– Ну-у-у, куда ему до Ельцина, – ответил Варфоламеев. – Масштаб не тот.
– Столько не каждый выпьет, – согласился Василий. – Тридцать миллионов?
– Двадцать восемь.
– Много.
И опять молчали.
– А если пожаловаться? – спросил наивный шофер. – Ну, как оно делается. Поднять вопрос на заседании. Ну, где там заседают. ООН, допустим. Дескать, тридцать миллионов наших бросили.
Варфоламеев промолчал.
– Скоро Тула, – сказал шофер, – через час город Тула. Остановимся, пожуем?
Варфоламеев кивнул.
– Говорят, бандитов из тюрем выпускают, правда или врут? – спросил Василий.
– Говорят, выпускают.
– А не все ли равно, из тюрьмы или нет, – резонно сказал Василий, крутя баранку, чтобы объехать фуры с бронемашинами, – в чем разница? Как будто другие не бандиты. Что думаете?
Варфоламеев молчал. Василий надоел чиновнику.
– Правда, какие из урок солдаты, – рассуждал Василий. – Чтобы супругу утюгом тюкнуть, сил много не надо. Алкаши все, руки дрожат. Но кнопку нажать сумеют.
Варфоламеев не ответил.
– А вообще, – продолжал Василий, – алкаши – тоже солдаты. Смертники. Каждый день к ларьку идти за водкой – это как с гранатой на танк. Пить – мужская работа.
Ехали молча.
– Раздавим хохлов, – сказал Василий. – Подлость какая: чужим оружием с Россией воевать. Набрали себе французских пушек.
Еще через десять километров Василий сказал:
– А тех, кто сегодня из России убегает, их, я считаю, надо в розыск объявить и расстрелять.
– Пусть бегут, – сказал Варфоламеев. – Хотят – пожалуйста. А что уголовников отпускают – считаю, правильно. Так много ворья уехало, надо поправить городскую среду. Без воров нельзя.
