За гранью. Поместье
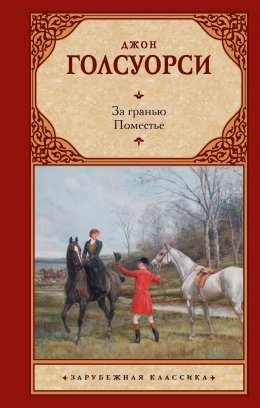
© Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2025
За гранью
Посвящается Томасу Гарди
Che faro senza… [1]
Часть I
Глава 1
Выйдя из отдела записи актов гражданского состояния собора Святого Георгия, Чарлз Клэр Уинтон некоторое время следовал за таксомотором, увозившим его дочь и артиста, за которого она вышла замуж. Соображения приличия не позволяли Уинтону идти рядом с няней Бетти, единственной, кроме него, свидетельницей бракосочетания. Донельзя расстроенная толстуха выглядела бы нелепо рядом с худым статным джентльменом, шагавшим с естественной легкостью и равновесием улана старой закалки, пусть даже вышедшего в отставку шестнадцать лет назад.
Бедная Бетти! Уинтон думал о служанке со смесью душевной теплоты и досады. Разреветься прямо на пороге церкви – это уж слишком. Он допускал, что после отъезда Джип няня почувствует себя одинокой, но что тогда говорить о нем!.. Рука в светлой перчатке – единственная рабочая, потому что правая кисть была ампутирована до запястья, – сердито подкрутила кончики коротких седеющих усов, торчащих над уголками твердо сомкнутых губ. Несмотря на февральскую серость, на Уинтоне не было пальто. До конца выдерживая подчеркнуто неброский, почти стыдливый стиль свадебной церемонии, отец невесты надел вместо черного фрака и цилиндра синий костюм и жесткую шляпу из темного фетра. Привычка боевого офицера и охотника держать эмоции при себе не изменила ему даже в этот самый черный день его жизни. И только серые с карими крапинками глаза продолжали щуриться, бросать свирепые взгляды и снова щуриться. Временами, будто поддавшись глубокому чувству, взгляд темнел и словно уходил внутрь. Узкое лицо, обветренное, со впалыми щеками, четко вырезанная челюсть, маленькие уши, еще темные по сравнению с усами волосы, только на висках тронутые сединой, рисовали портрет человека действия, привыкшего полагаться на собственные силы и смекалку. Манера держаться была характерна для мужчины, не чуждого щегольства, уделяющего внимание «фасону», но не забывающего, что на свете есть вещи и поважнее. Уинтон точно соответствовал своему типажу, однако примешивалось к нему и нечто не совсем для него характерное. В прошлом таких людей нередко бывает скрыта какая-нибудь драма.
Пожилой джентльмен направился к парку и повернул на Маунт-стрит. Хотя дом стоял на прежнем месте, облик улицы сильно изменился. Двадцать три года назад ноябрьским вечером Уинтон ходил мимо этого дома туда-сюда в невыразимом исступлении ума, как призрак в тумане, как выброшенный за порог пес, – в тот день родилась Джип. А кончилось все тем, что в прихожей – войти в дом он не имел права – ему сказали: та, кого он любил, как ни один мужчина не любил женщину, мертва: умерла, рожая ребенка, их общего ребенка, о чем знали только он и она. Уинтон несколько часов расхаживал в тумане, ожидая родов, и вдруг такое известие! Среди всех напастей, подстерегающих человека, слишком большая любовь, несомненно, самая ужасная.
Как странно, что дорога домой после еще одной потери пролегала мимо того самого дома. Одна проклятая случайность, подагра, вынудила его поехать в Висбаден в сентябре прошлого года. Другая проклятая случайность свела Джип с этим субчиком Фьоренсеном и его треклятой скрипкой. Джип переехала в его дом пятнадцать лет назад, и с тех пор Уинтон ни разу не чувствовал себя таким одиноким и ни на что не годным, как сейчас. Завтра он отправится в Милденхем и попробует развеять хандру верховой ездой. Но уже без Джип. Джип не с ним! Она с жалким скрипачом! С увальнем, ни разу в жизни не сидевшем в седле!.. Уинтон яростно рассек тростью с загнутой ручкой воздух, надвое разрубая воображаемого врага.
Родной клуб рядом с Гайд-парком выглядел на редкость уныло. Повинуясь привычке, Уинтон прошел в картежный зал. День был настолько тускл, что в зале зажгли лампы, за столами черного дерева под абажурами сидели завсегдатаи, свет играл на спинках кресел, картах, бокалах, позолоченных кофейных чашках и отполированных ногтях пальцев с сигарами. Приятель предложил партию в пикет. Уинтон равнодушно сел за стол. Бридж, этот колченогий вист, всегда оскорблял его изысканный вкус. Игра-калека! От покера попахивало вульгарностью. Пикет хоть и вышел из моды, оставался в его глазах единственной игрой, сохранявшей остатки достоинства.
Ему пришла хорошая карта, и он облегчил соперника на пять фунтов, которые охотно уплатил бы сам, лишь бы стряхнуть с себя тоску. Где они сейчас? Должно быть, миновали Ньюбери, и Джип сидит напротив шведского субчика с зелеными глазами бродячего кота. Иноземный прохиндей! Пустышка, если Уинтона не обманывает знание людей и лошадей. Слава богу, он вовремя вложил деньги Джип, все до последнего фартинга. При мысли, как этот тип обнимает его пышноволосую кареглазую дочь – прелестное, гибкое, как ива, создание, так сильно напоминавшее лицом и станом ту, кого он отчаянно любил, – его охватило чувство, близкое к ревности.
Посетители проводили Уинтона взглядом до дверей картежного зала. Он был одним из тех, кто внушал другим мужчинам чувство восхищения, хотя никто не мог бы сказать, чем именно. Многие, слывшие не менее достойными, не привлекали к себе такого внимания. Что это было? Наличие некоего «стиля» или нечто неосязаемое вроде отметины, оставленной прошлым?
Выйдя из клуба, Уинтон медленно проследовал вдоль низкой ограды Пикадилли к дому на Бери-стрит в районе Сент-Джеймс, где проживал с ранних лет. Дом был одним из немногих, не затронутых всеобщей манией ломать и строить, загубившей, на его взгляд, половину Лондона.
Дверь открыл величайший в мире молчун с мягкими быстрыми черными глазками вальдшнепа в длинной зеленоватой вязаной безрукавке, черной визитке и тесных брюках со штрипками поверх ботинок.
– До утра я буду дома, Марки. Пусть миссис Марки что-нибудь приготовит на ужин. Неважно что.
Марки дал понять, что услышал распоряжение, черные глазки под сросшимися в одну темную линию бровями быстро смерили хозяина с макушки до пят. Еще вчера жена сказала, что шефу придется несладко одному, и Марки согласно кивнул в ответ. Возвращаясь в людскую, слуга дернул головой в направлении улицы и махнул рукой на верхний этаж, из чего смышленая миссис Марки сразу сделала вывод, что надо бежать за провизией, потому что хозяин изволит ужинать дома. Проводив жену, Марки уселся напротив Бетти, старой няни Джип. Пышнотелая женщина все еще тихо плакала. Вид Бетти испортил настроение, и Марки захотелось самому завыть по-собачьи. Некоторое время он молчаливо смотрел на ее широкое розовое заплаканное лицо и, наконец, тряхнул головой. Икнув и колыхнувшись всем дебелым телом, Бетти подавила рыдания. Марки лучше не перечить.
Уинтон сначала зашел в спальню дочери, окинул взглядом опустевшее элегантное гнездышко с осиротевшим серебряным зеркалом и яростно крутнул маленький ус. Затем, в своей святая святых, не зажигая свет, присел у огня. Любой сторонний наблюдатель решил бы, что он спит, но на самом деле наводящее дремоту глубокое кресло и уютный огонь в камине унесли его далеко-далеко в прошлое. Какая досада, что сегодня пришлось пройти мимо ее дома!
Некоторые утверждают, что никакого родства душ не существует, что одно-единственное страстное увлечение не способно разбить сердце – по крайней мере, мужское. В теории, возможно, все это правда, но в действительности такие мужчины существуют – мужчины из разряда «или пан, или пропал», неразговорчивые и сдержанные, меньше всех ожидающие, что природа сыграет с ними злую шутку, меньше всех желающие сдаваться на ее милость, меньше всех готовые к зову судьбы. Кто бы мог подумать, включая его самого, что Чарлз Клэр Уинтон по уши влюбится, как только войдет в бальный зал Бельвуарского охотничьего общества в Грантеме в тот декабрьский вечер двадцать четыре года назад? Заядлый вояка, щеголь, превосходный охотник и знаток гончих, приобретший почти легендарный статус в полку своей невозмутимостью и вежливым пренебрежением к женщинам как мелочам жизни, стоял в дверях, не горя желанием танцевать, и оглядывал зал с видом, не предполагавшим в нем партнера, потому как и не старался произвести такое впечатление. И тут – о чудо! – мимо прошла она, и мир навсегда изменился. Что это было? Игра света, приоткрывшая весь ее характер в одном пугливом взгляде? Или же легкое плутовство ее походки, соблазнительная гармония ее фигуры? А может, то, как ниспадали на шею волнистые волосы, или тонкий, почти цветочный аромат ее кожи? Что именно? Она была замужем за местным помещиком, имевшим собственный дом в Лондоне. Как ее звали? Какая разница – она давно умерла. У нее не было никаких оправданий: муж ее не обижал, обычный, скучный брак без детей, длившийся три года. Муж – приветливый добряк, старше ее на пятнадцать лет, с некрепким уже здоровьем. Никаких не было оправданий! И все-таки всего через месяц после первой встречи она и Уинтон стали любовниками не только в мыслях, но и на деле. Случай, настолько выходящий за рамки всех приличий и его собственных представлений о чести офицера и джентльмена, что он даже не пытался взвешивать доводы за и против – «против» составляли подавляющее большинство. И все-таки с первого же вечера он принадлежал ей, а она – ему. Ибо каждый теперь думал только обо одном: как сделать, чтобы быть вместе? Если на то пошло, то почему они куда-нибудь не уехали? Нельзя сказать, что он мало ее уговаривал. И если бы она пережила рождение Джип, то, скорее всего, так бы и случилось. Однако перспектива поломать жизнь сразу двум мужчинам была слишком тяжким бременем для столь мягкого сердца. Смерть избавила ее от мучительного выбора. Есть женщины, в ком беззаветная преданность уживается с душевными сомнениями. Такие обычно наиболее притягательны, потому что способность принимать решения быстро и жестко лишает женщину загадочности, тонкого обаяния изменчивости и непредсказуемости. Хотя в ее жилах текла всего одна четвертая часть иностранной крови, она совершенно не походила на англичанку. Зато Уинтон был до мозга костей англичанином в своем восприятии официальных границ с любопытной примесью отчаянной импульсивности, способной вдребезги разнести формальный подход в одной области жизни и беспрекословно следовать ему в других областях. Никому не приходило в голову называть Уинтона сумасбродом – его волосы всегда были тщательно расчесаны на пробор, сапоги начищены до блеска; он был суров и немногословен, разделял и соблюдал все каноны благовоспитанности. И все же единственное страстное увлечение отдалило его от привычного мира – будто какого-нибудь нищего длинноволосого индуса. В любое время в течение того года, когда они были близки, Уинтон был готов рискнуть жизнью и пожертвовать карьерой ради единственного дня, проведенного вместе, но ни разу ни словом, ни взглядом не скомпрометировал свою любимую. Он щепетильно, с убийственной скрупулезностью заботился о ее чести и даже согласился помогать ей заметать следы, когда стало ясно, что она ждет ребенка. Эта плата за азарт была самым смелым поступком его жизни; даже сейчас память саднила, как гноящаяся рана.
В эту самую комнату, обставленную по ее вкусу, он пришел, получив известие о ее смерти. Здесь по-прежнему стояли те же стулья из атласного дерева, маленький, изящный яковетинский комод, старые бронзовые подсвечники с абажуром, диван – все это и тогда, и сейчас выглядело для жилища холостяка излишней экзотикой. На столе в тот день лежало письмо с вызовом в полк для участия в военной кампании. Если бы он знал, что ему предстоит вынести в поисках смерти в далеких краях, то предпочел бы покончить с собой прямо в этом кресле перед камином, кресле, хранящем святую память о ней. Во время непродолжительной войны Уинтону не повезло найти смерть – те, кто безразлично относится к жизни и смерти, редко погибают в бою. Он добился наград и чинов. Когда война закончилась, Уинтон вернулся к прежней жизни – с лишними морщинами на лице и рубцами на сердце: нес службу, охотился на тигров и кабанов, играл в поло, пуще прежнего травил лисиц гончими, – все это не подавая виду, неизменно вызывая настороженное, неловкое восхищение, которое мужчины испытывают к дерзким смельчакам с ледяным темпераментом. Еще более замкнутый, чем большинство людей его склада, он никогда не болтал о женщинах, но и не слыл женоненавистником, хотя подчеркнуто избегал женской компании. После шести лет службы в Индии и Египте Уинтон потерял кисть правой руки в атаке на дервишей и был вынужден выйти в отставку в звании майора в возрасте тридцати четырех лет. Долгое время ему претила любая мысль о ребенке, рожая которого, умерла его любимая. Затем в душе произошла любопытная перемена. За три года до возвращения в Англию он завел привычку посылать домой в качестве игрушек всякую всячину, подвернувшуюся на базарах. В ответ регулярно – по меньшей мере два раза в год – приходили письма от человека, мнившего себя отцом Джип. Уинтон читал эти письма и отвечал на них. Помещик был приветлив и дорожил памятью о своей жене. И хотя Уинтону ни разу не приходило в голову пожалеть о содеянном, у него всегда сохранялось ярко выраженное ощущение вины за причиненное этому человеку зло. Он не чувствовал раскаяния, однако его преследовало докучливое сознание невыплаченного долга, пусть даже оно отчасти смягчалось мыслями о том, что его никто ни в чем не подозревает, а также памятью о страшной пытке, которую пришлось вынести, пока он не убедился в отсутствии подозрений.
Когда Уинтон – с грудью в орденах, но без правой руки – наконец вернулся в Англию, помещик пригласил его к себе. Бедняга быстро таял от хронического нефрита. Уинтон снова вступил в дом на Маунт-стрит, испытывая волнение, подавление которого потребовало от него больше мужества, чем любая кавалерийская атака. Однако, если у человека, по выражению самого Уинтона, с сердцем все в порядке, то не должен позволять своим нервам шалить, поэтому он смело вошел в комнаты, где видел ее в последний раз, и один на один отужинал с ее мужем, ничем не выдавая своих чувств. Маленькую Гиту, или Джип, как она себя называла, он не смог повидать – девочка уже спала. Прошел целый месяц, прежде чем он набрался храбрости прийти в дом девочки в такой час, когда мог ее увидеть. По правде говоря, ему было страшно. Какие чувства пробудит в нем вид этого маленького существа? Когда няня девочки Бетти подвела представить ребенка офицеру и джентльмену с «кожаной рукой», присылавшему ей забавные игрушки, Джип остановилась перед ним, спокойно разглядывая его огромными темно-карими глазами. Ей было семь лет, платьице из коричневого бархата едва доставало до колен, и из-под него торчали худые ножки в коричневых чулках. Девочка выставила одну ногу немного вперед, что делало ее похожей на маленькую коричневую птичку. Овальное личико с выражением сдержанного любопытства имело теплый кремовый оттенок без примеси розового цвета за исключением губ, не тонких и не полных, и крохотную ямочку на щеке. Волосы сочного каштанового цвета были аккуратно зачесаны назад и прихвачены тонкой красной лентой, освобождая широкий низковатый лобик, добавлявший девочке степенности. Остальное было идеальным: тонкие темные бровки, поднимавшиеся дужками, носик, маленький подбородок, чуть заостренный и округлый. Джип стояла и смотрела, пока Уинтон не улыбнулся. Только тогда серьезность дала трещину, губы девочки приоткрылись, глаза немного ожили. Сердце Уинтона опрокинулось: это была настоящая копия той, кого он потерял, – и он спросил, как ему показалось, дрожащим голосом:
– Ну что, Джип?
– Спасибо за игрушки. Они мне нравятся.
Он протянул руку, Джип с серьезным видом вложила в нее свою ладошку, и на Уинтона снизошла безмятежность, как будто кто-то просунул ему в грудь палец и успокоил трепещущее сердце. Осторожно, чтобы не испугать девочку, он приподнял ее ручку, наклонился и поцеловал. То ли потому, что он мгновенно угадал в ней тончайшую, почти недетскую восприимчивость, то ли из-за офицерской привычки относиться к своим подчиненным как к простодушным бойким детям, то ли по инстинктивному ощущению взаимного родства, с этой минуты Джип прониклась к гостю горячим восхищением и безудержной привязанностью, какая подчас возникает у ребенка к самому неожиданному человеку.
Уинтон обычно навещал ее с двух до пяти часов пополудни, когда помещик дремал после обеда. После времени, проведенного с Джип, прогулок в парке, катания верхом по Роттен-роу или посиделок в скучной детской в дождливые дни, где он рассказывал истории, которым толстушка Бетти завороженно внимала с подозрительным, недоверчивым видом на пухлом лице, после таких часов Уинтон с неохотой приходил в кабинет помещика и, сидя напротив него, курил сигару. Эти встречи один на один слишком сильно напоминали ему прежние дни, когда он держал себя в руках огромным усилием воли, – слишком сильно царапали душу законные права помещика, слишком тяжким грузом давил моральный долг. Однако Уинтон отгородился от предательских чувств тройной линией обороны. Помещик с готовностью принимал его у себя, ничего не замечал, ничего не подозревал и был только благодарен за проявления доброты в адрес дочери. И вот те на – весной следующего года скончался. Уинтон узнал, что назначен опекуном и душеприказчиком Джип. После смерти жены помещик запустил дела, хозяйство было заложено и перезаложено. Уинтон принял назначение с почти варварским удовлетворением и с этого момента начал строить планы, чтобы окончательно забрать девочку к себе. Дом на Маунт-стрит был продан, поместье в Линкольншире сдано в аренду. Девочку и ее няню Бетти поселили в охотничьем поместье в Милденхеме. Стремясь отрезать ее от родни помещика, Уинтон без зазрения совести пользовался своим умением напускать на себя неприступный вид. Сохраняя исключительную вежливость, своим ледяным тоном он держал всех на расстоянии. Майор был достаточно состоятелен, поэтому его побуждения не вызывали никаких подозрений. За год Уинтон отвадил от девочки всех, кроме дородной Бетти. Угрызения совести его не мучили. И он, и Джип скучали друг без друга. Все прошло гладко за исключением единственной получасовой сцены. Она разыгралась, когда Уинтон наконец решил, что девочке следует носить его фамилию – если не по закону, то хотя бы в Милденхеме. Марки первым получил наказ в будущем называть Джип маленькой мисс Уинтон. Когда Чарлз вернулся в тот день с охоты, в кабинете его ждала Бетти. Женщина стояла в самом центре свободного пространства затрапезной комнаты, стараясь ненароком не задеть какое-нибудь добро или имущество. Сколько она так простояла, одному богу известно, однако на ее круглом розовом лице шла борьба между почтением и решимостью, и она успела порядком измять свой белый фартук. Взгляд голубых глаз встретил Уинтона с отчаянным вызовом.
– Я насчет того, что мне сказал Марки, сэр. Моему старому хозяину это не понравилось бы, сэр.
Задетый за живое напоминанием о том, что в глазах света он никем не приходился своей любимой, а помещик, бывший для него пустым местом, считался для Бетти пупом земли, Уинтон ледяным тоном произнес:
– Не сомневаюсь. И все же вам придется выполнять мое распоряжение.
Лицо полной женщины побагровело. Она, боясь дышать, выпалила:
– Да, сэр. Я все видела своими глазами. Я никогда ничего никому не говорила, но я ведь не слепая. Если мисс Джип возьмет вашу фамилию, сэр, люди начнут чесать языками, и моя дорогая покойная хозяйка…
Наткнувшись на его взгляд, Бетти замолчала с разинутым ртом.
– Будьте добры, держите свои мысли при себе. Если хоть одно ваше слово или поступок даст повод для пересудов, я вас выгоню вон. Вы меня поняли? Я вас выгоню, и вы больше никогда не увидите Джип! А сейчас вы будете делать то, что я скажу. Джип моя приемная дочь.
Бетти всегда побаивалась нового хозяина, однако увидела такой взгляд и услышала такой тон впервые. Она наклонила круглое, как луна, лицо и вышла со слезами на глазах, скомкав фартук пуще прежнего. А Уинтон, стоя у окна, наблюдая за сгущающимися сумерками и гонимыми зюйд-вестом листьями, до дна осушил кубок горького торжества. Он не мог даже мечтать о правах на покойную, навеки любимую мать своей дочери. Но он был полон решимости сделать ребенка своим. Пойдут слухи? Ну и пусть! Вся его прежняя осмотрительность была в прах разбита, отцовский инстинкт одержал полную победу. Он смотрел в темноту прищуренными глазами.
Глава 2
Победив всех соперников, пытавшихся завладеть сердцем Джип, Уинтон столкнулся с новым оппонентом, чью силу по-настоящему осознал только теперь, когда дочь уехала, а он сам сидел перед огнем в грустных думах о прощании с ней и прошлым. Вряд ли столь решительная натура, как он, чью жизнь наполнял сабельный звон и конский топот, была способна понять, как много для девочки значила музыка. Музыка, как точно знал Уинтон, требовала разучивания гамм, детской песенки «Избушка в лесу» и прочих мелодий. Он сторонился этих звуков как черт ладана, и поэтому понятия не имел, с какой жадностью впитывала музыку Джип и как этот интерес подогревала в ней гувернантка. Он не замечал, с каким восторгом Джип внимала любым случайным звукам музыки, проникавшим в Милденхем, – святочным песенкам, псалмам и особенно «Ныне отпущаеши» в деревенской церкви, которую девочка посещала с досадной регулярностью, далеким трелям охотничьего рожка в мокрой лесной чащобе, даже насвистыванию Марки, очень, кстати, искусному и благозвучному.
Уинтон поддерживал любовь дочери к собакам и лошадям, озабоченно наблюдал, как она ловит шмелей и прикладывает кулачок к ушку, слушая их жужжание, потакал ее постоянным набегам на цветочные клумбы в старом саду, полном цветущей сирени и ракитника весной, гвоздик, роз и васильков летом, георгинов и подсолнухов осенью, вечно запущенном, заросшем, сжатым со всех сторон и теснимом более важными соседями – выгонами для лошадей. Снисходительно относился к ее попыткам увлечь его пением птиц, но ему было просто не дано понять, до какой степени дочь любила музыку и тянулась к ней. Джип была загадочным маленьким созданием, частые перемены настроения делали ее похожей на ее любимицу, коричневую самку спаниеля, то резвую, как бабочка, то мрачную, как ночь. Малейшая резкость заставляла маленькое сердце Джип сжиматься от страха. В ней странным образом сочетались гордость и заниженная самооценка. Эти два качества настолько перемешались, что ни сама Джип, ни кто-либо другой не знали, какое из них было виновником приступов хандры. Будучи очень впечатлительной, она много чего сочиняла. Действия в ее отношении, лишенные всякого злого умысла, представлялись ей убедительным доказательством, что ее никто не любит, а еще – страшной несправедливостью, потому что она сама хотела любить всех, ну или почти всех. Настроение через минуту менялось, и она думала: «Меня не любят? Ну и пусть! Мне ни от кого ничего не надо!» Вскоре все ее обиды таяли, как туман на ветру, и она снова любила и резвилась, пока что-нибудь, совершенно не предназначенное ее ранить, опять не вызывало у нее жуткую обиду. Надо сказать, что в доме все ее любили и души в ней не чаяли. Джип, однако, была одним из тех нежных созданий, что рождаются со слишком тонкой кожей и особенно в детстве страдают от этого в мире, нарастившем слишком толстую шкуру.
К величайшей радости Уинтона, Джип чувствовала себя в седле как рыба в воде и совершенно не боялась ездить верхом. За ней присматривала лучшая гувернантка, которую Уинтон смог найти, дочь адмирала-кутилы, нуждавшаяся в заработке. Позднее из Лондона два раза в неделю стал приезжать желчный учитель музыки, втайне обожавший Джип больше, чем она обожала его. По правде говоря, любое существо мужского пола хотя бы немножко в нее влюблялось. В отличие от большинства девочек Джип никогда не была неуклюжей дурнушкой и росла, как цветок – равномерно и степенно. Уинтон нередко смотрел на нее, как в опьянении: поворот головы, «порхание» прекрасных чистых карих глаз, прямая линия округлой шеи, форма рук и ног – все это остро напоминало ему ту, кого он так любил. Однако, несмотря на сходство с матерью, дочь отличалась от нее и внешностью, и характером. В Джип сильнее чувствовалась порода: точеная фигура была эффектнее, душа тоньше, поза увереннее, в ней было больше грации. Настроения Джип менялись чаще, ум отличался большей ясностью, а в милом характере проскальзывала отчетливая острая нотка скептицизма, чуждого ее матери.
В нынешние времена нет больше заводил, иначе Джип легко стала бы ею в компании обоих полов. Несмотря на изящное телосложение, Джип не выглядела хрупкой и в охотку могла «гонять лис» весь день, вернуться домой уставшей донельзя и рухнуть на шкуру тигра перед камином, чтобы не подниматься по лестнице. Жизнь в Милденхеме протекала в уединении за исключением визитов товарищей Уинтона по охоте, да и то немногих – его духовный снобизм не нравился простоватым сельским помещикам, а женщин отпугивала его ледяная вежливость.
И все-таки, как и предсказывала Бетти, поползли слухи – постылые деревенские слухи, скрашивавшие скуку унылого прозябания и унылых мыслей. Хотя до ушей Уилтона не доходили даже отголоски сплетен, в Милденхем не казала нос ни одна женщина. Если не брать в расчет случайные дружеские встречи на паперти, на охоте или местных скачках, Джип росла, не имея знакомых среди лиц своего пола. Этот дефицит общения приучил ее к замкнутости, затормозил понимание отношений между полами, стоял за ее легким, безотчетным презрением к мужчинам, извечным невольникам ее улыбок, так легко впадавшим в беспокойство, стоило ей нахмурить брови, и за скрытой тоской по женской компании. Любая девушка и женщина, с которой ей доводилось встретиться, немедленно в нее влюблялась, потому что Джип была с ними добра, что делало мимолетность таких знакомств еще более мучительной. Джип совершенно не умела ревновать или злословить. Мужчины должны таких остерегаться – в ревности таится загадочное очарование!
Уинтон уделял мало внимания нравственному и духовному развитию Джип. Об этом предмете он не любил говорить вслух. Внешние условности вроде посещения церкви соблюдались, манерам девочке надлежало учиться как можно больше на его примере, а об остальном пусть позаботится природа. Его подход был не лишен здравого смысла. Джип быстро и жадно читала, но плохо запоминала прочитанное. Хотя вскоре она проглотила все книги скудной библиотеки Уинтона, в том числе Байрона, Уайт-Мелвилла и «Космос» Гумбольдта, они не оставили заметного следа в ее сознании. Попытки щуплой гувернантки привить ей увлечение религией засохли на корню, а знаки внимания приходского священника Джип со свойственным ей скептицизмом отнесла к категории обычного мужского интереса. Ей показалось, что святому отцу очень уж понравилось называть ее «милая моя» и похлопывать по плечу, видя в этом награду за пастырскую заботу.
Из-за уединения в маленьком темном помещичьем доме, где ремонта не требовали только конюшни, в трех часах от Лондона и в тридцати милях от залива Уош, воспитанию Джип, надо признать, недоставало духа современности. Раза два в год Уинтон брал ее с собой в город погостить на Керзон-стрит у своей незамужней сестры Розамунды. По крайней мере за эти недели у Джип развился природный вкус к красивым платьям, стали крепче зубы и появилась страсть к музыке и театру. Однако главная духовная пища современных юных дам – игры и разговоры – была ей совершенно недоступна. Более того, годы ее жизни с пятнадцати- до девятнадцатилетнего возраста пришлись на период, когда социальный подъем 1906 года еще не начался и весь мир пребывал в спячке, как ленивая муха на оконном стекле в зимнюю пору. Уинтон был тори, тетка Розамунда – тоже, так что Джип со всех сторон окружали одни тори. Единственное влияние на ее духовный рост в девичестве оказывала безоглядная любовь к отцу. Да и что еще могло повлиять на ее развитие? Душа плодоносит только в присутствии любви. Чувство меры, в высшей степени развитое у них обоих, не позволяло проявлять любовь слишком открыто. Но возможность быть с отцом, что-то делать для него, восхищаться им и – так как она не могла носить такую же одежду и говорить такими же рублеными, спокойными, решительными фразами, как он, – презирать наряды и манеру речи других мужчин была для нее драгоценнее всех сокровищ мира. Однако, унаследовав отцовскую разборчивость, она в то же время переняла его наклонность все ставить на одну карту. Так как по-настоящему отец был счастлив только в ее обществе, сердце Джип постоянно купалось в любви. Хотя она этого не сознавала, страстно любить кого-нибудь было для нее такой же потребностью, как вода для цветка, а быть любимой кем-нибудь – как свет солнца для его лепестков, поэтому довольно частые поездки Уинтона в город, в Ньюмаркет или куда-нибудь еще вызывали падение барометра в ее душе. По мере приближения даты возвращения отца тучи рассеивались.
Кое в чем ее воспитание все же преуспело – в чувстве сострадания к соседям-беднякам. Уинтон никогда не интересовался проблемами социологии, и тем не менее от природы имел щедрые сердце и руку и терпеть не мог вмешательства в чужие дела, поэтому Джип, сама по себе никогда не приходившая в гости без приглашения, постоянно слышала: «Заходите, мисс Джип», «Заходите, присядьте, дорогуша», а также множество других приятных слов даже от самых неотесанных и несносных субъектов. Ничто не смягчает сердце простого люда больше, чем приятное милое личико и сочувствие к жалобам.
Так прошло одиннадцать лет, пока Джип не исполнилось девятнадцать, а Уинтону – сорок шесть. В этом возрасте она под надзором гувернантки приехала на охотничий бал. Джип претило отношение к ней как к пушистому цыпленку: она хотела, чтобы ее с самого начала считали полностью оперившейся, поэтому на ней было идеально сидящее платье не белого, как у дебютантки, а теплого желтоватого цвета. Она унаследовала отцовскую франтоватость и старалась еще больше подчеркнуть ее в пределах, дозволенных лицам ее пола. Черные волосы, чудесным образом взбитые и уложенные, завитки на лбу, впервые обнаженная шея, «порхающий» взгляд и при этом исключительно невозмутимая осанка, как если бы она владела этими огнями, завистливыми взглядами, вкрадчивыми речами и восхищением по праву рождения. Джип была прекраснее, чем Уинтон ожидал в самых смелых мечтах. Она прикрепила на грудь пару веточек гельземия, привезенного отцом из города, аромат которого очень ей нравился. Уинтон никогда не видел, чтобы кто-нибудь носил этот цветок на балу. Дочь, гибкая, тонкая, порозовевшая от радостного волнения, каждым жестом, каждым взглядом напоминала ему ту, кого он впервые встретил на таком же празднике. Посадка головы, закрученные вверх усики сообщали о его гордости всему миру.
Памятный вечер принес Джип разнообразные переживания: несколько дивных, один момент недоумения и еще один – неприятный. Она упивалась своим успехом. Ей нравилось всеобщее обожание. Она с азартом и удовольствием кружила в танце, наслаждаясь ощущением, что умеет хорошо танцевать сама и доставлять удовольствие партнерам. Проникнувшись состраданием к маленькой гувернантке, в одиночестве сидевшей у стены – никто даже не посмотрел на уже немолодую полноватую бедняжку! – Джип отказала кавалерам два раза подряд и, к ужасу своей верной спутницы, оба танца просидела рядом с ней. На ужин отказалась идти с кем-либо, кроме Уинтона. Возвращаясь в бальный зал под руку с отцом, Джип услышала слова какой-то женщины: «Ах, вы не знали? Он и есть ее настоящий отец!» Какой-то старик ответил: «А-а, тогда все понятно!» У чувствительных натур глаза имеются даже на затылке, поэтому Джип спиной ощутила любопытные холодные ехидные взгляды и сразу поняла, что речь идет о ней. Тут ее вызвал на танец новый кавалер.
«Он и есть ее настоящий отец!» В этих словах заключалось слишком много смысла, чтобы полностью осознать его в такой богатый впечатлениями вечер. Слова эти оставили небольшую рану в неопределенном месте, но рану неглубокую и неопасную, скорее похожую на притаившуюся на задворках сознания растерянность. Вскоре все затмило новое острое чувство разочарования. Оно постигло Джип после превосходного танца с красивым мужчиной раза в два старше ее. Они присели за пальмами, он в мягких изысканных выражениях выразил восхищение ее платьем и вдруг, наклонив раскрасневшееся лицо, поцеловал ее в плечо. Ударь он ее, Джип была бы меньше потрясена и задета. В своей невинности она решила, что спровоцировала его какой-нибудь глупой фразой, иначе он бы не осмелился так поступить. Ни слова не говоря, она встала, смерила его потемневшими от обиды глазами, передернула плечами и бросилась напрямик к отцу. По ее застывшему лицу, плотно сжатым губам и чуть опущенным уголкам рта Уинтон сразу понял: случилась какая-то беда, но Джип, однако, ничего не рассказала, лишь пожаловалась на усталость и попросила вернуться домой. Они выехали все вместе морозной ночью; маленькая гувернантка, вынужденно промолчавшая весь вечер, теперь без умолку тараторила. Уинтон сидел рядом с шофером в низко надвинутой круглой меховой шапке и с поднятым меховым воротником, сердито дымил и буравил взглядом темноту. Кто посмел обидеть его любимицу? В салоне тихо журчала речь гувернантки. Джип, занавесив лицо кружевной вуалью и забившись в темный угол, молчала: перед глазами у нее стояла сцена оскорбления. Какое грустное окончание такого веселого вечера!
Она много часов пролежала без сна, пока в уме не возникла связная картина. Эти слова: «Он и есть ее настоящий отец!» – и мужчина, поцеловавший ее обнаженную руку, приоткрыли завесу над загадкой сексуальных отношений, укрепили вывод, что в истории ее жизни заключалась какая-то тайна. Столь чувствительный ребенок, как Джип, разумеется, не мог не почуять иногда дувший в ее окружении сквознячок морального осуждения, но она инстинктивно отмахивалась от подробностей. Джип смутно помнила время до появления Уинтона – Бетти, игрушки, нечеткий образ доброго, слабого здоровьем мужчины, кого она называла папой. В этом слове не было той глубины, как в слове «отец», закрепленном за Уинтоном, а следовательно, не было глубины и в ее чувствах к покойному. Когда девочка не помнит свою мать, как много сокрыто тьмой! О матери, кроме Бетти, ей никто ничего не рассказывал. В ассоциациях со словом «мать» для Джип не было ничего святого, никакие открытия не могли разрушить несуществующую веру. Выросшая без подруг, Джип плохо разбиралась даже в условностях. И все-таки, лежа в темноте, она ужасно страдала – от замешательства и ощущения не столько сокрушительного удара в сердце, сколько засевшей под кожей занозы. Сознание, что над ней нависло нечто привлекающее внимание, сомнительное, чреватое, как она считала, оскорблением, больно ранило ее чувствительную душу. Эти несколько бессонных часов оставили неизгладимый след. Джип, все еще теряясь в догадках, наконец заснула, а пробудилась, одержимая желанием узнать правду. В то утро она сидела за пианино: играла, отказываясь выходить из комнаты, – и была настолько холодна с Бетти и гувернанткой, что первая нашла прибежище в слезах, а вторая – в стихах Вордсворта. После чаепития Джип пришла в рабочий кабинет Уинтона, маленькое неопрятное помещение, где он никогда ни над чем не работал, с кожаными креслами и собранием книг, которые он за исключением «Мистера Джоррокса» Сертиса, Байрона, книг по уходу за лошадьми и романов Уайт-Мелвилла никогда не читал, с гравюрами лошадиных знаменитостей, своей саблей и фотографиями Джип и полковых товарищей на стенах. Во всей комнате глаз радовали только два ярких пятна – огонь в камине да вазочка, в которую Джип всегда ставила свежие цветы.
Когда она проскользнула в кабинет – стройная, лишенная угловатости фигурка, овальное лицо цвета сливок, темные глаза, нахмуренные брови, – Уинтону почудилось, что дочь в один миг повзрослела. Он весь день предчувствовал какую-то беду и перекапывал свои мысли до изнеможения. От избытка любви к Джип он теперь чувствовал тревогу, граничащую со страхом. Что могло случиться вчера вечером, во время ее первого выхода в свет, в обществе, повсюду сующем свой нос и всем перемывающем кости? Джип плавно опустилась на пол, прильнув к его колену. Уинтон не видел ее лица и даже не мог к ней прикоснуться, потому что она сидела с правой стороны. Уняв дрожь в сердце, он спросил:
– Что, Джип, утомилась?
– Нет.
– Нисколечко?
– Нет.
– Вчерашний вечер оправдал твои ожидания?
– Да.
В камине шипели и потрескивали дрова. Тяга ерошила длинные языки пламени. За окном завывал ветер. И вдруг она задала вопрос, от которого у него перехватило дыхание:
– Скажи, ты и вправду мой настоящий отец?
Когда давно ожидаемое событие наконец происходит, человек нередко бывает к нему не готов. За несколько секунд до ответа, от которого нельзя было уклониться, в уме Уинтона пронесся целый вихрь мыслей. Менее решительная натура впала бы в ступор и поспешно выпалила «да» или «нет», но Уинтон никогда не терял голову. Он не отвечал, пока не взвесил все последствия. Сознание, что Джип его дочь, согревало душу Уинтона всю жизнь, но если открыться, как сильно это ранит ее чувства к нему? Сколько ей уже известно? Что она подумает о покойной матери? А как восприняла бы это его любимая? Что решила бы на его месте?
Какой жестокий момент! Дочь спрятала лицо в его колени и ничем ему не помогала. Теперь, когда в ней пробудилось инстинктивное желание знать правду, от нее больше нельзя ничего скрывать! Молчание и то стало бы ответом. И, вцепившись в подлокотники кресла, он сказал:
– Да, Джип, твоя мать и я – мы любили друг друга.
Он почувствовал, как по телу дочери пробежала дрожь, и многое бы дал, чтобы увидеть сейчас ее лицо. Насколько она все поняла даже теперь? Ничего не поделаешь: надо доводить дело до конца, – и он продолжил:
– Что тебя заставило спросить об этом?
Джип покачала головой и пробормотала:
– Я рада.
Огорчение, шок, даже изумление Джип пробудили бы в нем чувство верности покойной, застарелую упрямую горечь, и он бы просто отгородился от дочери ледяной стеной, но два слова, произнесенных кротким шепотом, вызвали у него желание смягчить обстановку.
– Никто так и не узнал. Она умерла во время родов. Меня постигло ужасное горе. Если ты что-то слышала, это не более чем сплетни, ведь ты носишь мою фамилию. О твоей матери никто никогда не сказал ни единого дурного слова. Но теперь ты взрослая, и лучше, если будешь знать правду. Люди редко любят друг друга так сильно, как любили мы. Тебе нечего стыдиться.
Джип не сдвинулась с места, не повернулась к нему, только тихо произнесла:
– Я не стыжусь. Я на нее очень похожа?
– Да. Больше, чем я смел надеяться.
Совсем тихо Джип спросила:
– Значит, ты любишь меня не из-за меня самой?
Уинтон смутно догадывался, что в этом вопросе раскрывается ее душа, ее способность интуитивно проникать в суть вещей, обостренное чувство гордости и настоятельная потребность в безраздельной любви. Столкнувшись со столь глубокими эмоциями, человеку ничего не остается, как спрятаться за частоколом непонятливости. Уинтон, улыбнувшись, попросту сказал:
– А ты как думаешь?
К своему ужасу, он увидел, что Джип изо всех сил пытается подавить рыдания, отчего вздрагивают ее прижатые к отцовским коленям плечи. Он практически никогда не видел ее плачущей, несмотря на все злоключения беспокойной юности, а уж ушибов и падений ей пришлось пережить немало. Он ничего не смог придумать, кроме как погладить дочь по плечу и сказать:
– Не плачь, Джип. Не плачь.
Она прекратила плакать так же внезапно, как начала, встала и, прежде чем он сам успел подняться, вышла из кабинета.
Вечером за ужином Джип вела себя как обычно. Уинтон не обнаружил в ее голосе, поведении или поцелуе на ночь ни малейшей разницы. Момент, наступления которого он боялся многие годы, миновал, оставив после себя лишь легкое ощущение стыда, какое приходит после нарушения обета молчания людьми, почитающими молчание превыше всего. Старая тайна пока не выходила наружу, его не беспокоила, но теперь, став известной, причиняла страдания. Джип за последние двадцать четыре часа окончательно распрощалась с детством, стала жестче относиться к мужчинам. Если их не заставлять чуть-чуть мучиться, они будут мучить ее! В ней проснулся инстинкт своего пола. Она продолжала демонстрировать Уинтону любовь, и, может быть, делала это даже чуть больше, чем прежде, однако розовые очки упали с ее глаз.
Глава 3
На протяжении следующих двух лет уединения было меньше, а увеселений, пусть и не особенно регулярных, больше. Признание побудило Уинтона заняться укреплением положения дочери. Он не допускал кривотолков и никому не позволял смотреть на нее искоса. Умение противопоставить себя свету считалось неплохим «фасоном», однако такое поведение не допускало фальши. В Милденхеме или Лондоне, под крылышком сестры, с этим не возникало трудностей. Джип была слишком прелестна, Уинтон слишком холоден и слишком устрашал своей неразговорчивостью. Джип имела на руках все козыри. Единым фронтом общество выступает только против слабых.
Самое счастливое время в жизни девушки наступает, когда все ее ценят, все ее вожделеют, а сама она свободна как ветер, повелевает сердцами, не снисходя ни к одному из них. И даже если это время не самое счастливое, то уж наверняка самое веселое и богатое событиями. Какое дело было Джип до сердец воздыхателей? Она еще не познала любви, и муки неразделенной страсти обходили ее стороной. Опьяненная жизнью, Джип пустилась в веселую кадриль со множеством поклонников, довольно виртуозно ими помыкая. Она вовсе не стремилась делать их несчастными – просто не воспринимала всерьез. Ни одна девушка не была столь свободна сердцем. В эти дни Джип представляла собой необычную микстуру: с легкостью отказывалась от удовольствий ради Уинтона, Бетти и тети – маленькая гувернантка уволилась, – но, казалось, кроме них, ни с кем не считалась, принимая все, что возлагали к ее стопам, как дань своей внешности, элегантным платьям, музицированию, умению ездить верхом и танцевать, успехам на любительской сцене и лицедейству. Уинтон, которого она никогда не подводила, наблюдал за этим славным порханием с удовлетворением и тихой гордостью. Он приближался к тому возрасту, в каком человек действия больше не желает покидать наезженную колею своих занятий. Уинтон ездил на охоту, скачки, играл в карты и незаметно помогал деньгами и услугами своим бывшим менее везучим сослуживцам, их семьям и другим бедолагам в счастливом сознании, что Джип всегда рада быть с ним не меньше, чем он – с ней. А еще его потихоньку начинала донимать наследственная подагра.
Наступил день, когда Джип достигла юридической зрелости. Отец позвал ее в комнату, где, сидя у огня, представил отчет об управлении ее делами. Он лелеял и пестовал опутанное долгами наследство дочери, пока оно не достигло двадцати тысяч фунтов. Уинтон никогда прежде не рассказывал о нем Джип – эту тему было опасно затрагивать, – к тому же его собственных средств вполне хватало, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Пока он подробно объяснял, сколько у нее денег, показывал, куда они вложены, и советовал открыть свой собственный счет в банке, Джип стояла и с растущей озабоченностью смотрела на бумаги, назначение которых ей полагалось понимать. Не поднимая взгляда, она спросила:
– И это все… осталось от него?
Уинтон не ожидал услышать такой вопрос и покраснел под слоем загара:
– Нет. Восемь тысяч принадлежало твоей матери.
Джип взглянула на него и сказала:
– Тогда я не хочу брать остальное. Прошу тебя, отец!
Уинтон ощутил терпкое удовлетворение. Он еще не успел подумать, что сделает с деньгами, если Джип откажется их взять, но отказ был очень в ее духе: этот жест, как ничто другое, показал, что Джип – его родная кровь, и как бы окончательно закрепил его победу. Уинтон отвернулся к окну, у которого так много раз ждал прихода ее матери. Вот угол дома, который она всегда огибала. Казалось, пройдет минута, и она вновь появится в предвкушении объятий: щеки раскраснелись, из-под вуали смотрят ласковые глаза, грудь вздымается от спешки, – остановится, поднимет вуаль. Уинтон повернулся к дочери. Трудно поверить, что это не она!
– Хорошо, любовь моя, – сказал он. – Тогда прими такую же сумму от меня. А остальные деньги можно вложить куда-нибудь еще. Кому-то в будущем здорово повезет!
Непривычные слова «любовь моя», вырвавшиеся у всегда сдержанного отца, вызвали румянец на щеках и блеск в глазах Джип. Она бросилась ему на шею.
В те дни она много занималась музыкой: брала уроки игры на фортепиано у месье Армо, седовласого уроженца Льежа со щеками цвета красного дерева, немного похожего на ангела. Учитель не давал ей спуску и называл девушку «мой маленький друг». В Лондоне не проходило ни одного важного концерта, на котором бы Джип не побывала, ни одного выступления известного музыканта, которое она бы не посетила. И хотя утонченность манер не позволяла ей пищать от восхищения у ног талантливых исполнителей, всех их, и мужчин, и женщин, она возводила на пьедестал, а иногда даже встречала в доме тети на Керзон-стрит.
Тетка Розамунда, тоже любившая музыку, насколько позволяла ее «порода», часто поддерживала Джип, а та из нескольких слов, оброненных тетей, сочинила романтическую историю ее любви, погубленной гордыней. Розамунда – высокая, красивая, с продолговатым аристократическим лицом, яркими синими глазами, благородной душой, добрым сердцем и неподражаемой, мелодичной манерой речи, выдававшей в ее обладательнице непоколебимое сознание заслуженности своего положения, – была всего годом старше Уинтона. Тетя, в свою очередь, души не чаяла в Джип и всегда держала при себе любые, даже достоверные мысли относительно их родства. Опять же, насколько позволяло происхождение, Розамунда была гуманисткой и бунтаркой, любила лошадей и собак и терпеть не могла котов, правда, только двуногих. Ее племянница отличалась душевной мягкостью, особенно умиляющей тот тип женщин, кому лучше было бы родиться мужчинами. Розамунду, однако, нельзя было назвать воинственной натурой: скорее она обладала порывистостью, словно говорившей: «Если сможешь, попробуй за мной угнаться», которая так часто встречается у англичанок, принадлежащих к высшим слоям общества. Жизнерадостная, любившая длинные платья и безрукавки, ценные бумаги и трость с загнутой ручкой, она, как и брат, отличалась «фасоном», но обладала более развитым чувством юмора – очень ценным качеством в музыкальных кругах. В доме своей тети Джип была фактически обречена наблюдать и смешные выходки, и серьезные достоинства всех этих дарований с растрепанными волосами, до краев наполненных музыкой и спесью. Джип от природы отличало острое чутье на нелепое и смешное, поэтому они с тетей редко беседовали о чем-либо, не покатываясь со смеху.
Первый действительно скверный приступ подагры настиг Уинтона, когда Джип исполнилось двадцать два года. Испугавшись потерять к началу охотничьего сезона способность сидеть в седле, майор поехал с дочерью и Марки в Висбаден. Они сняли номера на Вильгельмштрассе с видом на сад, в котором листва уже превращалась в роскошное сентябрьское золото. Лечение шло долго и муторно, Уинтон отчаянно скучал. Джип проводила время намного веселее. В сопровождении молчаливого Марки она ежедневно совершала конные прогулки на гору Нероберг, негодуя по поводу правил, разрешавших пользоваться в этом божественном лесу со сверкающими медью буками только специально отведенными маршрутами. Один-два раза в день она посещала концерты в курзале – или в одиночку, или с отцом.
Когда Джип впервые услышала игру Фьорсена, отца рядом не было. В отличие от большинства скрипачей этот был высок и худ, с гибкой фигурой и быстрыми свободными движениями. Бледное лицо удивительно хорошо гармонировало с копной волос и усами цвета тусклого золота. На впалых щеках с широкими высокими скулами виднелись узкие лоскутки бакенбардов. Баки не впечатлили Джип, да и весь он ее не впечатлил, однако игра Фьорсена загадочным образом взволновала и захватила юное сердце. Скрипач, несомненно, обладал замечательной техникой. Она облекала взволнованный, своенравный порыв его игры в чеканную форму, в лепесток пламени, скованный льдом. Когда Фьорсен закончил выступление, Джип не присоединилась к шквалу аплодисментов, но сидела без движения, не сводя с него глаз. Ни капли не тронутый восторгом толпы, музыкант провел тыльной стороной ладони по лбу, откидывая необычного цвета пряди, довольно равнодушно улыбнулся и отвесил пару легких поклонов. Джип подумала: «Какие у него странные глаза! Как у леопарда или тигра – зеленые, свирепые и в то же время робкие и вороватые. Невозможно оторваться!» Такого мужчину – странного и пугающего – она еще не видела. Он, казалось, смотрел прямо на нее. Опустив глаза, Джип захлопала, а когда вновь подняла взгляд, улыбка на лице Фьорсена сменилась задумчивым, грустным выражением. Он еще раз легко поклонился – как показалось Джип, ей одной – и рывком поднес скрипку к плечу. «Он сейчас сыграет для меня», – мелькнула нелепая мысль. Фьорсен без аккомпанемента исполнил щемящую сердце короткую пьесу. Когда он закончил, Джип больше не смотрела на него, но от ее внимания не укрылся момент, когда он с небрежным поклоном покинул сцену.
В тот вечер за ужином она сказала Уинтону:
– Я слушала сегодня одного скрипача. Прекрасный исполнитель, его зовут Густав Фьорсен. Швед, наверно, как ты думаешь?
Уинтон ответил:
– Скорее всего. Есть на что посмотреть? Знавал я одного шведа в турецкой армии, славный был малый.
– Высокий, худой, бледное лицо, выступающие скулы, щеки впалые, странные зеленые глаза. Ах да, еще маленькие золотистые бакенбарды.
– Боже милостивый, это уже перебор!
Джип с улыбкой пробормотала:
– Да, пожалуй, ты прав.
На следующий день она увидела Фьорсена в саду. Джип с отцом сидела рядом с памятником Шиллеру. Уинтон читал «Таймс»: получения газеты он ждал с большим нетерпением, чем готов был признать, но не хотел жаловаться на скуку, чтобы не мешать удовольствию дочери, которое та явно получала от поездки. Читая обычные, приятные сердцу обличения поведения «этих каналий радикалов», недавно пришедших к власти, и отчет о встрече в Ньюмаркете, он украдкой поглядывал на Джип.
Вряд ли можно найти создание прелестнее, изящнее и породистее, чем она, среди голенастых немок и прочей неотесанной шушеры в этом богом забытом месте. Девушка, не замечая, что за ней подсматривают, поочередно останавливала взгляд на каждом, кто проходил мимо, на птицах и собаках, на газоне с бликами солнечного света, начищенной меди буковой листвы, липах и высоких тополях у воды. Врач, вызванный в Милденхем, когда у нее разыгралась мигрень, назвал ее глаза идеальным органом зрения и был прав – никто другой не умел так быстро и с такой полнотой охватить взглядом свое окружение. Собаки любили ее, то и дело одна из них останавливалась, в нерешительности размышляя, не ткнуться ли носом в ладонь девушки-иностранки. Перекинувшись игривыми взглядами с догом, Джип подняла глаза и вдруг увидела Фьорсена, проходившего мимо в сопровождении низкорослого квадратного человечка в брюках по последней моде и корсете. Высокая сухопарая долговязая фигура скрипача была облачена в застегнутый на все пуговицы сюртук коричневато-серого цвета. На голове – серая мягкая широкополая шляпа; в петлице – белый цветок; на ногах – лакированные сапоги с матерчатыми отворотами; на фоне белой мягкой льняной рубашки пузырится галстук-пластрон. Франт – ни дать ни взять! Странные глаза Фьорсена встретились со взглядом девушки, и он приложил руку к шляпе.
«Смотри-ка, он меня запомнил», – подумала Джип. Фигура с тонкой талией и немного выдвинутой вперед головой на довольно высоких плечах в сочетании с вольной походкой поразительно напоминала леопарда или какого-нибудь другого грациозного зверя. Фьорсен тронул спутника за плечо, что-то пробормотал, развернулся и пошел назад. Джип увидела, что он смотрит в ее строну, и вдруг поняла: скрипач вернулся с единственной целью – посмотреть на нее еще раз. Однако она помнила, что за ней наблюдает отец. Можно было не сомневаться, что зеленые глаза не выдержат взгляд Уинтона, англичанина, принадлежащего к тому сословию, что никогда не снисходит до любопытства. Фьорсен с приятелем продефилировали мимо. Джип заметила, как Фьорсен повернулся к спутнику и слегка кивнул в ее сторону. Коротышка засмеялся, и в груди Джип полыхнуло пламя.
– Каких только павлинов здесь не увидишь! – заметил Уинтон.
– Это тот самый скрипач, о котором я тебе рассказывала. Фьорсен.
– О! Ну-ну…
Майор явно забыл о прежнем разговоре.
Мысль, что Фьорсен выделил ее среди множества зрителей, слегка щекотала самолюбие Джип. Рябь в душе улеглась. Хотя отцу не понравился наряд скрипача, он вполне ему подходил. Вряд ли Фьорсен выглядел бы уместно в английском платье. За два последующиех дня Джип увидела квадратного коротышку, молодого человека, гулявшего с Фьорсеном, всего лишь раз и почувствовала, как тот провожает ее взглядом.
Потом баронесса фон Майзен, космополитка и приятельница тетки Розамунды, немка по мужу, наполовину голландка, наполовину француженка по рождению, спросила Джип, слушала ли она игру шведского скрипача Фьорсена.
– Он мог бы стать лучшим скрипачом современности, если бы только не… – Баронесса замолчала на полуслове и покачала головой, но увидев, что многозначительная пауза не произвела эффекта, закончила свою мысль: – Ох уж эти музыканты! Ему надо спасаться от самого себя. Если не остановится – пропадет. А жаль! Большой талант!
Джип окинула баронессу твердым взглядом и спросила:
– Он что, пьет?
– Pas mal![2] Увы, есть вещи похуже выпивки, ma chere[3].
Интуиция и воспитание в доме Уинтона приучили Джип скрывать смущение. Она не стремилась к познанию изнанки жизни, но и не шарахалась от нее, не терялась при ее виде. Баронесса, для кого невинность имела пикантный привкус, продолжила:
– Des femmes – toujours des femmes! C’est grand dommage[4]. Они его испортят. Ему нужно найти себе единственную, но ей не позавидуешь. Sapristi, quelle vie pour elle![5]
Джип спокойно спросила:
– Разве такой мужчина способен любить?
Баронесса выпучила глаза.
– Я видела, как один такой мужчина превратился в раба. Бегал за женщиной, как ягненок, а она изменяла ему направо и налево. On ne peut jamais dire. Ma belle, il y a des choses que vous ne savez pas encore[6]. – Она взяла Джип за руку. – И все-таки кое-что можно утверждать безо всяких сомнений. С вашими глазами, губами и фигурой вас ждет великое будущее!
Джип отняла руку, улыбнулась и покачала головой – она не верила в любовь.
– Ах! Вы многим вскружите голову! Смелее, как говорят у вас в Англии. В этих прекрасных карих глазах притаился рок!
Девушке простительно с удовольствием выслушивать такую лесть. Слова баронессы согрели душу Джип, ощущавшей в эти дни безотчетную раскованность, точно так же согревали ее взгляды людей, оборачивавшихся, чтобы повнимательнее ее рассмотреть. Нежный воздух, мягкая атмосфера веселого курорта, обилие музыки, ощущение, что она rara avis[7] среди тех, чья неуклюжесть лишний раз оттеняет ее достоинства, вызвали у нее нечто похожее на опьянение, то, что баронесса назвала «un peu folle»[8]. Джип в любую минуту была готова смеяться, ее не покидало великолепное ощущение, будто она способна вертеть всем миром как ей угодно, так редко возникающее у чувствительных натур. Все вокруг было «забавным» и «чудесным». А баронесса, видя бесподобную красоту Джип, испытывая к ней искреннюю симпатию, знакомила ее со всеми интересными людьми, возможно, иногда перегибая палку.
Женщин и людей искусства всегда связывает определенное родство душ, любопытство для них очень острое чувство. Кроме того, чем больше у мужчины побед, тем более ценным призом выглядит он в глазах женщины. Увлечь мужчину, соблазнившего в прошлом немало женщин, – разве это не доказательство превосходства твоих чар перед чарами других? Слова баронессы утвердили в сознании Джип мысль о Фьорсене как о невозможном человеке, но в то же время усилили легкую радость от того, что он выделил и запомнил ее среди других. Позже слова баронессы принесут более серьезные плоды. Однако сначала произошел странный эпизод с цветами.
Через неделю после сцены у памятника Шиллеру, вернувшись с верховой прогулки, Джип обнаружила на туалетном столике букет роз «Глуар де Дижон» и «Ля Франс». Зарывшись в них лицом, она подумала: «Какие славные! Кто их прислал?» Букет доставили без карточки. Горничная-немка смогла лишь рассказать, что букет для «фрейлейн Винтон» принес мальчик из цветочного магазина. Было решено, что цветы прислала баронесса. На ужин и на концерт после ужина Джип прицепила к корсажу одну «француженку» и одну «дижонку» – смелая комбинация розового и оранжевого на фоне перламутрово-серого платья доставила любительнице экспериментировать с разными оттенками цвета огромное удовольствие. Они не стали покупать программку – для Уинтона все музыка звучала на один манер, а Джип знала репертуар наизусть. При виде выходящего на сцену Фьорсена щеки Джип зарделись от предвкушения.
Скрипач сначала исполнил менуэт Моцарта, затем сонату Сезара Франка, а когда вышел для последнего поклона, держал в руках «дижонку» и «француженку». Джип невольно вскинула руку, чтобы проверить, на месте ли ее розы. Фьорсен встретился с ней взглядом и поклонился чуть ниже обычного. Прежде чем покинуть сцену, он непринужденно приложил розы к губам. Джип отдернула руку от цветов, словно ее ужалила пчела. В голове мелькнула мысль: «Я веду себя как гимназистка!» – и она выдавила легкую улыбку. Однако щеки ее горели. Может быть, снять эти розы и уронить на пол? Отец мог заметить, понять, что у Фьорсена такие же, и смекнуть, что к чему. Он воспринял бы это как оскорбление дочери. А она? Джип не чувствовала себя оскорбленной. Слишком уж хорош был комплимент – Фьорсен как бы намекал, что играл только для нее одной. В памяти всплыли слова баронессы: «Ему надо спасаться от самого себя. А жаль! Большой талант!» Да, очень большой. Человек, способный играть столь виртуозно, действительно заслуживал спасения. Уинтон с дочерью ушли с концерта после того, как Фьорсен сыграл последний сольный номер. Джип аккуратно вернула обе розы в букет.
Тремя днями позже, когда пришла на домашний полдник к баронессе фон Майзен, Джип сразу же увидела Фьорсена и его низкорослого квадратного спутника. Они стояли возле пианино, с выражением жуткой скуки и нетерпения внимая болтовне какой-то дамы. Весь этот пасмурный день со странными сполохами в небе, предвещавшими грозу, Джип чувствовала себя не в настроении и немного скучала по дому. Но теперь ее душа возликовала. Невысокий спутник скрипача отошел в сторону, к баронессе. Через минуту его подвели к Джип и представили – граф Росек. Лицо графа не понравилось Джип. Под глазами черные круги; манеры слишком уж выдержанные, с оттенком холодной любезности. Правда, Росек был учтив, вежлив и хорошо говорил по-английски. Оказалось, что он поляк, живет в Лондоне и знает о музыке все, что о ней полагалось знать. Мисс Уинтон, предположил он, наверняка уже слышала игру его друга Фьорсена. Как? Только здесь, не в Лондоне? Очень странно. В прошлом сезоне он провел там несколько месяцев. Немного досадуя на собственную неосведомленность, Джип ответила:
– Да, но я почти все лето провела в деревне.
– Ему сопутствовал огромный успех. Надо его снова привезти в Лондон, это пойдет ему на пользу. Вам нравится, как он играет?
Вопреки намерению не раскрывать свои чувства перед незнакомым человечком с лицом сфинкса, Джип пробормотала:
– Ах, еще бы! Просто удивительно.
Поляк кивнул и неожиданно с легкой загадочной улыбкой сказал:
– Позвольте вам его представить: Густав – мисс Уинтон!
Джип обернулась. Скрипач, стоявший прямо у нее за спиной поклонился. В его глазах светилось смиренное обожание, которое он даже не пытался скрывать. На губах поляка мелькнула еще одна улыбка, и в следующую минуту Джип осталась наедине с Фьорсеном в эркере. После случайной встречи у памятника Шиллеру, эпизода с цветами и всего, что о нем говорили, девичья душа не могла не заволноваться. Однако жизнь пока еще щадила ее нервы или душу: Джип всего лишь ощущала приятное удивление и легкое возбуждение. Вблизи Фьорсен был меньше похож на зверя в клетке. Он, несомненно, имел франтоватый вид, был, что всегда немаловажно, тщательно вымыт, от платка или волос исходил сладковатый аромат, который Джип осудила бы, будь он англичанином. На мизинце – кольцо с бриллиантом, которое почему-то не выглядело пошлым. Высокий рост, широкие скулы, густые, но не длинные волосы, голодная живость лица, фигуры, движений нейтрализовали любые подозрения в женоподобности. Нет, швед был вполне мужчиной и даже чересчур. Со странным, чеканным акцентом, Фьорсен произнес:
– Мисс Уинтон, вы здесь моя аудитория. Я буду играть для вас, для вас одной.
Джим рассмеялась.
– Вы смеетесь надо мной. И напрасно. Я буду играть для вас, потому что восхищен вами. Я ужасно вами восхищен. Посылая вам эти цветы, я не хотел вас обидеть. Они всего лишь выражение моего удовольствия от созерцания вашего лица.
Голос Фьорсена дрогнул. Потупив глаза, Джип ответила:
– Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Я хочу поблагодарить вас за вашу игру. Она прекрасна, воистину прекрасна!
Скрипач отвесил еще один короткий поклон:
– Вы придете послушать меня, когда я вернусь в Лондон?
– Я думаю, что любой пришел бы вас послушать, если предоставится такая возможность.
Скрипач отрывисто усмехнулся.
– Ба! Здесь я выступаю только из-за денег. Я терпеть не могу это место. Оно нагоняет на меня скуку! Кто это сидел рядом с вами около памятника? Ваш отец?
Джип, внезапно посерьезнев, кивнула. Она не забыла небрежный жест в ее сторону.
Фьорсен провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение.
– Настоящий англичанин. Но вы… не имеете отечества, вы дитя мира!
Джип иронично поклонилась.
– Нет, по вас действительно не скажешь, из какой вы страны. Вы не с севера и не с юга. Вы просто женщина, созданная для обожания. Я пришел сюда в надежде встретить вас. Мне невероятно повезло. Мисс Уинтон, я ваш преданный слуга.
Он говорил очень быстро, очень тихо, с пылким возбуждением, какое невозможно подделать, потом вдруг пробормотав: «Ох уж эти люди!» – отвесил еще один скупой поклон и был таков. Баронесса уже вела к ней нового гостя. После встречи главной мыслью Джип было: «Неужели он со всеми так начинает?» Она отказывалась поверить. Пылкий шепот, смиренный восхищенный взгляд! Но тут она вспомнила улыбку, игравшую на губах поляка, и подумала: «Надеюсь, он понимает, что меня не пронять вульгарной лестью».
Не смея никому довериться, Джип не имела возможности разобраться в брожении причудливых чувств притяжения и отторжения в своей душе, эти ощущения не поддавались анализу, перемешивались и сталкивались в глубинах сердца. Это определенно была не любовь и даже не ее начало, скорее, рискованный детский интерес к вещам, манящим своей загадочностью, вещам, которые могут стать доступными, если только не бояться протянуть руку. А тут еще очарование музыки и слова баронессы о необходимости спасения таланта, мечта о достижении невозможного, на что способна только женщина неотразимого обаяния, рожденная побеждать. Все эти мысли и чувства, однако, пока еще находились в зародыше. Кто знает, встретятся ли они еще раз? К тому же Джип была совсем не уверена, что желала новой встречи.
Глава 4
Джип завела привычку ходить с отцом к горячему источнику Кохбруннен, где тот вместе с другими пациентами каждое утро медленно, по двадцать минут поглощал минеральную воду. Пока отец пил, Джип сидела в дальнем углу сада и читала в качестве ежедневного урока немецкого языка роман из серии издательства «Реклам».
На следующее утро после «домашней» встречи у баронессы фон Майзен Джип сидела там с «Вешними водами» Тургенева, как вдруг заметила фланирующего по дорожке графа Росека со стаканом воды в руке. Мгновенно вспомнив улыбку, с которой граф представил ее Фьорсену, Джип поспешила закрыться зонтиком от солнца. Из своего укрытия она увидела ноги в лакированных туфлях, широкие в бедрах, но узкие внизу брюки и деревянную походку человека, затянутого в корсет. Мысль, что Росек дополнял свой наряд женскими аксессуарами, еще больше усилила ее неприязнь. Как смеют некоторые мужчины подражать женщинам? В то же время что-то подсказывало ей, что поляк хороший наездник, опытный фехтовальщик и не обделен физической силой. Она с облегчением вздохнула, когда граф проследовал мимо, и, опасаясь, что он может вернуться, захлопнула книгу и убежала. Однако ее фигура и летучая походка привлекали к ней больше внимания, чем она подозревала.
На следующее утро, сидя на той же скамье, Джип с затаенным дыханием читала сцену объяснения между Джеммой и Саниным у окна, как вдруг услышала за спиной голос Фьорсена.
– Мисс Уинтон!
Скрипач подошел со стаканом воды в одной руке и шляпой – в другой.
– Я только что познакомился с вашим отцом. Вы позволите мне на минуту присесть?
Джип отодвинулась на край скамьи, и он сел.
– Что вы читаете?
– Роман под названием «Вешние воды».
– Ах, лучше ничего не написано. В каком вы месте?
– На разговоре Джеммы и Санина во время грозы.
– Подождите, когда появится мадам Полозова. Какой персонаж! Сколько вам лет, мисс Уинтон?
– Двадцать два.
– Ни одна девушка в вашем возрасте не смогла бы по достоинству оценить эту вещь, но только не вы. Вы многое понимаете – чутьем. Простите, как вас по имени?
– Гита.
– Гита? Жестковато для женского имени.
– Все зовут меня Джип.
– Джип? Ах Джип! Да, Джип…
Фьорсен повторил ее имя настолько просто и незатейливо, что она не нашла повода рассердиться.
– Я сказал вашему отцу, что уже имел честь встретиться с вами. Он был со мной очень вежлив.
– Мой отец всегда вежлив, – холодно заметила Джип.
– Как лед, в который кладут шампанское.
Джип помимо воли улыбнулась.
– Очевидно, вы ему сказали, что я mauvais sujet[9], – неожиданно предположил он. Джип наклонила голову. Фьорсен пристально посмотрел на нее и продолжил: – Это правда. Но я способен быть лучше, много лучше.
Джип хотелось взглянуть на него, но она не осмеливалась. Ее душу охватило странное ликование. У этого мужчины много власти, но ее власть над ним еще сильнее. Стоит ей захотеть, и она сделает его своим рабом, верным псом, прикует к себе цепью. Достаточно протянуть руку, и он упадет на колени, чтобы ее поцеловать. Достаточно позвать «иди сюда», и он прибежит, где бы ни был. Достаточно произнести «веди себя хорошо», и он будет как шелковый. Она впервые почувствовала свою женскую власть, и это чувство вскружило ей голову. Но Джип не умела долго сохранять уверенность в себе, даже самые яркие моменты торжества неизменно омрачала тень сомнений. Словно прочитав ее мысли, Фьорсен сказал:
– Прикажите мне сделать что угодно, мисс Уинтон, и я это сделаю.
– Тогда немедленно возвращайтесь в Лондон. Здесь вы разбазариваете себя по пустякам, и знаете это. Вы сами так говорили!
– Вы попросили меня сделать как раз то единственное, что я сделать не в силах, мисс… Джип.
– Вы говорите тоном слуги.
– Я и есть слуга – ваш слуга!
– И поэтому отказываетесь выполнить то, о чем я прошу?
– Вы бессердечны.
Джип рассмеялась. Фьорсен поднялся и с неожиданным напором сказал:
– Я не уеду от вас. Даже не надейтесь.
Наклонившись с невероятной быстротой, он схватил ее руку, прижал к губам и развернулся на каблуках.
Джип в смущении и замешательстве посмотрела на пальцы, еще ощущавшие щекотку колких усов. Она снова рассмеялась: когда тебе целуют руку, это так не по-английски. Джип вернулась к книге, но прочитанные слова не шли на ум.
Более странных ухаживаний, чем те, что последовали за этой сценой, вряд ли кто наблюдал. Говорят, что кошка гипнотизирует пташку, прежде чем съесть. Здесь же пташка гипнотизировала кота, но и сама поддавалась гипнозу. Джип ни разу не ощутила, что теряет контроль, всегда чувствовала, что делает лишь снисхождение, услугу, но в то же время была не в состоянии вырваться, как будто ее удерживала сила своих собственных колдовских чар, наложенных на Фьорсена. Притяжение ее обаяния действовало и на саму Джип. Она больше не могла сохранять свой первоначальный скептицизм. Если она не улыбалась Фьорсену, он становился чересчур мрачным и несчастным, а если улыбалась – радовался и благодарил. Смену выражения в его глазах с привычных беспокойства, свирепости и скрытности на смиренное обожание и затаенную жажду обладания невозможно было подделать. У нее не было возможности разобраться в этой метаморфозе. Куда бы она ни пришла, он был тут как тут: если на концерт – ждал ее появления в нескольких шагах от дверей, если выпить чаю в кондитерскую – возникал там как по волшебству. Каждый день после обеда Фьорсен гулял именно в том месте, где Джип должна была проехать верхом в направлении Нероберга.
Он никогда не навязывался и ничем ее не компрометировал, разве только иногда смиренно просил разрешения посидеть рядом пять минут в саду Кохбруннена. Жизненный опыт, несомненно, помогал ему, однако Фьорсен, должно быть, инстинктивно понимал, что со столь чувствительной натурой следует вести себя осторожно. Вокруг этой яркой свечи порхали и другие мотыльки, на чьем фоне его интерес к Джип не выглядел слишком уж явным. Понимала ли она, что происходит? Замечала ли, как постепенно слабели ее оборонительные позиции, как, позволяя ему увиваться вокруг нее, отрезала себе пути к отступлению? Вряд ли. Все это только усиливало победоносное головокружение в то время, когда она все больше влюблялась в жизнь, все больше ощущала, что окружающий мир ценит ее и восхищается ей, что в ее власти совершать то, что не дано другим.
И разве Фьорсен с его великим талантом и сомнительной репутацией не служил тому доказательством? Он вызывал у нее радостное волнение. Общество столь беспокойного, яркого человека никогда не бывает скучным. Однажды утром он немного рассказал о себе. Его отец, мелкий шведский землевладелец, был физически очень силен и много пил. Мать была дочерью художника. Она научила сына играть на скрипке, но умерла, когда он был еще ребенком. В возрасте семнадцати лет после ссоры с отцом Фьорсену пришлось зарабатывать на жизнь игрой на скрипке на улицах Стокгольма. Один знаменитый скрипач услышал его игру и взял мальчика под свою опеку. К тому времени отец Фьорсена окончательно спился и умер, оставив сыну небольшое поместье. Густав сразу же его продал, истратив деньги, по его выражению, на всякие глупости.
– Да, мисс Уинтон, я совершил множество глупостей, но они не идут ни в какое сравнение с теми, которые я еще совершу, если не смогу вас больше видеть!
Бросив эту взбалмошную реплику, он вдруг вскочил и убежал. Джип улыбнулась его словам, однако в душе почувствовала волнение, скепсис, сострадание и что-то еще, неуловимое. В те дни она вообще плохо себя понимала.
А что Уинтон? Насколько хорошо он понимал происходящее с дочерью? Отец Джип был стоиком, однако стоицизм не отменял настораживающей подозрительности, уколы которой майор чувствовал отчетливее, чем боль в левой ступне. Уинтон опасался вызвать скандал опрометчивыми действиями, иначе увез бы дочь домой еще за две недели до окончания срока лечения. Ему ли было не знать примет зарождающейся страсти? Этот долговязый, скользкий, хищный, пиликающий на скрипочке малый с широкими скулами, малюсенькими (прости господи!) бакенбардами и зеленоватыми глазками, которых он – Уинтон это видел! – не сводил с Джип, вызывал у него сильнейшее недоверие. От прямого вмешательства Уинтона, возможно, удерживало чисто английское презрение к иностранцам и людям богемы. Он просто не мог воспринимать этого субъекта всерьез. Чтобы Джип, его разборчивая, несравненная Джип, хоть немного повелась на уловки этого типа? Да никогда в жизни! Ревнивая любовь к дочери не позволяла Уинтону даже представить себе, что она не посоветуется с ним в случае сомнений или затруднений. Он забыл о девичьей стыдливости и скрытности, забыл, что сам чурался словесных излияний любви и что Джип никогда не проявляла любовь к отцу в форме откровенных признаний. К тому же, каким бы ушлым ни был, старый вояка видел лишь то немногое, что Фьорсен позволял ему увидеть. Да и все это, по правде говоря, было не так уж серьезно, если не считать последнего эпизода накануне отъезда, о котором Уинтон ничего не знал.
Вторая половина последнего дня накануне отъезда выдалась тихой, даже печальной. Накануне вечером прошел дождь, и теперь мокрые стволы и опавшая листва издавали слабый запах лакрицы. Джип казалось, что радость и восторг вдруг разом покинули ее душу. Что было тому виной, хмурый день или предстоящий отъезд из места, где ей было так легко и радостно? После обеда, пока отец занимался счетами, она отправилась на прогулку по длинному парку в долине. Небо хмурое и серое, деревья притихшие и унылые. На всем лежала печать меланхолии, а Джип все шла и шла, пересекла по мостику ручей, обогнула по грязному проселку окраину деревни и поднялась на холм, откуда могла вернуться на главную дорогу. Почему всё когда-нибудь кончается? Она впервые в жизни думала о Милденхеме и охоте безо всякого энтузиазма. Теперь было бы лучше остаться в Лондоне. Там она не будет отрезана от музыки, танцев, людей и приятного чувства, что ее везде с радостью принимают. Послышался неприятный гулкий вой молотилки – под стать ее настроению. Над головой на фоне свинцового неба пролетел белый голубь. Осыпанные золотом березки, вздрагивая, роняли дождевые капли. Как здесь одиноко! Внезапно из-за живой изгороди выскочили двое мальчишек и, чуть не сбив ее с ног, припустили по дороге. Их что-то напугало. Джип почувствовала на лице мягкие прикосновения дождевых капель. Так недолго и платье испортить, ее любимое, сизого цвета, бархатистое, не предназначенное для дождливой погоды. Она отбежала под сень березок. Хоть бы дождь закончился не начавшись! По-прежнему звучал смягченный расстоянием заунывный вой молотилки, нагонявший еще большую тоску. Из-за живой изгороди, откуда выскочили мальчишки, вышел и, широко шагая, направился к ней какой-то мужчина. Он перепрыгнул через канаву, отделявшую его от березок. Джип вдруг увидела, что это был Фьорсен – запыхавшийся, растрепанный, побледневший от быстрой ходьбы. Он, видимо, шел за ней и поднялся с дорожки прямо по склону холма, не переходя через ручей. Этот маршрут заметно сказался на его щегольском наряде. Джип следовало бы рассмеяться, но вместо этого она почувствовала при виде разгоряченного бледного лица волнение и некоторый испуг. Задыхаясь, Фьорсен проговорил:
– Я вас догнал. Вы завтра уезжаете, а мне ничего не сказали! Решили улизнуть потихоньку, не сказав мне ни слова! Вы всегда так жестоки? Ну тогда я вас тоже не буду жалеть!
Неожиданно опустившись на колени, он схватился за край широкой ленты, служившей Джип поясом, и прижал ее к лицу, а потом обхватил колени. Джип задрожала: действия Фьорсена вовсе не казались ей смешными.
– Ох, Джип, я люблю вас. Люблю. Не гоните меня. Позвольте мне быть с вами! Я ваш пес, ваш раб. Ох, Джип, я люблю вас!
Его голос и растрогал, и напугал ее. Мужчины последние два года несколько раз говорили ей, что любят ее, но никто не делал это с таким отчаянием пропащей души, с таким взглядом в глазах, яростно настойчивым и одновременно умоляющим, с таким беспокойным, жадным, ищущим прикосновением рук. Она лишь нашла в себе силы пробормотать:
– Прошу вас, встаньте!
Но он продолжил:
– Любите меня, хоть немножко любите! О, Джип!
В уме мелькнуло: «Сколько раз он так стоял на коленях перед другими женщинами?» На лице музыканта лежала печать самоотречения, красоты, рожденной томлением страсти, и страх Джип рассеялся. Фьорсен сбивчивым шепотом продолжил:
– Я беспутный человек, и знаю это. Но если вы полюбите меня, я перестану им быть и стану совершать ради вас великие поступки. Ох, Джип, если бы вы однажды согласились стать моей женой! Не сейчас – когда я смогу вам доказать. Ох, Джип, вы так прелестны, так удивительны!
Его руки медленно взбирались все выше, он прижался лицом к ее талии. Не отдавая отчета в своих действиях, Джип тронула его волосы и повторила:
– Нет, встаньте.
Фьорсен наконец поднялся. Стоя рядом, вытянув сжатые в кулаки руки по швам, он прошептал:
– Сжальтесь надо мной! Скажите хоть слово!
Но Джип не находила слов. Внутри ее все было незнакомо, путано, трепетно, душа в неимоверном смятении одновременно и тянулась к нему, и отшатывалась от него. Джип лишь смотрела в лицо Фьорсена потемневшими встревоженными глазами. Внезапно он схватил ее и прижал к себе. Она отпрянула и изо всех сил оттолкнула его. Фьорсен, пристыженный, страдающий, понурил голову, зажмурился, у него дрожали губы. В сердце Джип шевельнулось сострадание. Она пробормотала:
– Я не знаю. Я вам потом скажу… позже… в Лондоне.
Музыкант поклонился, скрестив руки на груди, словно давая понять, что ей нечего больше бояться, а когда она, не обращая внимания на дождь, пошла вперед, увязался рядом, приотстав на один шаг, с покорным видом, словно не говорил только что жарких слов и не целовал ее губы в неистовом порыве.
Снимая в своей комнате мокрое платье, Джип попыталась вспомнить, что он говорил и что отвечала сама. Она не давала никаких обещаний. Назвала только свой адрес – лондонский и в деревне. Джип заставляла себя думать о других вещах, но мысли упрямо возвращались к прикосновениям неугомонных пальцев, твердой мужской хватке, выражению глаз Фьорсена во время поцелуя, и ее вновь накрывала волна страха и возбуждения.
В тот вечер он играл на концерте – ее последнем. Фьорсен никогда не играл так хорошо – в блеске смятения, лихорадочном экстазе. Слушая его, Джип не могла совладать с чувством обреченности – что бы она теперь ни сделала, судьбы не избежать.
Глава 5
После возвращения в Англию чувство обреченности прошло или почти прошло. Здоровый скептицизм подсказывал, что Фьорсен вскоре найдет себе новую пассию и обнаружит в ней все то, чем, по его словам, обладала Джип. Смешно даже думать, что музыкант прекратит ради нее свое сумасбродство и что она имеет над ним какую-либо реальную власть. Однако в глубине души Джип не верила собственным выводам. Если их принять, это подорвало бы ее веру в себя, тонкую и сокровенную, на грани бессознательного веру в нечто побудившее баронессу упомянуть «рок».
Уинтон с облегчением увез дочь в Милденхем, купил ей новую лошадь. Подоспел сезон охоты на лисий молодняк. По меньшей мере на неделю страстные скачки и вид охотничьих собак отодвинули все остальное на второй план, но вскоре, когда сезон по-настоящему вступил в силу, Джип вновь почувствовала уныние и смутную тревогу. Милденхем был погружен во тьму, жутко завывали осенние ветры. Ее любимая коричневая самка спаниеля, Красотка, едва дождавшись возвращения хозяйки, умерла от старости. Джип терзалась угрызениями совести из-за того, что оставила собаку без присмотра на такой долгий срок. Красотка, как не преминула сообщить Бетти со свойственной недалеким людям тягой к перечислению печальных подробностей, каждый день ждала возвращения хозяйки, и теперь Джип выглядела в собственных глазах черствой и бессердечной. В таких случаях она бывала одновременно сердобольной и чересчур строгой к себе. Джип захворала и слегла на несколько дней. Когда ей полегчало, встревоженный Уинтон немедля увез ее в Лондон к тетке Розамунде. Он любил общество дочери, но если город пойдет ей на пользу, поможет встряхнуться, будет только рад ее отпустить. Приехав через три дня на уикенд, Уинтон с облегчением отметил, что дочь действительно повеселела, и вернулся домой с легким сердцем.
В день возвращения отца в Милденхем Джип получила письмо от Фьорсена, переправленное с адреса на Бери-стрит. Скрипач находился на пути в Лондон и уверял, что не забыл ни одного ее взгляда и ни одного слова. Он писал, что не успокоится, пока не сможет снова ее видеть. «Очень долго, пока я не встретил вас, – говорилось в конце письма, – я был как мертвый, шел ко дну. Все было для меня кислым, как зеленые яблоки. Теперь я корабль, выбравшийся из бурных вод в теплое лазурное море, я вновь вижу перед собой путеводную звезду. Целую ваши руки. Ваш преданный раб, Густав Фьорсен». В устах другого мужчины такие слова вызвали бы у Джип лишь презрительную усмешку, однако письмо Фьорсена вновь пробудило трепет в душе, приятное и пугающее ощущение, что тебя вот-вот настигнут.
Она написала ответ и отправила на адрес Фьорсена в Лондоне, сообщив, что приехала на несколько дней на Керзон-стрит к тете, которая будет рада принять его в своем доме после обеда, с пяти до шести часов, и подписалась: «Гита Уинтон». Джип долго корпела над этим коротеньким письмом, и его лаконичная официальность наполняла ее чувством удовлетворенности. Хозяйка ли она самой себе и своему ухажеру? Способна ли вести дело так, как пожелает? Да! И письмо служило тому ярким подтверждением.
Эмоции Джип редко отражались на ее лице, что подчас озадачивало даже Уинтона. Подготовка к приему Фьорсена в доме тетушки Розамунды выглядела в исполнении Джип образцом непринужденности. Явившись в указанное время, музыкант тоже в оба следил за соблюдением приличий и посматривал на Джип, только когда мог сделать это незаметно для других, но, уходя, прошептал:
– Не так! Не так! Я должен видеть вас наедине! Должен! – Джип улыбнулась и покачала головой, однако душа ее заиграла, как шампанское.
В тот вечер она спокойно сообщила тетке Розамунде:
– Мистер Фьорсен не нравится отцу. Отец, разумеется, не способен оценить его игру.
Это осторожное замечание побудило тетю, заядлую, насколько позволяло ее аристократическое происхождение, меломанку, умолчать в письме брату о появлении гостя в ее доме. Следующие две недели Фьорсен приходил чуть ли не каждый день и всегда приносил с собой скрипку. Джип аккомпанировала ему и, хотя ее подчас бросало в жар от жадных взглядов шведа, перестань он это делать, она бы заскучала.
Когда Уинтон приехал на Бери-стрит в очередной раз, Джип пребывала в растерянности. Что делать? Признаться, что Фьорсен бывает здесь и она утаила этот факт в переписке с отцом? Или не признаваться, и пусть он сам все узнает от тетушки? Что хуже? В замешательстве она не сделала ни того ни другого и заявила отцу, что истосковалась по охоте. Расценив ее заявление как наиболее убедительную примету выздоровления, Уинтон немедленно забрал дочь в Милденхем. Джип, однако, не отпускало странное чувство – смесь легкости и раскаяния, радости от временной передышки и сознания, что вскоре ее потянет обратно. Место сбора находилось далеко от дома, и Джип настояла ехать туда верхом. Старый Петтанс, жокей на пенсии, великодушно пристроенный Уинтоном в Милденхеме помощником конюха, вел в поводу сменную лошадь. Дул сырой ветер, хорошо переносивший запахи. Неподалеку от чащи нашлось удобное местечко – Уинтон знал приемы, стоившие лишней пары загонщиков. Они прокрались туда, к счастью, не обнаружив себя, потому что их вел однорукий наездник в линялой розовой куртке на короткохвостой вороной кобыле, большой мастер выслеживать зверя. Из чащи выскочил на коне один из выжлятников, щуплый чернявый парень с глазами-углями и обветренными, ввалившимися щеками, проскакал мимо, помахал рукой и снова скрылся в лесу. С пронзительным криком вылетела сойка, спикировала вниз и повернула назад. Через поле под паром припустил заяц. Быстроногий русак почти растворился на буром фоне. Высоко в небе пролетела к другому перелеску стая голубей. Из чащи послышались резкие голоса выжлятников, временами скулили крутившиеся в папоротниках и кустах гончие.
Джип дышала полной грудью, до хруста в пальцах сжимая повод. Воздух под небесами с белыми и светло-серыми, быстро бегущими облаками и голубыми просветами благоухал свежестью и негой, внизу ветер был тише, чем наверху, его силы едва хватало, чтобы сдувать с берез и дубов листья, два дня назад побитые заморозками. Если бы только лисица выскочила прямо на них, и Джип могла бы первой ее заполевать! Как здорово быть одной, с собаками! Одна из гончих, еще молодая, деловитая и невозмутимая, выбежала, подняла рыжеватую с белым голову и с легким упреком темно-карих глаз оглянулась на команду Уинтона: «Искать, Трикс!» Какая лапочка! В чаще заиграл охотничий рог, и гончая исчезла в кустах шиповника.
Новый гнедой конь Джип навострил уши. Из-за деревьев на низкорослой рыжей кобыле выехал парень в сером сюртуке с короткими фалдами, темно-желтых плисовых брюках и сапогах до колена. Ох! Неужели все сейчас сюда набегут? Джип нетерпеливо обернулась на незваного гостя, тот, приподняв шляпу, улыбнулся. Немного дерзкая улыбка была так заразительна, что Джип не выдержала и улыбнулась в ответ. И тут же нахмурилась. Незнакомец нарушил ее уединение. Кто он такой? Парень имел непростительно безмятежный и довольный вид. Джип не помнила, кто он, однако в его облике было что-то знакомое. Охотник снял шляпу – широкое лицо приятной формы, гладко выбритое, черные курчавые волосы, невероятно прозрачные глаза, смелый, спокойный, жизнерадостный взгляд. Где она видела похожего на него человека?
Тихий оклик Уинтона заставил ее повернуть голову. За дальними кустами украдкой пробиралась лисица! Затаив дыхание, Джип неотрывно следила за лицом отца. Твердый, как сталь, внимательный взгляд. Ни звука, ни движения, словно всадник и конь превратились в бронзовую статую. Когда же он крикнет «ату»? Губы всадника шевельнулись, отдавая команду. Джип бросила благодарную улыбку парню за то, что он тактично и благоразумно уступил ей место рядом с отцом, молодой охотник еще раз улыбнулся в ответ. Вереницей, одна за другой, выбежали первые гончие – музыка сфер, блаженство! Почему отец все еще медлит? Зверь в любую минуту пробежит прямо мимо них!
Мимо пронеслась вороная кобыла, и конь Джип инстинктивно рванул за ней следом. Парень на рыжей лошади скакал по левую руку от Джип. Только доезжачий, один выжлятник, да они втроем! Красота! Гнедой жеребец слишком порывисто взял первую изгородь, и Уинтон крикнул через плечо: «Спокойнее, Джип! Держи его!» – но держать не получалось, да и зачем? А вот и трава, три участка травы! Чудо, а не лисица – бежит как по струнке! Всякий раз, когда конь отрывал передние ноги для прыжка, Джип ликовала: «Прекрасно! Я умею скакать верхом! Ах какое блаженство!» Она надеялась, что отец и молодой охотник смотрят на нее. На свете нет ничего слаще, да еще с таким вожаком, как отец; гончих никто больше не держит, гон отличный, другие всадники отстали. Это лучше танцев, лучше… да-да, лучше музыки. Если бы только всю жизнь жить галопом, взлетать над препятствиями, если бы это никогда не кончалось! Новый жеребец – молодчина, хотя и правда тянет поводья.
Джип перескочила через очередную преграду одновременно с юношей, чья рыжая кобыла шла неожиданно резвым аллюром. Шляпа парня натянута по самые уши, на лице – решимость, но на губах все еще играет тень прежней улыбки. Джип подумала: «У него хорошая посадка, очень крепкая, но он, кажется, чуть-чуть «подмахивает». Никто не ездит верхом лучше отца: вылитое спокойствие». И действительно: посадка Уинтона в седле была само совершенство, каждое движение отнимало минимум усилий. Лавина гончих развернулась дугой. Теперь она в самой гуще! Какой бешеный темп! Ни одна лиса долго не выдержит!
Джип вдруг увидела лисицу на дальнем краю поля: та отчаянно улепетывала, поджав хвост. В голове мелькнула мысль: «Ой, только не позволяй себя догнать. Беги, лисичка, беги! Удирай!» Бедный рыжий зверек! Его преследует толпа великанов – коней, мужчин, женщин, собак, – все гонятся за бедным лисенком. Но тут ей попалась еще одна изгородь, потом еще одна, ощущение стыда и жалости рассеялось, сменившись восторгом полета через препятствия. Через минуту лиса в нескольких сотнях ярдов от передовой собаки юркнула в нору. Джип была рада. Она не раз видела затравленных насмерть лис – ужасное зрелище! Но галоп получился на славу. Запыхавшись и восторженно улыбаясь, она прикинула, не вытереть ли лицо, пока с ней не поравнялись другие всадники, пока этот юноша не видит.
Он разговаривал с ее отцом. Джип достала носовой платок с ароматом цикламена и тщательно вытерла пот. Когда она подъехала к ним, молодой человек приподнял шляпу и, глядя ей прямо в глаза, произнес:
– Вы прекрасно гнали!
В несколько высоком голосе юноши прозвучали нотки ленивой беззаботности. Джип иронично поклонилась и пробормотала:
– Вы хотите сказать – моя новая лошадь?
Его лицо опять расплылось в неотразимой улыбке, но Джип чувствовала, что он восхищен ей, и продолжала думать: «Да где же я раньше видела кого-то похожего?»
Они сделали еще два гона, но ничто не могло сравниться с первым галопом. Юноша больше не попадался ей на глаза. Как выяснилось, это сын леди Саммерхей из Уидрингтона, поместья в десяти милях от Милденхема.
На протяжении возвращения трусцой с Уинтоном при свете тающего дня Джип чувствовала себе абсолютно счастливой, напоенной свежим воздухом и энтузиазмом. На деревья, поля, стога сена, ворота и пруды у дорог опускались сумерки. В окнах коттеджей зажигали свет. В воздухе витал сладкий запах каминного дыма. Она впервые за весь день – почти с тоской – вспомнила о Фьорсене. Было бы здорово, если бы он оказался с ней в маленькой уютной гостиной, сыграл бы для нее, пока она полулежит, откинувшись на спинку дивана, сонно размышляя под аромат горящих кедровых поленьев, исполнил бы менуэт Моцарта или небольшую, берущую за душу пьесу Пуаза, как в тот первый раз, когда она его слушала, да хоть любую из десятка других мелодий в его сольном исполнении. Чудесное завершение чудесного дня. Для совершенства не хватало только яркости и теплоты музыки и мужского обожания!
Толкнув пяткой бок лошади, Джип вздохнула. Легко позволять себе фантазии о музыке и Фьорсене, когда его самого нет поблизости. Она даже не стала бы противиться, если бы он вновь повел себя, как тогда, под мокрыми березками в Висбадене. Как приятно, когда тебя боготворят. Старая кобыла, шесть лет ходившая под седлом, начала пофыркивать, что служило верным признаком близости дома. А вот и последний поворот: показались очертания буковой аллеи, ведущей к старому особняку, удобному, просторному, немного темноватому, с широкими плоскими лестницами. Ах как она устала! Вдобавок начал моросить дождь. Завтра все тело будет приятно ломить. В освещенном дверном проеме Джип увидела Марки и, нащупывая в кармане кусочек сахара для лошади, услышала:
– Мистер Фьорсен, сэр, джентльмен из Висбадена, желает вас видеть, сэр.
У нее екнуло сердце. Что это значит? Почему он приехал? Как он осмелился? Почему ее выдал? Ах, ну конечно! Он же не знал, что она ничего не рассказала отцу. Вот и получи! Джип, не задерживаясь, взбежала по ступеням наверх. Ее заставил очнуться от мыслей голос Бетти:
– Ваша ванна готова, мисс Джип.
– Принесите мне чаю наверх! – отозвалась Джип и скрылась в ванной комнате. Здесь она была в безопасности; к тому же, расслабившись в горячей воде, легче разобраться в ситуации.
Визит Фьорсена мог иметь лишь одну причину: скрипач приехал просить ее руки. Джип вдруг успокоилась. Так даже лучше, не надо будет больше ничего скрывать от отца. Отец встанет между ней и Фьорсеном, если… если она решит ему отказать. Мысль о браке взбудоражила ее. Неужели она, сама того не подозревая, зашла так далеко? Да, «далеко» не то слово. Как все невпопад! Фьорсен не примет отказа, даже если она лично о нем объявит. Но разве она собирается ему отказать?
Джип любила нежиться в горячей воде, но никогда так долго в ванне не сидела. Пока ты вот так лежишь, жизнь проста, но стоит выйти за дверь, и она становится очень сложной. Бетти постучала в дверь, заставив Джип наконец вылезти из воды и впустить ее с чаем и приглашением спуститься вниз, когда будет готова.
Глава 6
Уинтон был потрясен. Быстро проводив взглядом удаляющуюся фигуру дочери, он отрывисто спросил Марки:
– Где вы оставили этого джентльмена?
Его истинное отношение к шведу проскользнуло лишь в виде добавления словечка «этого». Пока он пересекал просторный холл, в его голове роилось множество сумбурных мыслей. Войдя в кабинет, Уинтон с подчеркнутой вежливостью наклонил голову, предлагая Фьорсену заговорить первым. Жалкий скрипач в пальто с меховой подкладкой теребил в руках мягкую шляпу, но выглядел по-своему импозантно. Вот только почему он не смотрит в глаза, а когда смотрит, кажется, что готов тебя съесть?
– Вы, конечно, знаете, что я вернулся в Лондон, майор Уинтон?
Выходит, Джип встречалась с этим малым без его ведома! Мысль вызвала в душе Уинтона холодную горечь. Однако дочь не следовало выдавать, поэтому он ограничился кивком. Уинтон чувствовал, что гостя страшит ледяная вежливость хозяина дома, и не собирался идти ему навстречу. Майору, разумеется, было невдомек, что его надменность не помешает Фьорсену смеяться над ним за спиной и делать вид, будто он для него пустое место. По сути, между двумя мужчинами, чья жизнь протекала в столь разных плоскостях, не могло быть никакого реального соревнования: один ни капли не уважал правила поведения и представления другого.
Фьорсен, начав было бегать по кабинету, остановился и взволнованно произнес:
– Майор Уинтон, ваша дочь – одно из самых прелестных созданий во всем мире. Я отчаянно ее люблю. У меня есть будущее, хотя вы, наверно, так не считаете. Я смогу добиться любых высот в искусстве, если только она будет моей женой. У меня есть кое-какие деньги – немного, однако моя скрипка обеспечит ей любое будущее по ее желанию.
Лицо Уинтона не выражало ничего, кроме холодного презрения. Его оскорбило, что этот тип решил, будто счастье дочери он измеряет деньгами.
Фьорсен продолжил:
– Я вам не нравлюсь, мне это ясно. Я заметил это с самого начала. Вы английский джентльмен… – произнес он с оттенком иронии. – Я для вас пустое место, но в моем мире кое-что значу. Я не проходимец. Позвольте мне просить вас выдать за меня вашу дочь.
Фьорсен вскинул руки, все еще сжимавшие шляпу, и непроизвольно сложил, как в молитве.
Уинтон на секунду ощутил душевную боль. Слабость мгновенно прошла, и он ледяным тоном произнес:
– Я обязан поблагодарить вас, сэр, что вы первым обратились ко мне. Вы у меня в гостях, и я не хочу быть невежливым, но я буду рад, если вы соизволите покинуть мой дом и расцените мою просьбу как знак того, что я буду препятствовать исполнению вашего желания, насколько это будет в моих силах.
Почти детская разочарованность и тревога на лице Фьорсена быстро сменились беспощадной, скрытой издевкой, переходящей в смятение.
– Майор Уинтон, ведь вы тоже любили. Вы наверняка любили ее мать. Я страдаю!
Отвернувшись было к камину, Уинтон вновь посмотрел на него:
– Я не управляю пристрастиями дочери, сэр. Она поступит так, как сочтет нужным. Я лишь говорю, что, если она выйдет за вас, то это случится вопреки моим надеждам и суждениям. Могу себе представить, что вы не очень-то рассчитывали на мое одобрение. Я не слепой и видел, как вы обхаживали ее в Висбадене, мистер Фьорсен.
Скрипач ответил с кривой вымученной улыбкой:
– Голь на выдумки хитра. Я могу ее видеть? Хотя бы позвольте мне увидеть ее.
Какой смысл отказывать? Джип уже встречалась с этим типом, не спрашивая разрешения у отца, скрывая от него – от него! – все свои чувства, и Уинтон сказал:
– Я пошлю за ней. А тем временем не желаете ли чего-нибудь выпить?
Фьорсен покачал головой, и после этого состояние острой неловкости длилось еще добрых полчаса. Уинтон, сидя у огня в заляпанной грязью одежде, переносил его более стойко, чем гость. Этот дикарь, попытавшись подражать невозмутимости хозяина дома, вскоре махнул рукой на свои попытки, стал нервно суетиться, расхаживать по комнате, подошел к окну, отдернул занавески, посмотрел в темноту, вернулся с явным намерением снова пристать к Уинтону с разговорами, но, озадаченный неподвижностью фигуры у огня, уселся в кресло и отвернулся к стене. Уинтон не был по натуре жестоким, и тем не менее его забавляли корчи этого субчика, угрожавшего благополучию Джип. Угрожавшего? Не может быть, чтобы она приняла его предложение! Но если так, почему она не призналась, что встречается с ним? Уинтон страдал не меньше Фьорсена.
Наконец она пришла. Уинтон ожидал, что дочь явится бледной, будет нервничать, но Джип еще ребенком признавалась в прегрешениях, только если ее заранее прощали. Улыбающееся лицо девушки несло на себе оттенок предостережения. Она подошла к Фьорсену и, протянув руку, спокойно сказала:
– Как мило, что вы приехали!
Уинтон с горечью почувствовал, что лишним здесь был он и только он. Ну что же, тогда придется все высказать напрямик, хватит ходить вокруг да около.
– Мистер Фьорсен оказал нам честь, предложив жениться на тебе. Я сказал ему, что такие решение ты принимаешь сама. Если согласишься, то это, как ты понимаешь, произойдет вопреки моему желанию.
Он еще не закончил говорить, а щеки Джип уже пылали. Она не смотрела ни на отца, ни на Фьорсена. Уинтон заметил, как вздымаются и опускаются кружева у нее на груди. Джип улыбнулась и едва заметно пожала плечами. Уязвленный до глубины души, Уинтон твердым шагом направился к двери. Было совершенно ясно, что дочь не нуждается в его нравоучениях, коль этот субъект для нее важнее любви к отцу! Но он тут же подавил в себе обиду, понимая, что не может себе позволить обижаться на дочь: он не мыслил без нее жизни. Даже если Джип выйдет за самого отъявленного негодяя на свете, он не бросит ее и по-прежнему будет желать ее общества и ее любви. Джип слишком много значила для него и в настоящем, и в прошлом. С занозой в сердце он ушел к себе.
Когда Уинтон снова спустился вниз, Фьорсен уже уехал. Майор ни за что на свете не стал бы выспрашивать, о чем говорил скрипач и что ему отвечала дочь. Через пропасть, разделявшую гордецов, нелегко перекинуть мосты. Когда Джип пришла пожелать отцу спокойной ночи, лица обоих были как у восковых фигур.
В последующие дни Джип ни словом, ни жестом не показывала, что намерена пойти против его воли. О Фьорсене не упоминали, словно его и не было, но Уинтон понимал, что Джип обижена и на него, а этого он не мог перенести, поэтому однажды вечером после ужина спокойно спросил:
– Скажи честно, Джип, этот парень тебе небезразличен?
Она так же тихо ответила:
– По-своему – да.
– И этого достаточно?
– Я не знаю, отец.
Губы Уинтона дрогнули, а сердце смягчилось, как бывало всегда, когда он видел дочь взволнованной. Он накрыл ладонью ее руку и сказал:
– Я никогда не буду стоять на пути твоего счастья, Джип, но только если счастье настоящее. Так ли это? Я не уверен. Знаешь ли ты, что говорят об этом человеке?
– Да.
Уинтон не рассчитывал получить утвердительный ответ, и у него внутри все оборвалось.
– Довольно скверные вещи, я бы сказал. И нашего ли он круга?
Джип подняла глаза:
– Ты думаешь, я принадлежу к нашему кругу, отец?
Уинтон отвернулся. Она подошла и взяла его под руку.
– Я не хотела тебя обидеть. Но ведь это правда, не так ли? Мне не место в высшем обществе. Меня бы не приняли, если бы знали то, о чем ты мне рассказал. После того дня я всегда чувствовала себя чужой среди них. Он мне ближе. Музыка для меня важнее всего на свете!
Уинтон порывисто сжал руку дочери. Его охватило ощущение грядущего поражения и тяжелой утраты.
– Если счастье изменит тебе, Джип, я буду страшно расстроен.
– Почему бы мне не быть счастливой, отец?
– Ради твоего счастья я примирюсь с кем угодно, но, должен признать, не верю, что ты будешь с ним счастлива, поэтому заклинаю тебя Богом: сначала убедись сама. Я пристрелю любого, кто посмеет плохо к тебе относиться.
Джип улыбнулась и поцеловала отца. Оба надолго замолчали.
Перед сном Уинтон сказал:
– Завтра мы едем в Лондон.
То ли предчувствуя неизбежное, то ли отчаянно надеясь, что еще одна встреча со скрипачом даст ей последний шанс преодолеть наваждение, но Уинтон решил больше не чинить дочери препятствий.
Странные ухаживания возобновились. К Рождеству Джип дала согласие, все еще находясь под впечатлением, что она хозяйка, а не рабыня, кошка, а не пташка. Раз или два, когда страсть заставляла Фьорсена терять голову и он смущал ее слишком откровенными ласками, она почти в ужасе отшатывалась, представляя себе, что ее ждет, но в целом переживала душевный подъем, пьянела от музыки и поклонения, хотя временами чувствовала угрызения совести за доставленное отцу огорчение. Она редко наведывалась в Милденхем, Уинтон же в своем унынии сидел там почти безвылазно, чаще прежнего скакал сломя голову, а Джип поручил заботам сестры. Тетка Розамунда, хотя и очарованная музыкальными достоинствами Фьорсена, разделяла мнение брата и считала скрипача невозможным человеком. Однако что бы она ни говорила, слова не производили на Джип никакого впечатления. В мягкой чувствительной девушке вдруг обнаружилась жилка упрямства. Противодействие, казалось, только укрепляло ее решимость. Природный оптимизм тети в конце концов убедил ее, что Джип сумеет превратить шалопая в приличного человека. Если уж на то пошло, Фьорсен имел какую-никакую известность.
Свадьбу наметили на февраль. В Сент-Джонс Вуд был взят в аренду дом с садом. Последний месяц пролетел, как пролетают все такие месяцы: в приятных дурманящих хлопотах, за покупкой мебели и нарядов. Если бы не это, кто знает, сколько помолвок расстроилось бы, так и не дотянув до брака!
И вот сегодня они поженились. Уинтон до последнего не верил, что дело закончится свадьбой. Он пожал руку мужу дочери, стараясь ничем не выдавать боль и разочарование, и в то же время прекрасно понимая, что никого этим не обманывает. Слава богу, свадьба обошлась без церковной службы, торта, приглашенных гостей, поздравлений и всяческих тру-ля-ля, иначе он бы не выдержал. Не было даже Розамунды: сестра заболела гриппом.
Провалившись в глубокое старое кресло, Уинтон смотрел на огонь.
Сейчас, должно быть, подъезжают к Торки. Музыка! Кто бы мог подумать, что звуки, извлекаемые с помощью нескольких струн и деревяшки, похитят у него дочь? Да, не иначе они теперь в Торки, в гостинице. Впервые за многие годы с языка Уинтона сорвалась молитва:
– Господи, пусть она будет счастлива! Пусть она будет счастлива!
Услышав, как Марки отворяет дверь, он закрыл глаза и притворился спящим.
Часть II
Глава 1
Когда девушка впервые остается наедине с мужем, о чем думает? О притаившихся, пока не проявивших себя проблемах и переживаниях? Нет, они слишком неохватны, и Джип была намерена и впредь отгонять от себя такие мысли. Она думала о своем светло-коричневом бархатном платье в рубчик. Не многие девушки ее сословия выходят замуж безо всяких, по выражению Уинтона, тру-ля-ля. Не многие девушки сидят в уголке купе первого класса, не вкусив восторга от нескольких часов пребывания во вселенском центре внимания, на волнах которого можно еще некоторое время плыть, уже находясь в дороге; редкая из них не запасется впрок воспоминаниями о поведении друзей, их речах, нарядах, о которых можно поболтать с мужем, если потребуется отогнать грустные мысли. Джип помнила лишь свое новое, надетое в первый раз платье, рыдания Бетти да глухие как стена лица регистратора и клерка. Она украдкой взглянула на мужа, облаченного в синий костюм из тонкой шерсти. Муж! Она теперь миссис Фьорсен! Нет! Пусть другие так ее называют, но для себя она остается Гитой Уинтон. Гита Фьорсен – как это нелепо звучит. Отказываясь признаться самой себе, что боится встретиться с Фьорсеном взглядом, но не в силах подавить этот страх, Джип неотрывно смотрела в окно. Тусклый, блеклый, гнетущий день. Ни тепла, ни солнца, ни музыки. Свинцово-серая Темза, сиротливые ивы на берегу.
Она вдруг ощутила прикосновение мужской руки. Таким она видела его только один или два раза, когда Фьорсен играл на концерте и его лицо светилось одухотворенностью. Джип сразу почувствовала себя увереннее. Если так будет всегда, то… Рука мужа легла ей на колено. Лицо Фьорсена неуловимо сменило выражение, как если бы одухотворенность задрожала и начала таять, губы пополнели. Он поднялся и сел рядом. Джип немедленно заговорила о новом доме, о том, куда что поставить, о подарках и подобных вещах. Фьорсен поддерживал разговор, но время от времени выглядывал в коридор и что-то бормотал. Ей было приятно сознавать, что мысли о ней не отпускают его ни на минуту, но она была до дрожи рада, что рядом с ними есть этот коридор. К счастью, жизнь состоит из мгновений. Джип всегда умела жить настоящим. До этого момента в те часы, которые они проводили вместе, Фьорсен походил на голодного человека, торопливо хватавшего куски со стола, но теперь, окончательно привязав ее к себе, превратился в иное существо – озорного школьника после уроков – и все время ее смешил.
Вскоре Фьорсен достал скрипку для репетиций, наложил сурдину и принялся играть, с улыбкой через плечо оглядываясь на Джип. Она оттаяла, на сердце стало теплее, и, когда Фьорсен поворачивал лицо к ней, больше не боялась на него смотреть. Он выглядел куда лучше без жиденьких бакенбардов. Однажды она прикоснулась к одному из них и сказала: «Ах, если бы эти крылышки умели летать!» На следующее утро крылышки улетели и больше не возвращались. К лицу мужа нелегко было привыкнуть, и она пока к нему не привыкла, но еще непривычнее были его прикосновения. Когда стемнело и Фьорсен хотел опустить жалюзи, Джип тронула его за рукав и попросила:
– Нет-нет, они сразу поймут, что мы молодожены.
– Ну да, а разве это не так?
Тем не менее он подчинился, однако еще много часов ни на минуту не сводил с нее глаз.
Небо в Торки было чистое и звездное. Ветер приносил в кабину такси запах моря. На далеком мысу мигали огоньки. В маленькой темно-синей гавани качались на воде, словно присмиревшие птицы, яхты. Фьорсен обнял ее, Джип почувствовала его руку на сердце. Это хорошо, что он молчит. Когда такси остановилось и они вошли в вестибюль отеля, она прошептала:
– Пусть они ни о чем не догадываются.
И вновь благословенные мгновения! Осмотр трех комнат номера, распределение багажа между гардеробной и спальней, распаковка чемоданов, выбор платья для ужина, короткая остановка, чтобы полюбоваться на темные камни и море с восходящей луной, размышления, не запереть ли дверь, когда она будет переодеваться, досада на себя за такую глупую мысль, поспешное одевание, смущение оттого, что муж вдруг оказался прямо у нее за ее спиной, помогая застегивать крючки. Какие у него умелые пальцы! Джип впервые подумала о его прошлом с уязвленной гордостью и подозрением. Закончив, Фьорсен развернул ее, отодвинулся, держа за плечи вытянутыми руками, осмотрел с головы до пят и выдохнул:
– Моя!
Сердце Джип застучало часто-часто. Но Фьорсен неожиданно рассмеялся, обнял ее за талию и сделал два круга вальса по комнате. Он тактично позволил ей спуститься по лестнице первой, сказав:
– Они ничего не заметят, Джип. О нет! Мы давно женаты и надоели друг другу. До чертиков надоели!
За ужином он развлекался – и она тоже, хотя и в меру – игрой в равнодушных супругов. Время от времени Фьорсен оборачивался и пристально смотрел на какого-нибудь безобидного посетителя, обратившего на них внимание, с таким свирепым, неподдельным презрением, что Джип охватывало беспокойство. Густав же только смеялся. Когда она выпила немного вина, а он намного больше, чем немного, игра в безразличие подошла к концу. Фьорсен стал не в меру болтлив, выдумывал смешные прозвища официантам, передразнивал других посетителей. Его беспечная веселость вызывала у Джип улыбку и одновременно легкий страх, что их могут заметить или услышать. Они сидели за маленьким столиком, почти соприкасаясь головами, потом перешли в салон. Принесли кофе. Фьорсен настоял, чтобы она покурила с ним. Джип никогда не курила на людях, но отказ выглядел неуклюже и не по-взрослому, настало время вести себя так, как принято у других. Еще одно мгновение. Побольше бы таких мгновений, чтобы они никогда не кончались. Они немного постояли рядом у окна. Сине-черное море под яркими звездами, луна просвечивает сквозь сучья могучей сосны на маленьком мысу. Хотя рост Джип вместе с каблуками составлял пять с половиной футов, она едва доставала макушкой до губ Фьорсена. Он со вздохом произнес:
– Какая прекрасная ночь, моя милая Джип!
Ее вдруг пронзила мысль, что она совсем его не знает, а ведь он уже стал ее мужем! Какое странное слово «муж» – колючее. Она почувствовала себя ребенком, входящим в темную комнату, и, взяв Фьорсена за руку, спросила:
– Смотри! Видишь яхту вон там? Что она там делает ночью?
Еще одно мгновение! Еще одно!
Немного помолчав, он ответил:
– Пошли наверх! Я сыграю для тебя.
В гостиной стояло пианино, но оно оказалось негодным, и его пообещали завтра заменить. Завтра! В комнате было жарко натоплено, и Фьорсен снял сюртук. На рукаве рубашки обнаружилась прореха. Джип не без торжества подумала: «Я сумею ее залатать». Это было нечто конкретное, непосредственное – еще одно мгновение. На столе стоял букет лилий, источавший густой сладкий аромат. Фьорсен поднес букет к ее носу, и, пока она выдыхала запах цветов, неожиданно поцеловал ее в шею. Джип вздрогнула и закрыла глаза. Он немедленно отнял у нее цветы, а когда она снова открыла глаза, уже стоял с приложенной к плечу скрипкой. Музыка продолжалась почти целый час, Джип в своем платье кремового цвета сидела, откинувшись в кресле, и слушала. Она устала, но спать не хотела. Было бы здорово, если бы на нее сейчас напала дрема. Грустная ямочка у края рта, глаза бездонные и темные – как у хмурого ребенка. Фьорсен не отрывал взгляда от ее лица и продолжал играть без остановки, пока его собственное сосредоточенное лицо тоже не стало хмурым. Наконец, отложив скрипку, он сказал:
– Ложись, Джип. Ты устала.
Она послушно поднялась и прошла в спальню. С упавшим сердцем, приблизившись к огню, Джип с отчаянной торопливостью разделась и легла в постель. Ей показалось, что она пролежала дрожа в тонкой батистовой рубашке под холодными простынями, наполовину прикрыв глаза и глядя на танцующие языки пламени, целую вечность. Она ни о чем не думала, не могла думать: просто лежала, как неживая. Скрипнула дверь. Джип закрыла глаза. Куда делось ее сердце? Оно как будто перестало биться. Она лежала, зажмурившись, сколько могла вытерпеть. При свете камина Джип увидела мужа сидящим на корточках у изножья кровати. Ей было видно только его лицо. На кого оно похоже? Где она его видела? Ах, да это же дикарь, сидящий у ног Ифигении, такой смиренный, такой голодный, с таким потерянным взглядом. Она подавила судорожный вздох и протянула руку.
Глава 2
Джип была слишком гордой натурой, чтобы дарить что-либо только наполовину, поэтому в первые дни замужества отдала Фьорсену всю себя без остатка, – всю, кроме сердца. Ей искренне хотелось отдать и сердце тоже, но сердца сами решают, кому себя отдавать. Быть может, если дикарь, осатаневший от обладания красотой, не вытеснил бы во Фьорсене одухотворенность, ее сердце досталось бы ему вместе с губами и остальными частями тела. Он чувствовал, что сердце Джип ускользает от него, отчего сумасбродная натура и мужское сластолюбие толкали его на ложный путь попыток покорить ее не силой духа, а соблазном чувственности.
И все же Джип не ощущала себя несчастной, нет, ее никак нельзя было назвать несчастной за исключением моментов некоторой растерянности, как если бы она пыталась удержать нечто ускользающее сквозь пальцы. Джип была рада дарить мужу удовольствие. Он не был ей противен. Такова мужская природа, считала она. Вот только никогда не чувствовала себя близкой к нему. Когда он играл с ярким воодушевлением на лице, она думала: «Вот оно! Теперь я точно стану ему близка!» Но одухотворенность исчезала, она не знала, как ее удержать, и вместе с ней уходило чувство притяжения.
Их небольшие апартаменты находились в самом конце отеля, чтобы Фьорсен мог играть столько, сколько захочет. По утрам, пока он упражнялся, Джип выходила в сад, каменными уступами спускавшийся к берегу моря. Закутавшись в меховое манто, она сидела там с книгой. Вскоре Джип изучила все окрестные вечнозеленые растения, каждый новорожденный цветок: вот обриета, вот калина, вот маленький белый цветочек, названия которого она не знала, а вот барвинок. Воздух немного прогрелся, уже пели занятые брачными приготовлениями птицы, весна по крайней мере дважды проникала в ее сердце чудесным ощущением, когда все естество чует в запахе земли и ветра зарождение новой жизни; такое чувство бывает перед самым началом весны, и твоя душа одновременно и поет, и ноет. Часто налетали чайки и жадно вытягивали шеи, их крики были похожи на мяуканье котят.
В саду Джип охватывало чувство единения со всем, что ее окружало, никогда не посещавшее ее наедине с мужем. Она не подозревала, насколько сильно повзрослела за эти несколько дней, насколько глубоко в лирическую мелодию ее жизни вторглось бассо остинато. Жизнь с Фьорсеном открыла ей глаза не только на «мужскую природу»: из-за своей неисправимой чувствительности она насквозь пропиталась настроениями мужа. Он вечно восставал против всего на свете, потому что этого от него ожидали другие, но, подобно большинству артистов-исполнителей, Фьорсен не умел логически мыслить, а попросту брыкался, реагируя на уколы. Он мог потерять голову от восторга, увидев закат, ощутив аромат, услышав мелодию, испытав не изведанную прежде ласку, броситься в сострадании помогать нищему или слепцу, отшатнуться в отвращении от человека с толстыми ногами или длинным носом либо в презрении – от женщины с плоской грудью или ханжескими манерами. Он мог размашисто шагать или едва волочить ноги, мог петь, смеяться и смешить ее до колик, а через полчаса сидеть, уставившись в темную бездну, придавленный приступом жуткой хандры. Джип безотчетно окуналась вместе с ним в глубокие воды эмоций, но неизменно делала это изящно, прихотливо, никогда не забывая об уважении к чувствам других людей.
Несмотря на одержимость любовными утехами, Фьорсен умудрялся не вызывать у нее раздражения, потому что никогда не упускал случая показать восхищение ее красотой. Стойкое ощущение, что она чужая в кругу приличных, респектабельных людей, которое Джип однажды пыталась объяснить отцу, заставляло ее, сжав зубы, сопротивляться потрясению от новых открытий. Однако в других отношениях потрясений не удавалось избежать. Она не могла привыкнуть, что мужу совершенно безразличны чувства других людей, к беспощадному презрению, с которым он смотрел на тех, кто действовал ему на нервы, к его репликам вполголоса в их адрес – точно так же он отзывался о ее отце, когда проходил с графом Росеком мимо статуи Шиллера. Эти замечания заставляли Джип ежиться, однако подчас они бывали невероятно забавны, и она не могла удержаться от смеха, о чем потом страшно сожалела. Она замечала, что мужу не нравится ее реакция. Ей же казалось, что она поощряет его насмешки над другими. Однако Джип ничего не могла с собой поделать. Как-то раз она просто встала и ушла. Фьорсен побежал за ней, опустился на колени у ее ног и, как большой кот, стал тереться головой о ее ладони.
– Прости меня, Джип, но они такие дикари. Кто тут удержится? Скажи, кто, кроме моей Джип?
Пришлось его простить. Но однажды вечером, когда он не на шутку разошелся во время ужина, Джип сказала:
– Нет, я больше не могу. Дикарь здесь только ты один. Это ты ведешь себя с ними как последний дикарь!
Фьорсен с потемневшим от гнева лицом вскочил и выбежал из зала. Это был первый случай, когда он дал волю гневу в ее присутствии. Джип в смятении чувств сидела у огня. Ее почему-то мало тревожило, что она нанесла ему обиду. По идее это она должна была чувствовать себя виноватой!
Но когда Фьорсен не появился к десяти вечера, Джип заволновалась всерьез. Какую ужасную вещь она сказала! И все-таки в душе ей не хотелось брать свои слова обратно. Он действительно вел себя как дикарь. Джип хотелось успокоить нервы игрой на пианино, но было уже поздно и она решила не тревожить покой других постояльцев. Подойдя к окну, она стала смотреть на море, чувствуя себя побежденной и растерянной. Джип впервые дала волю своим чувствам в отношении того, что Уинтон называл хамством. Будь Фьорсен англичанином, она никогда бы не увлеклась мужчиной, попирающим чужие чувства. Но если так, что тогда ее привлекло в нем? Необычность, порывистость, гипнотическое обаяние, влечение к ней и, наконец, музыка! Ничто не могло заслонить эти качества. Музыка Фьорсена струилась, бушевала, тихо вздыхала – как море за окном, темное, с каймой прибоя, бьющееся о скалы. Или море при ярком свете дня – густого цвета, с белыми чайками над водой. Или другое море – в зигзагах изменчивых течений, нежное, улыбчивое, тихое, до времени сдерживающее свое непредсказуемое буйство, выжидающее, когда можно будет снова вскипеть и встать на дыбы. Вот чего она хотела от мужа: не его объятий, даже не его обожания, остроумия или странной, грациозной, напоминающей кошачьи повадки вкрадчивости, нет, она жаждала только этой одной части его души, ускользающей сквозь пальцы и столь волнующей ее собственную душу. Что, если, когда он придет, подбежать к нему, обнять за шею, прижаться, раствориться в нем? Почему бы и нет? Это ее супружеский долг. Почему бы не находить удовольствие в его исполнении? Ее бросило в дрожь. Природное чутье, слишком глубокое, чтобы поддаваться анализу, спрятанное в самом дальнем уголке сердца, заставило ее отшатнуться, как если бы она оробела, реально испугалась отпустить вожжи и отдаться любви, чутье, похожее на неуловимый инстинкт самосохранения перед лицом смертельной опасности, предохраняющий от выхода за грань. Да, это было то самое чувство, когда дух невольно захватывает от любопытства при виде пропасти и от страха подойти ближе и поддаться непреодолимой силе, влекущей вниз.
Джип перешла в спальню и начала медленно раздеваться. Ложиться спать, не ведая, где муж, чем занят и что думает, было непривычно, поэтому она долго сидела, расчесывая волосы щетками в серебряной оправе и глядя в зеркало на свое бледное лицо с большими, полными тьмы глазами. Наконец, пришла мысль: «Я ничего не могу поделать! Мне все равно!» Джип легла в постель и выключила свет. Ей было неуютно и одиноко. Огонь в камине потух. Она сама не заметила, как уснула.
Ей приснился сон: она сидела в купе поезда между Фьорсеном и отцом посреди моря, вода с тихими вздохами и шелестом поднималась все выше и выше. Джип всегда просыпалась, как сторожевая собака, в долю секунды переходя от сна к бодрствованию, и поэтому тут же поняла, что в гостиной играет скрипка – в котором часу ночи? Она, не вставая, прислушалась к зыбким, невнятным звукам незнакомой мелодии. Пойти и помириться первой или подождать, пока он сам придет? Она дважды порывалась соскользнуть с кровати, но оба раза, словно судьбе было угодно, чтобы она не вставала, звук скрипки вдруг нарастал, и она думала: «Нет, нельзя. Все по-прежнему. Ему наплевать, даже если он когда-то разбудит. Он всегда делает что захочет и ни с кем не считается». И зажав уши руками, продолжала лежать без движения.
Когда Джип наконец отняла руки, стояла тишина. Она услышала шаги и притворилась спящей, но его даже это не смутило. Она молча вытерпела поцелуй, хотя в груди все окаменело – от мужа воняло бренди! На следующее утро он, похоже, ничего не помнил, зато помнила Джип. Ей отчаянно хотелось узнать, что он пережил и где был, но гордость не позволила спросить.
В течение первой недели Джип отправила отцу два письма, но потом не находила в себе сил писать и ограничивалась редкими открытками. К чему рассказывать отцу о своей жизни в компании того, кого он на дух не переносит? Неужели он был прав? Такое признание нанесло бы ее гордости глубокую рану. В то же время Джип начала тосковать по Лондону. Мысли о маленьком доме были оазисом в пустыне. Когда они там обживутся и смогут вести себя, не опасаясь задеть чужие чувства, возможно, жизнь войдет в нормальное русло. Муж по-настоящему вернется к работе, она будет ему помогать, и все пойдет по-другому. Новый дом – столько дел: новый сад, где скоро начнут цвести фруктовые деревья; она заведет собак и кошек, станет ездить верхом вместе с отцом, когда он будет приезжать в гости. Их будут навещать тетка Розамунда, друзья, в их доме будет звучать музыка по вечерам, а можно устраивать и танцы: Фьорсен прекрасно танцевал, да и она тоже, они оба любили танцевать. А концерты! Как приятно быть причастной к его успехам. Но главное радостное предвкушение – это дом. Она превратит его в очаровательное гнездышко, не побоится смелых экспериментов с формой и цветом. Однако в глубине души Джип понимала: думать о будущем, отгоняя от себя мысли о настоящем, – недобрый знак.
Что ей действительно доставляло удовольствие – так это прогулки на яхте. Выпадали лазурные деньки, когда пригревало даже мартовское солнце и дул не слишком сильный ветер. Фьорсен прекрасно поладил со старым морским волком, чью лодку они снимали, – скрипач вообще легче всего находил общий зык с простыми людьми.
В такие часы Джип посещало ощущение настоящей романтики. Синева моря, скалы, лесистые вершины южного побережья, дремлющие в сверкающей дымке. Фьорсен, не обращая внимания на шкипера, обнимал ее за плечи. В море ей удавалось подавить натянутость и ощутить некоторую духовную близость. Джип искренне пыталась лучше понять мужа в эти первые недели, принесшие первые же разочарования. Чувственная сторона брака ее не занимала – не испытывая страсти сама, она не могла упрекать в ее проявлении мужа. Когда однажды после жарких объятий он скривил рот в горькой улыбке, словно говоря: «Да, вот как ты обо мне заботишься», она ощутила раскаяние пополам с обидой. Проблема залегала глубже – в ощущении непреодолимого барьера и в инстинктивном нежелании раскрывать свою душу. Закрываясь от мужа, она не могла проникнуть и в его душу тоже. Почему он часто смотрит на нее так, словно его взгляд проходит сквозь нее? Что заставляет его в самом пылу игры вдруг взять яростную или жалобную ноту, а иногда и вовсе отшвырнуть скрипку? Почему после припадков неистового веселья он на несколько часов впадает в хандру? И самое главное – какие мечты посещают его в редкие моменты, когда музыка преображала его странное бледное лицо? Или ей это только чудилось и он ни о чем не мечтал? Чужая душа – потемки, но не для тех, кто любит.
Однажды утром Фьорсен получил письмо.
– Ага! Граф Росек желает осмотреть наш дом. «Гнездышко милых голубков» – вот как он его называет.
Неподвижное как у сфинкса, приторное лицо поляка, знавшего, похоже, много тайн, вызвало у Джип неприятные воспоминания. Она спокойно ответила:
– Чем он тебе нравится, Густав?
– Нравится? О, Росек – полезный человек. Хорошо разбирается в музыке и… в других вещах.
– Мне кажется, у него злобный нрав.
Фьорсен рассмеялся:
– Злобный нрав? На что ему злиться, Джип? Он хороший друг. И тобой восхищен, невероятно восхищен! Он имеет успех у женщин. Любит повторять: «‘J’ai une technique merveilleuse pour seduire une femme»[10].
Джип рассмеялась:
– Фу! Он похож на жабу.
– А-а, я ему передам. Он будет польщен.
– Если ты это сделаешь, если ты выдашь меня, то я… я…
Фьорсен вскочил и заключил ее в объятия. На его лице отразилось такое комическое раскаяние, что Джип немедленно успокоилась. Позже она обдумала сказанное и устыдилась своих слов. Как бы то ни было, Росек – подлиза и расчетливый сластолюбец, она в этом не сомневалась. Мысль, что граф крутился около их маленького дома, почему-то лишала предстоящее возвращение всякой прелести.
Они отправились в Лондон тремя днями позже. Пока такси объезжало стадион для крикета «Лордс», Джип держала Фьорсена за руку. Ее переполняла радость. На деревьях в соседних садах набухли почки, уже расцветал миндаль, причем в полную силу! Машина свернула на их улицу. Номер пять, семь, девять… тринадцать! Осталось всего два дома! А вот и он, дом под номером девятнадцать, белые цифры на зеленой, как листва, ограде под ветками сирени с набухшими почками. Да, здесь тоже цветет миндаль! Пока рассматривала поверх высокой изгороди приземистый белый дом с зелеными ставнями, Джип чуть не столкнулась с Бетти, стоявшей с улыбкой на широком раскрасневшемся лице. Из-под мышек у нее выглядывали мордочки двух чертенят с навостренными ушами и блестящими, как алмазы, глазками.
– Бетти! Какая прелесть!
– Подарок майора Уинтона, моя милая… мэм!
Обняв толстуху за пышные плечи, Джип подхватила двух щенков скотч-терьера и прижала к груди, а те принялись повизгивать и лизать ее в нос и уши. Джип пробежала через квадратный холл в гостиную с выходом на газон и, обернувшись в проеме застекленной двери, осмотрела безупречно убранную комнату, где все, естественно, следовало переставить. Белые стены с отделкой из черного и атласного дерева выглядели даже лучше, чем она себе представляла. В саду – ее саду! – на грушах почки еще не раскрылись, вдоль стен расцвело несколько желтых нарциссов, на магнолии проклюнулся первый цветок. Все это время она прижимала к себе щенков, наслаждаясь исходившим от них духом юности, тепла и мягкой шерсти, а те ее облизывали. Из гостиной она взбежала наверх по лестнице. Ее спальня, гардеробная, комната для гостей, ванная комната – Джип все обежала за минуту. Ой как здорово быть у себя дома, быть… Внезапно ее схватили сзади и оторвали от пола – в этой беспомощной позе, с горящими глазами, она повернула лицо так, чтобы муж мог достать своими губами ее губы.
Глава 3
Проснуться и слушать, как пробуют голоса птицы, почувствовать, что зима миновала, – что может быть приятнее?
В первое утро в своем доме Джип проснулась под щебет и писк то ли воробья, то ли какой-то еще птички, утонувшие вскоре в целом хоре куда более искусных певцов. Казалось, что в саду собрались все пернатые обитатели Лондона. На память пришли стихотворные строки:
- Все природы милой дети,
- Собирайтесь в пышном цвете
- Пред невестой с женихом!
- Хор воздушных духов – птички,
- Сладкогласные певички,
- Все слетайтесь здесь кругом![11]
Джип повернулась и посмотрела на мужа. Голова утопает в подушке, наружу торчат только густые всклокоченные волосы. По ее телу пробежала дрожь, как будто рядом лежал совершенно чужой мужчина. Неужели он всю жизнь проведет с ней, а она – с ним? Неужели это их общий дом? Непривычная кровать, незнакомое и в то же время постоянное жилище – здесь все выглядело не так, как она себе это представляла: серьезнее и тревожнее. Осторожно, чтобы не разбудить мужа, Джип выскользнула из постели и встала между портьерой и окном. День еще не вступил в свои права, далеко за деревьями разгоралась заря, и на всем лежал розовый отсвет раннего утра. Можно вообразить, что ты в деревне, если бы не тихое бурчание пробуждающегося города и не пелена низкого тумана, путающегося под ногами лондонского дня. Джип подумала: «Я хозяйка этого дома. Я здесь всему голова и обо всем должна позаботиться. Как там мои щенки? Кстати, чем их кормят?»
Начался первый хлопотливый час, за которым последовали многие другие, ибо Джип решила быть старательной хозяйкой. Ее разборчивость требовала совершенства, однако щепетильность запрещала требовать того же от других, особенно от прислуги. Их-то зачем лишний раз дергать?
Фьорсен был совершенно не приучен к порядку. Джип быстро заметила, что муж просто не в состоянии оценить ее усилия по созданию домашнего уюта. Из гордости она не просила его о помощи и, возможно, поступала мудро, потому что проку от него все равно не было. Его девизом было жить аки птицы небесные. Джип и сама была бы не прочь так пожить, но что тогда делать с домом, тремя слугами, трапезами по нескольку раз на день, двумя щенками и отсутствием опыта в подобных вещах?
Она ни с кем не делилась своими тяготами и от этого еще больше страдала. С консервативной до мозга костей Бетти, с большим трудом принявшей Фьорсена, как в прошлом Уинтона, следовало держать ухо востро. Но больше всего Джип заботил отец. Хоть ее и тянуло к нему, ожидание каждого его визита нагоняло тоску. Первый раз Уинтон приехал к ней, как в те давние времена, когда она была маленькой девочкой, в такое время дня, в какое, по его расчетам, «этого субчика» не должно быть дома. При виде отца под шпалерами у Джип застучало сердце. Она сама открыла дверь и с порога бросилась ему на шею, чтобы скрыть свое лицо от проницательных отцовских глаз. И тут же заговорила о щенках, которым дала клички Хвать и Брось. Какие они милашки! От них ничего невозможно утаить, тапочки изорваны в клочья, шельмы умудрились пробраться в горку с фарфором и там заснуть! Она сейчас все ему покажет.
С отцом под руку и болтая без умолку, Джип поднялась наверх, спустилась вниз, вышла в сад, показала ему кабинет и под конец – музыкальный салон, имевший отдельный вход из переулка. Салон был гордостью дома. Фьорсен мог здесь спокойно репетировать. Уинтон вел себя спокойно и лишь время от времени отпускал дельные замечания. В дальнем конце сада, отделенного стеной и узким проходом от другого участка, Уинтон неожиданно сжал плечо дочери и произнес:
– Ну так что, Джип? Как тебе живется?
Долгожданный вопрос, наконец, прозвучал.
– А-а, неплохо. Местами даже чудесно, – сказала она, не глядя ему в глаза. Он тоже отвел взгляд. – Посмотри, отец, какую дорожку протоптали здесь коты.
Уинтон закусил губу и повернул обратно. В его голове роились горькие мысли. Дочь решила держать его в неведении, сохранять беззаботный вид, но его-то не проведешь!
– Полюбуйся на мои крокусы! Сегодня наступила настоящая весна!
И это было правдой. Появилась даже пара пчел. Вылезли молодые листочки, такие прозрачные, что солнце легко просвечивало их насквозь. Фиолетовые крокусы с тонкими прожилками и оранжевыми язычками в самом центре походили на чашечки, наполненные солнечным светом. Ветви качал ласковый ветер, то тут, то там шуршали одиночные прошлогодние листья. Трава, голубое небо, цветки миндального дерева – все сверкало в лучах весеннего солнца. Джип заложила руки за голову.
– Как хорошо, когда весна!
Уинтон же подумал: «А она изменилась: стала мягче, живее, в ней появилось больше яркости, солидности, больше гибкости в теле, теплоты в улыбке. Но счастлива ли она?»
Чей-то голос произнес:
– А-а, очень приятно!
Фьорсен подкрался в своей типичной кошачьей манере, и Уинтону показалось, что Джип поморщилась.
– Отец считает, что в музыкальном салоне следует повесить темные портьеры, Густав.
Фьорсен отвесил поклон:
– Да-да, как в лондонском клубе.
Уинтон, взглянув на дочь, заметил на ее лице немую просьбу и, выжав улыбку, сказал:
– Вы, как я вижу, уютно здесь устроились. Рад видеть вас еще раз. Джип превосходно выглядит.
И опять этот поклон – как он их ненавидел! Фигляр! Нет, он никогда не сможет привыкнуть к этому субъекту! Однако сейчас не время проявлять норов. Выдержав ради приличия паузу, Уинтон попрощался и в одиночестве пошел через незнакомый район, в котором знал только стадион для крикета «Лордс», ощущая в душе сомнения и опустошенность, раздражение и смешанную с ним решимость всегда быть под рукой, если его ребенку понадобится помощь.
После ухода Уинтона не прошло и десяти минут, как появилась тетка Розамунда. Она опиралась на трость с загнутой ручкой, благородно прихрамывая, ибо тоже страдала от наследственной подагры. Некоторым людям свойственно стремление помыкать друзьями, и добрейшая душа осознала в себе его силу только после того, как племянница выскочила замуж. Тетя Розамунда жаждала вернуть Джип под свое крылышко, участвовать в ее делах, обхаживать ее, как прежде. И тетина непринужденная болтовня не могла этого скрыть.
Джип заметила, что Фьорсен слегка передразнивает тетушкину манеру речи, и у нее запылали уши. Угрозу на несколько минут отвел разговор о щенках: их достоинствах, носиках, нахальстве, питании, после чего пародирование возобновилось. Когда тетка Розамунда несколько поспешно попрощалась и ушла, Джип, сбросив с лица маску, замерла у окна гостиной. Фьорсен подошел, обнял ее сзади и, резко выдохнув, сказал:
– Эти сиятельные люди часто будут нас посещать?
Джип отодвинулась к стене:
– Если ты любишь меня, то почему обижаешь людей, которые меня тоже любят?
– Потому что я ревную. Я ревную тебя даже к щенкам.
– Их ты тоже намерен обижать?
– Возможно. Если они будут слишком много времени проводить с тобой.
– Думаешь, мне хорошо, когда ты обижаешь тех, кто меня любит?
Он сел и усадил Джип на колени. Она не сопротивлялась, но и ничем не отвечала на его ласки. И все это, стоило в доме появиться первому гостю! Это уж слишком!
Фьорсен хрипло сказал:
– Ты меня не любишь. Если бы любила, я бы почувствовал любовь на твоих губах, увидел в твоих глазах. Ах, Джип, люби меня! Ты должна меня любить!
Однако любовь не возникает по приказу: вынь да положь! – и Джип его слова не тронули. Они показались ей глупостью и дурным тоном. Чем больше она отдавала свое тело, тем больше закрывалась ее душа. Если женщина ни в чем не отказывает мужчине, которого по-настоящему не любит, это значит, что над очагом пары сгущаются тучи. Фьорсен тоже это чувствовал, но сдерживать свои эмоции умел не лучше двух щенков.
И все же первые недели в новом доме проходили в целом счастливо, хлопоты почти не оставляли места для сомнений и сожалений. На май было назначено несколько важных концертных выступлений. Джип ожидала их с большим нетерпением и все, что мешало подготовке, отодвигала на задний план. Словно стремясь оправдаться за инстинктивное нежелание отдать мужу свое сердце, о чем она про себя никогда не забывала, Джип щедро, беспрекословно отдавала ему все свое время и энергию. Она была готова аккомпанировать целыми днями, с утра до вечера, подобно тому, как с первой же минуты предоставила себя в распоряжение его страсти. Отказав ему в таких вещах, она бы упала в собственных глазах. Правда, у нее бывало свободное время по утрам, потому что Фьорсен имел привычку не вылезать из постели до одиннадцати и никогда не начинал упражняться раньше полудня. В эти ранние часы Джип разбиралась с заказами и покупками. Это занятие является единственным видом «спорта» для многих женщин, объединяющим в себе стремление к идеалу, состязание во вкусах и знаниях со всем миром и тайную страсть сделать свой и без того прекрасный дом еще лучше. Отправляясь за покупками, Джип всегда ощущала слабый ток, бегущий по нервам. Она не любила, когда к ней прикасались чужие пальцы, но даже это не мешало ей получать удовольствие, вертясь перед высокими зеркалами, в то время как продавец или продавщица сначала с притворным, а потом неподдельным восхищением прикасались кончиками пальцев к изгибам ее тела, приглаживая ткань там, подкалывая булавкой здесь, и непрестанно повторяя в нос «модом», «модом».
Иногда по утрам она совершала конные прогулки с отцом. Уинтон заезжал за ней и после возвращения оставлял дочь у дверей, не заходя в дом. Однажды после катания по Ричмонд-парку, где как раз настала пора цветения каштанов, они, перед тем как разъехаться по домам, решили позавтракать на веранде гостиницы. Прямо под ними цвело еще несколько фруктовых деревьев, солнечный свет, падавший с голубых небес, серебрил извивы реки и золотил распускающиеся дубовые листья. Уинтон, куря после завтрака сигару, смотрел поверх макушек деревьев на Темзу с полями и лесом на другом берегу. Украдкой взглянув на него, Джип очень тихо произнесла:
– Ты когда-нибудь ездил верхом с моей мамой, отец?
– Всего один раз – в том самом месте, где мы были сегодня. У нее была вороная кобыла, а у меня гнедой…
Да разве можно забыть, как он, спешившись, стоял рядом с ней вон в той роще на холме, через которую он проехал сегодня утром с дочерью.
Джип протянула через стол руку:
– Расскажи о ней, отец. Она была красива?
– Да.
– Черноволосая? Высокая?
– Совсем как ты, Джип. Только немного… – Он не знал, как описать разницу. – Она чуть больше походила на иностранку. Я тебе не говорил? Одна из ее бабушек была итальянкой.
– Как ты в нее влюбился? Внезапно?
– Так же внезапно, как… – Он высвободил руку и положил ее на перила веранды. – Вот как коснулся моей руки этот солнечный луч.
Джип тихо проговорила, словно сама с собой:
– Да, кажется, мне это пока неведомо. Пока.
Уинтон с шумом втянул сквозь зубы воздух.
– И она тоже влюбилась в тебя с первого взгляда?
Майор выпустил длинную струю дыма:
– Человек легко верит в то, во что ему хочется верить. Но мне кажется, все так и было. Она не раз говорила это сама.
– Как долго вы пробыли вместе?
– Всего один год.
– Мой бедный отец, – едва слышно проронила Джип и вдруг добавила: – Страшно представить, что ее погубила я. Эта мысль не дает мне покоя!
Уинтон, почувствовав себя неловко от неожиданного признания, поднялся, и черный дрозд, напуганный резким движением, прекратил свою песню.
– Нет, я не хочу иметь детей! – вдруг решительно сказала Джип.
– Если бы не это, у меня не было бы тебя, Джип.
– Нет, все равно не хочу. И я не хочу… не хочу так любить. Меня это пугает.
Уинтон долго, ничего не говоря, смотрел на нее, смущенно хмуря брови, словно раздумывал о прошлом.
– Когда тебя настигает любовь, – ответил он наконец, – ты бессилен. Когда она приходит, остается только принять ее, и неважно, несет она тебе погибель или нет. Поедем обратно, дитя мое?
Джип вернулась домой еще до полудня, торопливо приняла ванну, оделась и спустилась в музыкальный салон. Стены этого помещения были задрапированы позолоченным тюлем, на окнах – серебристо-серые портьеры, на диване – покрывало, прошитое серебристыми и золотистыми нитями, а камин прикрывала кованая медная решетка. Все помещение было выдержано в серебристо-золотистых тонах за исключением двух капризов – блестящей ширмы возле пианино, раскрашенной павлиньими хвостами, и синей персидской вазы, в которой стояли цветы разных оттенков красного.
Фьорсен, стоявший у окна в облаке табачного дыма, даже не обернулся. Джип взяла мужа под руку и сказала:
– Извини, дорогой. Но сейчас только половина первого.
На лице Фьорсена застыла обида на весь мир.
– Мне очень жаль, что тебе пришлось возвращаться, но, надеюсь, нагулялась ты вволю.
Выходит, ей уже и с отцом нельзя проехаться верхом? Что за эгоизм и глупая ревность! Джип молча отвернулась и села за пианино. Она не умела терпеть несправедливость, совершенно не умела! К тому же к сигаретному дыму примешивался запах бренди. Пить с утра – как это противно! Джип сидела у пианино и ждала. Так и будет, пока он игрой не развеет туман дурного настроения. Потом он подойдет, будет лапать ее за плечи и тыкаться губами в шею. Все так и будет, однако таким поведением он не заставит полюбить его. И Джип неожиданно спросила:
– Густав, что именно тебе не нравится в моем поведении?
– У тебя есть отец.
Промолчав несколько секунд, Джип расхохоталась: Фьорсен в этой позе был похож на надутого ребенка, а он подскочил к ней и зажал рот. Джип бросила взгляд поверх руки, вонявшей табаком. Сердце металось между раскаянием и негодованием. Фьорсен, не выдержав ее взгляда, опустил глаза и убрал руку, после чего Джип как ни в чем не бывало спросила:
– Ну так что, начнем?
Он хрипло ответил «нет» и вышел в сад.
На сердце Джип остался тревожный, неприятный осадок. Как она дошла до того, чтобы стать участницей столь отвратительной, мелочной сцены? Она продолжала сидеть за пианино и раз за разом повторяла один и тот же пассаж, не понимая даже, что играет.
Глава 4
Росек все не показывался в их маленьком доме. Джип гадала, не передал ли Фьорсен ее реплику графу, но, если спросить мужа, он, конечно, все будет отрицать. Она уже усвоила, что Фьорсен говорил правду только в тех случаях, когда она была ему выгодна, и помалкивал, если могла навредить. Что касалось музыки и любого вида искусства, тут на него можно было положиться, но если Фьорсена что-то задевало, его прямолинейность становилась несносной.
На первом концерте Джип подстерегал неприятный сюрприз: Росек сидел по другую сторону прохода, в двух рядах за ее спиной, и беседовал с юной девушкой, чье лицо – круглое, прекрасной формы – напоминало полупрозрачную алебастровую маску. Голубые глаза девушки не отрываясь смотрели на графа, губы были чуть приоткрыты, на лице застыло глуповатое выражение. Смех тоже звучал глуповато. И все же ее отличали прекрасные черты, гладкие светлые волосы, бледный, благородный цвет кожи и белая округлая шея. Осанка незнакомки была настолько идеальной, что Джип не могла оторвать от нее глаз. Тетушку она решила с собой не брать. Если бы Фьорсен увидел ее с «этой деревянной англичанкой», это могло вызвать у него злость и помешать выступлению. Джип хотелось вновь испытать чувства, которые нахлынули на нее в Висбадене. Сознание, что она помогала делать звуки, трогавшие сердца и эмоции множества слушателей, еще совершеннее, наполняло ее тайным удовлетворением. Она долго ждала этого концерта, поэтому теперь сидела, едва дыша, отрешившись от окружения, тихая, кроткая, источающая благодушие и энтузиазм.
Фьорсен выглядел хуже некуда, что с ним всегда бывало при первом выходе на сцену; смотрел холодно, настороженно, вызывающе. Наполовину отвернувшись от зала, скрипач длинными пальцами подкручивал колки и трогал струны. Странно было сознавать, что всего шесть часов назад она лежала с ним в одной постели. Какой там Висбаден! Нет, Висбаденом здесь даже не пахло! А когда он наконец заиграл, прежние чувства тоже не появились. Джип слишком много раз слышала его игру и знала, откуда происходят эти звуки. Знала, что их жар, сладость и благородство – порождение пальцев, слуха, разума, но никак не души. У нее больше не получалось плыть на волнах музыки в новый мир, слышать в ней рассветный бой колоколов и шорох срывающихся капель вечерней росы, ощущать божественную силу ветра и солнечного света. Романтика и упоение, насыщавшие душу в Висбадене, не желали возвращаться. Джип про себя отмечала слабые места, на которых Фьорсен, да и она тоже, спотыкался во время репетиций. Ее отвлекали воспоминания о его капризах, ипохондрии, несвоевременных ласках. Она перехватила взгляд мужа – похожий на висбаденский и одновременно не такой. В нем сохранился любовный голод, но преклонение, душевное единение исчезли. Джип подумала: «Это из-за меня или оттого, что он может теперь делать со мной что хочет?» Еще одно крушение иллюзий, и, пожалуй, самое жестокое. Но, услышав аплодисменты, Джип оттаяла и зарделась, с головой окунулась в радость, вызванную успехом мужа. В антракте она впервые в жизни прибежала за кулисы, в гримерную – это волшебное место для посторонних. Фьорсен как раз возвращался после выхода на бис, и при виде жены выражение скуки и презрения исчезло с его лица: он поднес к губам и поцеловал ее руку. За все время замужества Джип никогда еще не чувствовала себя такой счастливой. С сияющими глазами она прошептала:
– Превосходно!
Фьорсен – тоже шепотом – ответил:
– Вот как! Теперь ты меня любишь, Джип?
Она закивала. В этот момент она действительно любила его. Или так ей казалось.
Начали приходить люди, среди них – учитель музыки месье Армо, все такой же седой и словно выструганный из красного дерева. Пробормотав Фьорсену: «Merveilleux, tres fort»[12], он повернулся к бывшей ученице.
Значит, она вышла замуж за Фьорсена – вот те раз! Невероятно, просто невероятно! И каково быть с ним постоянно рядом – немного чудно́, не так ли? А как у нее дела с музыкой? Все старания пойдут насмарку. Ах какая жалость! Не пойдут? Ну, тогда она должна снова посещать уроки. Месье Армо постоянно похлопывал ее по руке, будто играл на пианино; его пальцы, способные извлекать ангельские звуки, словно проверяли плоть бывшей ученицы на упругость, как если бы он сомневался, не засохла ли она от долгого бездействия. Месье Армо, похоже, действительно соскучился по своему маленькому другу и был рад встрече. Всегда падкая на похвалы, Джип улыбалась в ответ. Появились новые посетители. Она увидела, что Росек говорит с Фьорсеном, алебастровая девушка тихо стояла рядом и с полуоткрытым ртом смотрела на Фьорсена во все глаза. Идеальная фигура, хотя чуть-чуть коротковатая, кроткое личико, превосходно очерченные приоткрытые губы, словно готовые принять сладкий леденец. На вид не больше девятнадцати лет. Кто она такая?
Кто-то чуть ли не в самое ухо сказал:
– Как поживаете, миссис Фьорсен? Мне наконец-то повезло опять с вами встретиться.
Пришлось обернуться. Если Густав и передал ее слова, этот хлыщ с холеным лицом-маской, вкрадчивым внимательным взглядом, настороженной собранностью и льстивой манерой разговора ничем себя не выдал. Почему он ей так неприятен? Джип обладала острым чутьем, природной сметкой, которой нередко в избытке наделены не слишком интеллектуально развитые люди, ее «антенны» тонко чувствовали фальшь. Чтобы хоть что-то ответить, она спросила:
– Кто эта девушка, с которой вы говорили, граф? У нее такое милое лицо.
Росек улыбнулся – эта улыбка вызывала у нее неприязнь еще в Висбадене. Перехватив взгляд графа, Джип увидела, что Фьорсен говорит с девушкой, чьи губы просили леденца пуще прежнего.
– А-а, это юная балерина Дафна Глиссе, ей прочат большое будущее. Порхающая голубка! Она вам понравилась, мадам Джип?
– Очень недурна собой, – с улыбкой ответила она. – Могу предположить, что и танцует она превосходно.
– Не желаете ли прийти однажды и посмотреть ее выступление? Она пока только готовится к дебюту.
– Спасибо. Я, право, не знаю. Хотя танцы я люблю.
– Хорошо! Я все устрою.
А Джип подумала: «Нет-нет! Я не хочу иметь с тобой никаких дел! Почему я покривила душой? Почему не сказала, что я терпеть не могу танцы?»
Позвонили к окончанию антракта. Зрители заторопились обратно в зал. Девушка подошла к графу Росеку.
– Мисс Дафна Глиссе… миссис Фьорсен.
Джип с улыбкой протянула руку. Девушка воистину была писаной красавицей. Мисс Дафна Глиссе улыбнулась в ответ и тщательно, словно недавно брала уроки правильного произношения, выговорила:
– Ох, миссис Фьорсен, как прекрасно играет ваш муж, вы согласны?
Дело было не только в вымученно-отчетливом произношении – в словах, произносимых идеальными губами, не хватало чего-то еще: то ли души, то ли чувства. Джип стало жалко девушку – как если бы у прекрасного цветка вдруг обнаружился изъян. Приветливо кивнув, она повернулась к Фьорсену – он уже собирался выходить на сцену. Интересно, на кого ее муж смотрел со сцены: на нее или на эту девушку? Джип улыбнулась ему и поспешила прочь. В коридоре Росек сказал:
– А почему бы не сегодня вечером? Приезжайте ко мне с Густавом. Она станцует для нас, и мы все вместе поужинаем. Дафна восхищена вами, мадам Джип, и с удовольствием выступит перед вами.
Джип хотелось оборвать его, бросив: «Я не хочу приезжать к вам. Вы мне неприятны!» – но она лишь смогла выдавить:
– Спасибо. Я… я спрошу у Густава.
Сев на свое место, Джип отерла щеку, которой коснулось дыхание графа. На сцене выступала молодая певица, Джип всегда нравились такие черты, как у нее: рыжие, как золото, волосы, голубые глаза – полная противоположность ей самой. Песня, которую исполняла девушка, «Вершины Джуры», странным образом передавала боль сердца, разбитого несчастной любовью:
И солнца лишили сердце мое.
На глаза Джип навернулись слезы: песня тронула что-то сокровенное в душе, отозвавшись неудержимой дрожью. Как там говорил отец? «Когда тебя настигает любовь, ты бессилен».
Любовь и ее настигла, но она отказывалась любить!
Певица закончила выступление. Ей вяло похлопали. А ведь она прекрасно пела, да и песня, лучше которой еще поискать. Чем же она им не угодила? Слишком драматично, слишком мрачно, не подходит к случаю? Недостаточно красиво? Джип стало жалко девушку. Еще и голова разболелась. Ей хотелось незаметно уйти после окончания концерта, но не хватало смелости. Придется весь вечер терпеливо сидеть у Росека, изображая веселье. Почему она упрямится? Откуда эта зловещая тень на всем вокруг? Однако ощущение, что она сама виновата, выбрав жизнь, не позволяющую, несмотря на все ее усилия, почувствовать себя в надежной гавани даже в родном доме, приходило к ней не первый раз. Ведь ее никто силой не тащил в эту клетку!
По дороге к Росеку Джип скрыла от мужа подавленность и головную боль. Фьорсен чувствовал себя как сорванец после уроков, упивался аплодисментами, передразнивал ее старого учителя музыки, издевался над слепым обожанием толпы, над Росеком и приоткрытыми, словно чего-то ждущими губами юной танцовщицы. В такси он обхватил Джип за талию, прижал к себе и, как какой-нибудь цветок, понюхал ее щеку.
Росек снимал второй этаж старомодного особняка на Рассел-сквер. В доме с порога ударял в нос вездесущий запах ладана или каких-то похожих на ладан благовоний. На стенах в темном холле в алебастровых чашах, привезенных с востока, горел электрический свет. Все жилище Росека напоминало берлогу заядлого коллекционера. Хозяин любил черное – стены, диваны, рамы картин, даже часть изразцов были черного цвета, мерцала тусклая позолота, слоновая кость и лунный свет. На круглом черном столике в золоченой вазе стояли подобранные в тон лунному свету веточки пушистой вербы и лунника. На черной стене слабо светилась вырезанная из слоновой кости маска фавна, а в темной нише – серебряная статуэтка танцующей девушки. Прекрасный интерьер, но какой-то загробный. Джип всегда восхищалась всем новым и живо реагировала на любую красоту, но тут вдруг ощутила, что ее тянет на свежий воздух, к солнечному свету. Выглянув в окно с черными портьерами, она с облегчением увидела заходящее на западе теплое солнце и его отблески на деревьях вокруг площади. Джип представили мистеру и миссис Галлант, мужчине с мрачным лицом циника и хитрым недобрым взглядом, и крупной пышнотелой даме с голубыми назойливыми глазами. Маленькой танцовщицы с ними не было. Росек сообщил, что она ушла переодеться в неглиже.
Граф демонстрировал свои сокровища – скарабеев, рисунки Ропса, посмертные маски, китайские картинки, причудливые старинные флейты – с таким видом, будто впервые встретил человека, способного оценить их по достоинству. А Джип не могла выбросить из головы слова «une technique merveilleuse». Ее чутье улавливало утонченную порочность этого дома, похоже, не знавшего никаких табу за исключением дурного вкуса. Она впервые видела вблизи золотую богему, отвергавшую бескорыстие, душевный порыв и борьбу истинной богемы, не позволяющую представителям последней, словно те были жалкими пешками, проникать на поля, куда позволено ходить одним слонам. Джип, однако, болтала и улыбалась, и никто не смог бы угадать, что нервы у нее натянуты как струны, как если бы ей пришлось дотронуться до мертвеца. Показывая ей алебастровые чаши, хозяин дома ласково положил свою ладонь на запястье Джип и мягко, словно кошачьей лапкой, провел по нему пальцами, прежде чем убрать их и поднести к своим губам. Вот она, значит, какая его technique. Джип из последних сил подавила желание расхохотаться. И Росек это заметил – о, еще как заметил! Он бросил на нее быстрый взгляд, провел той же рукой по гладкому лицу, и – гляди-ка! – на нем вновь появилось уже знакомое невозмутимое и бесстрастное выражение. Смертельно опасный коротышка!
Когда они вернулись в так называемый салон, мисс Дафна Глиссе в черном кимоно – ее лицо и руки пуще прежнего напоминали алебастр, сидевшая там на диване рядом с Фьорсеном, немедленно вскочила и подбежала к Джип.
– Ах, миссис Фьорсен! – Почему-то каждая ее фраза начиналась с восклицания «ах». – Не правда ли, прелестная комната? Она идеально подходит для танцев. Я захватила с собой только кремовый и огненно-красный костюмы, они прекрасно гармонируют с черным фоном.
Дафна откинула полы кимоно, позволяя Джип оценить ее наряд – кремовый хитон с пояском, еще больше подчеркивающий красоту рук и шеи цвета слоновой кости. Рот девушки приоткрылся, словно ожидая награды – леденца. Понизив голос, она пробормотала:
– По секрету, я немного боюсь графа Росека.
– Почему?
– Ах, я и сама не знаю. Он так разборчив, изыскан, и подкрадывается так тихо. Ваш муж чудесно играет – вне всяких сомнений. Ах, миссис Фьорсен, вы очень красивы, я правду говорю!
Джип улыбнулась.
– Какой танец вы хотите увидеть первым? Вальс Шопена? – спросила Дафна.
– Да, я люблю Шопена.
– Значит, вальс. Я станцую то, что вам нравится, потому что обожаю вас. Вы, несомненно, безмерно обаятельны. Ах, не возражайте! Я сама прекрасно это вижу. И мне кажется, ваш муж невероятно влюблен в вас. Будь я мужчиной, я бы тоже в вас влюбилась. Я учусь уже пять лет, но у меня пока еще не было дебюта. Теперь же, после того как граф Росек согласился мне помочь, ждать, я думаю, осталось недолго. Вы придете посмотреть на мое первое публичное выступление? Мама говорит, что мне следует быть невероятно осторожной. Она отпустила меня сегодня вечером только потому, что здесь будете вы. Я могу начинать?
Дафна перепорхнула к Росеку:
– Ах, миссис Фьорсен просит, чтобы я начинала. Вальс Шопена, пожалуйста. Ну, этот… там-та-там…
Росек сел за пианино, танцовщица вышла на середину комнаты. Джип села рядом с Фьорсеном.
Граф заиграл, не сводя с девушки глаз, его вечно сжатые губы расплылись в приторной улыбке. Мисс Дафна Глиссе замерла, сложив кончики пальцев на груди, как статуэтка из черного дерева и матового воска, и вдруг сбросила черное кимоно. Джип от макушки до пят охватила дрожь. Эта простушка умела танцевать! Каждое движение гладкого гибкого тела, обнаженных рук и ног выдавало радостное вдохновение врожденного таланта, уравновешенного превосходной выучкой. Воистину полет голубки! С лица Дафны слетело глуповатое выражение, сменилось одухотворенностью, взгляд из потерянного стал устремленным вдаль, как того требовал танец. Да, настоящий самородок, пусть и простодушный. У Джип увлажнились глаза. Как она мила, настоящая голубка: подставила грудь ветру, взлетает все выше и выше, крылья заведены назад, зависла над землей. Бесстрашная и свободная – чистота, грация, самообладание!
Когда девушка, закончив танец, присела рядом, Джип сжала маленькую руку, но нежность была адресована искусству, а не взмокшей танцорке с губами, жаждущими леденца.
– Ах, вам понравилось? Я так рада. Можно, я теперь переоденусь в огненный костюм?
Как только она ушла, хлынул поток комментариев. Мрачный циник мистер Галлант сравнил Дафну с мадам Наперковской, чье выступление смотрел в Москве. Дафне якобы не хватало страсти, что, как он был уверен, со временем придет. Мистер Галлант отметил в танце недостаток любви. И этот про любовь! Джип как будто вновь оказалась в зрительном зале во время исполнения песни о разбитом сердце:
- Твой поцелуй, твоя любовь –
- Как струи свежие прохладного потока.
Какая может быть любовь в этом логове фавнов, мягких подушек, серебряных танцующих дев? Любовь? Джип вдруг ощутила невероятное уныние. А разве сама она не услада для мужской похоти? А ее дом? Так ли уж он непохож на этот? Мисс Дафна Глиссе вернулась. Пока она танцевала, Джип следила за лицом мужа. Какие у него губы! Как она могла видеть его возбуждение и не придавать этому значения? Если бы она его действительно любила, такие губы ее бы оскорбили, но она, пожалуй, могла бы понять и простить. Но сейчас она не понимала и простить тоже не могла.
В тот вечер, когда муж принялся ее целовать, она пробормотала:
– Ты был бы не против, чтобы на моем месте оказалась эта девушка?
– Эта девушка! Да я бы ее проглотил и не поперхнулся. Но тебя, моя Джип, я готов пить вечно, без устали.
Неужели это правда? Если бы она его любила, как приятно было бы слышать такие слова. Если бы только она его любила…
Глава 5
После того вечера Джип все больше соприкасалась с миром высшей богемы, этим любопытным слоем общества, включавшим в себя сливки музыки, поэзии и театра. Она пользовалась успехом, но в душе чувствовала себя чужой в этой компании, и, по правде говоря, то же самое чувствовал Фьорсен, который был истинным представителем богемы, настоящим артистом, и высмеивал окружавших его галлантов и росеков, как высмеивал Уинтона, тетку Розамунду и их мирок. Жизнь с Фьорсеном возымела для Джип по крайней мере одно важное следствие: она все меньше ощущала себя частью старого, ортодоксального, чопорного мира, который только и видела до замужества, но к которому, как сама призналась Уинтону, никогда не принадлежала сердцем, ибо знала тайну своего рождения. По правде говоря, она была слишком восприимчивой, слишком влюбленной в красоту и потому, возможно, слишком критически относилась к диктату размеренного распорядка жизни. Вот только сама по себе она не осмелилась бы вырваться из этого замкнутого круга. Оторвавшись от корней, не умея закрепиться на новой почве, не находя душевной близости с мужем, она все больше чувствовала себя одинокой. Единственную радость дарили часы, проведенные с Уинтоном, за пианино или со щенками. Она тщилась разобраться в том, что сделала, и страстно желала обнаружить глубинную, вескую причину, побудившую ее к таким действиям. Но чем больше она искала и тяготилась, тем сильнее становилось ее замешательство, ощущение, что она заперта в клетке. С недавних пор к этому добавилась новая, определенная тревога.
Она проводила много времени в саду. Цветки на деревьях осыпались, сирень отцвела, распустилась акация, дрозды замолчали.
Уинтон, установив в ходе тщательных наблюдений, что с половины четвертого до шести зять редко бывает дома, приезжал почти каждый день выпить чашку чая и выкурить сигару на лужайке. Однажды после обеда он сидел с Джип, как вдруг Бетти, иногда по прихоти исполнявшая обязанности горничной, принесла карточку, на которой значилось: «Мисс Дафна Глиссе».
– Ведите ее сюда, милая Бетти, и принесите, пожалуйста, свежего чая и тостов с маслом. И побольше! Да, и еще шоколаду и других сладостей, какие найдете.
Бывшая няня удалилась с довольным видом, как бывало всегда, когда к ней обращались «милая Бетти», а Джип сказала отцу:
– Это та самая маленькая танцовщица, о которой я тебе рассказывала. Вот увидишь – она само совершенство. Жаль только, что на ней будет платье.
Дафна, очевидно, хотела показать, что у нее тоже есть вкус. Одетая в платье теплого светло-кремового оттенка, окутанное облачком зеленого, как листва, шифона, с пояском из крохотных искусственных листочков, с венком из зеленых листьев на непокрытой голове, она была похожа на нимфу, выглянувшую из садовой беседки. Наряд, несмотря на некоторую крикливость, выглядел прелестно, и никакое платье не могло скрыть изящество фигуры. Девушка заметно нервничала.
– Ах, миссис Фьорсен, надеюсь, вы не против моего появления. Мне так хотелось снова с вами увидеться. Граф Росек сказал, почему бы и нет. Мой дебют уже подготовлен. Ах, как ваши дела?
Заметив Уинтона, Дафна еще шире открыла глаза и губы и присела в пододвинутое кресло. Наблюдавшую за ее реакцией Джип разбирал смех. Отец и Дафна Глиссе! Бедняжка, очевидно, изо всех сил старалась произвести хорошее впечатление. Выдержав паузу, Джип спросила:
– Вы танцевали у графа Росека еще раз?
– Ах да, а вы не… разве вы… я… – Она запнулась и замолчала.
У Джип мелькнула мысль: «Выходит, Густав ходил смотреть на нее, а мне ничего не сказал!», но вслух она произнесла:
– А-а, ну да, конечно. Я совсем забыла. Когда состоится премьера?
– Через неделю, в пятницу. Блеск! В «Октагоне». Здорово, правда? Мне дали очень хороший ангажемент, и я хочу, чтобы вы и мистер Фьорсен тоже пришли!
Джип с улыбкой пробормотала:
– Конечно, придем. Мой отец тоже любит балет. Не правда ли?
Уинтон вынул сигару изо рта и учтиво заметил:
– Когда он хорош.
– О, я хорошо танцую, не правда ли, миссис Фьорсен? Я хочу сказать, что занималась балетом с тринадцати лет и просто обожаю танцы. Мне кажется, вы бы тоже могли очень хорошо танцевать, миссис Фьорсен. У вас идеальная фигура. Я просто любуюсь вашей походкой.
Джип, порозовев, ответила:
– Угощайтесь, мисс Глиссе. Внутри конфет – ягодки, малина.
Танцовщица сунула конфету в рот.
– Ах, не называйте меня «мисс Глиссе»: я Дафна, просто Дафна. Мистер Фьор… все так делают.
Почувствовав на себе взгляд отца, Джип пробормотала:
– Прекрасное имя. Хотите еще одну? С абрикосом?
– Очень вкусные. Знаете, мое платье для дебюта будет померанцевого цвета. Это мистер Фьорсен предложил. Но он вам, конечно, уже сказал. Возможно, на самом деле это вы придумали. Я угадала?
Джип покачала головой.
– Граф Росек говорит, что весь свет ждет моего дебюта… – Дафна замерла, не донеся конфеты до приоткрытых губ, и с сомнением добавила: – Вы думаете, это правда?
Джип ласково ответила:
– Надеюсь.
– Он говорит, что во мне есть новизна. Хорошо, если так. У него хороший вкус. И у мистера Фьорсена тоже, не правда ли?
Джип заметила, как, окутав себя завесой дыма, поджал губы отец, и ощутила внезапное желание подняться и уйти, но ограничилась кивком.
Танцовщица сунула лакомство в рот и беспечно сказала:
– Конечно, хороший, раз он женился на вас.
Заметив, что Уинтон сверлит ее взглядом, девушка смутилась, торопливо проглотила конфету и сказала:
– Ах как здесь мило – как в деревне! Боюсь, мне пора идти. Подходит время репетиции. Для меня сейчас важно ни одной не пропускать, вы согласны?
Джип поднялась.
Уинтон тоже встал. Джип заметила, как округлились глаза Дафны при виде его протеза, и услышала уже с дорожки около дома удаляющийся голос: «Ах, я надеюсь, что…» – но на что она надеялась, так и не поняла.
Джип опустилась обратно в кресло и замерла. Между цветами летало множество пчел, в кронах деревьев ворковали голуби. Солнце согревало колени и ступни вытянутых ног в ажурных чулках. В сад доносился смех служанки, сочное урчание игравших на кухне щенков, далекие выкрики молочника на улице. Какой повсюду покой! Но покоя сердцу не давали настороженные, обескураживающие эмоции, странные, путаные чувства. Момент прозрения и понимания, до какой степени муж был нечестен с ней, наступил вслед за другим открытием, уготованным судьбой, из-за которого ее сердце последние недели сжималось от страха. Джип прежде говорила Уинтону, что не хочет иметь детей. Люди, чье рождение отняло жизнь у их матери или причинило ей большие страдания, иногда бывают инстинктивно настроены против того, чтобы иметь своих детей. Да и Фьорсен не хотел заводить потомство, Джип это хорошо знала. Но теперь не оставалось сомнений – она ждала ребенка. Мало того, она так и не достигла – и теперь уже не могла достигнуть – духовного единения с мужем, делающего брак священным союзом, а принесенные жертвы – радостью материнства. Джип окончательно запуталась в паутине глупой ошибки, вызванной собственной самонадеянностью. Прошло всего несколько месяцев брака, а ей уже ясно, что все пошло насмарку и ничего нельзя поправить! Эта уверенность, представ в новом свете, нагоняла на нее ужас. Чтобы открыть глаза мятущейся, поставленной в тупик души на истинное положение дел, потребовалось неумолимое, естественное событие. Женское сердце плохо переносит крах иллюзий, особенно когда он вызван не только чужими, но в не меньшей степени собственными действиями. Какие планы она строила, какую жизнь себе рисовала! Вознамерилась – неужели? – спасти Фьорсена от себя самого. Смешно. В итоге только потеряла себя. Она и так ощущала себя как в тюрьме, а ребенок и вовсе свяжет ее по рукам и ногам. Некоторых женщин определенность успокаивает. Джип была прямой противоположностью. Давление обстоятельств пробуждало в ней сопротивление. Она могла усилием воли заставить себя уступить, но собственную натуру не переломишь.
Ворковали голуби, пригревало ноги солнце, а Джип переживала самые горькие моменты в своей жизни. На помощь пришла гордость. Пусть она наломала дров, но никому не следует в этом признаваться, и уж тем более отцу, который отчаянно предостерегал ее от ошибки. Что заварила, то теперь и расхлебывай.
Уинтон, когда вернулся, застал дочь улыбающейся.
– Я не вижу, что тебе так в ней понравилось, Джип.
– Разве у нее не идеальное лицо?
– Самое обыкновенное.
– Да, но это впечатление исчезает, когда она танцует.
Уинтон глянул на ее из-под полуопущенных век:
– Исчезает? Вместе с одеждой? А Фьорсен что о ней думает?
Джип улыбнулась:
– А разве он о ней думает? Я не в курсе.
На лице Уинтона возникло настороженное выражение.
– Дафна Глиссе! Не смешите меня! – вдруг вырвалось у него.
Все возмущение и недоверие майора излилось в этих словах.
После ухода отца Джип сидела в саду, пока солнце не скрылось и платье не стало сыреть от росы. Надо думать о других, а не о себе! Говорят, секрет счастья состоит в том, чтобы дарить счастье другим. Она попробует, должна попробовать. Бетти такая толстая, одна нога страдает от ревматизма, но разве она когда-нибудь думает о себе? Или тетка Розамунда, вечно спасавшая бродячих собак, хромых лошадей и нищих музыкантов? А отец, несмотря на свою светскость потихоньку помогавший старым однополчанам и всегда думавший о ней, о том, как ее порадовать? Надо всех любить и дарить им счастье! Возможно ли это? Людей так трудно любить, они не похожи на птиц, животных и цветы, любовь к которым проста и естественна.
Джип поднялась к себе, чтобы переодеться для ужина. Какое из платьев нравится мужу больше всего? Светло-рыжее с вырезом или белое, мягкое, с кружевами цвета кофе с молоком? Она выбрала последнее. Изучая в зеркале свою стройную тонкую фигуру, Джип вдруг почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Скоро она изменится, станет похожей на женщин, осторожно гулявших по улицам, удивлявших ее тем, что без смущения показывали свое «интересное положение». Как несправедливо становиться непривлекательной и неприятной на вид для того, чтобы произвести на свет потомство. Некоторые женщины этим даже гордятся. Как такое возможно? Когда придет время, она ни за что не станет мозолить глаза другим.
Джип закончила одеваться и спустилась на первый этаж. Почти восемь, а Фьорсена все нет. Когда ударили в гонг, она со вздохом облегчения отвернулась от окна и прошла в столовую. Поужинав в обществе двух щенков, Джип отправила их восвояси, а сама села за пианино. Она играла Шопена – этюды, вальсы, мазурки, прелюдии, один или два полонеза. Бетти любила этого композитора, поэтому сидела на стуле за приоткрытой дверью в задние комнаты и слушала. Ей очень хотелось подойти ближе и полюбоваться на свою красавицу в белом платье, сидящую между канделябрами и прекрасными букетами лилий в вазах, так приятно пахнущими. Когда к ней подошла одна из горничных, няня недовольно отогнала ее прочь.
Было уже поздно. Горничные принесли наверх поднос со сладостями и пошли спать. Джип давно перестала играть, была готова подняться в спальню, а пока стояла у застекленных дверей, глядя в темноту. Какая теплая ночь! Тепла хватало, чтобы донести запах жасмина из соседского сада за стеной. В небе ни звездочки. В Лондоне почему-то всегда мало звезд. Посторонний звук заставил ее резко обернуться. В темноте в дверном проеме маячила высокая фигура. Послышался вздох. Джип испуганно спросила:
– Это ты, Густав?
Он что-то промямлил – Джип не поняла, – но быстро закрыла застекленную дверь и подошла к мужу. Свет в передней освещал только половину лица и фигуры Фьорсена. Он был бледен, глаза странно блестели, весь рукав испачкан чем-то белым. Тяжело ворочая языком, Фьорсен произнес:
– Маленькое привидение! – и добавил пару слов по-шведски.
Джип до сих пор не приходилось иметь дел с пьяными, и она просто подумала: «Какой ужас, если кто-нибудь увидит. Какой ужас!» Она поспешила в переднюю, чтобы запереть дверь, ведущую в комнаты прислуги, но Фьорсен поймал ее за платье, оборвав кружева с ворота, схватил скрюченными пальцами за плечо. Джип оцепенела, боясь шума или падения пьяного мужа на пол. Он схватил ее за плечо второй рукой, поддерживая себя в вертикальном положении. Почему она не испытала шок, почему ее не захлестнули горечь, стыд и ярость? Она лишь думала: «Что делать? Как отвести его наверх, чтобы никто ничего не узнал?» Джип заглянула в лицо мужа, такое жалкое – глаза блестят, кожа белая как мел, – и чуть не заплакала.
– Густав, ничего страшного, – спокойно произнесла она. – Обопрись на меня, мы поднимемся наверх.
Руки Фьорсена, словно потеряв силу и цель, прикасались в машинальной ласке к ее щекам. Мучительная жалость, которую она ощущала, была сильнее отвращения. Обхватив мужа за туловище, она повела его к лестнице. Главное, чтобы никто не услышал. Только бы суметь поднять его наверх. Джип пробормотала:
– Не разговаривай. Тебе нехорошо. Обопрись на меня.
Фьорсен как будто силился помочь ей, выпячивал губы и что-то бормотал с гордым видом, над которым можно было бы посмеяться, если бы не трагизм положения.
Вцепившись в мужа изо всех сил, как если бы действительно отчаянно его любила, Джип начала восхождение по лестнице. Все оказалось проще, чем она думала. Осталось перейти на другую сторону лестничной площадки, потом в спальню, и опасность минует. Готово! Муж лежит поперек кровати, дверь закрыта. На мгновение Джип перестала контролировать себя, и ее затрясло, да так, что застучали зубы. Никакого удержу. Она мельком взглянула на свое отражение в большом зеркале. Прекрасные кружева изорваны, на плечах – красные пятна в тех местах, где Фьорсен цеплялся за нее, чтобы не упасть. Она сняла платье, набросила халат и подошла к мужу. Фьорсен впал в прострацию, ей с трудом удалось приподнять его и привалить к спинке кровати. Снимая с него воротничок и галстук, она ломала голову, чего бы ему дать. Нюхательную соль! Это должно помочь. Соль привела Фьорсена в чувство, он даже попытался поцеловать жену. Наконец он лег в постель, и Джип смогла рассмотреть его как следует. Фьорсен закрыл глаза. Можно больше не бояться, что он прочитает чувства на ее лице. Но плакать она не станет. У нее вырвался всего один всхлип, не более. Ничего не оставалось, как лечь самой. Джип разделась и выключила свет. Муж спал мертвецким сном. Джип лежала, глядя в темноту широко открытыми глазами, как вдруг у нее на губах мелькнула улыбка – с какой стати? Она вспомнила глупых юных жен, о коих читала в романах, которые, краснея и дрожа, бормотали на ухо мужьям, что «должны сообщить одну важную новость».
Глава 6
На следующее утро при виде Фьорсена, все еще погруженного в тяжелый сон, Джип первым делом подумала: «Он совершенно такой же». Ей вдруг показалось странным, что ни вчера, ни сейчас она не ощущала отвращения. Ее чувство было глубже отвращения и в то же время не казалось неестественным. Джип восприняла новое проявление беспутного поведения мужа без обиды. К тому же она давно знала о его пристрастии к бренди – он не умел пить так, чтобы не выдать себя.
Джип бесшумно выскользнула из постели, бесшумно сгребла кое-как брошенные на кресле туфли и одежду и унесла в гардеробную. Там, рассмотрев предметы одежды на свет, почистила их и так же бесшумно потихоньку вернулась в кровать и принялась пришивать оторванные кружева. Никто, даже муж, ничего не должен знать. На минуту она позабыла о другом ужасно важном деле. Мысль о нем вернулась внезапно вместе с приступом тошноты. Об этом тоже никто не узнает, пока она будет в состоянии сохранять свой секрет, а уж он узнает последним.
Утро прошло как обычно но, когда она пришла в музыкальный салон, оказалось, что Фьорсен куда-то ушел. В то время как Джип садилась обедать, Бетти с широкой улыбкой на лунообразном лице, которая появлялась, когда кто-нибудь щекотал ее самолюбие, доложила:
– Граф Росек.
Джип в растерянности поднялась:
– Бетти, скажите, что мистера Фьорсена нет дома, но пригласите графа отобедать и принесите рейнвейну.
За несколько секунд до появления гостя Джип объял трепет, как того, кому предстоит вступить в загон с грозным быком.
Однако даже самые строгие критики не могли бы обвинить графа в недостатке учтивости. Он хотел встретиться с Густавом, но счел приглашение на обед очаровательным жестом и с удовольствием его принял.
Словно стараясь угодить ей, Росек на этот раз отказался от корсетов и, надо отдать ему должное, от многих оскорбительных замашек. Он вел себя проще и естественнее обычного. Лицо графа немного загорело – похоже, он стал чаще бывать на воздухе. Росек вел разговор без пошлых полунамеков, похвалил чудесный домик, пылко говорил о музыке и искусстве. Он никогда еще не был менее противен Джип, и все-таки она не ослабляла бдительность. После обеда они прошли через сад в музыкальный салон. Росек сел за пианино. Он уверенно, ласкающе касался клавиш, что выдавало стальную твердость пальцев и чуткое ухо. Джип слушала, сидя на диване. Росек ее не видел, а она смотрела на него и терялась в догадках. Граф играл «Детские сцены» Шумана. Каким образом у человека, способного извлекать столь свежие, идиллические звуки, могли быть недобрые намерения? Через некоторое время она позвала:
– Граф Росек!
– Да, мадам?
– Зачем вы вчера прислали ко мне Дафну Глиссе?
– Я прислал?
– Да.
Джип тут же пожалела, что задала этот вопрос. Граф повернулся на табуретке и уставился на нее. Его лицо стало другим.
– Раз уж вы спросили, я должен сказать, что Густав часто с ней встречается.
Росек ответил именно то, что она предполагала.
– Вы считаете, что я против?
На лице графа дернулся нерв. Он поднялся и спокойно сказал:
– Я рад, что вы не против.
– Почему вы рады?
Она тоже поднялась. Хотя Росек был не намного выше, Джип вдруг угадала, что под щегольским нарядом прячутся мощные стальные мышцы, а лицо скрывает по-змеиному коварную силу воли. У нее ускоренно застучало сердце.
Граф подошел ближе и сказал:
– Я рад, что вы поняли… с Густавом все кончено. Он иссяк.
Он осекся, почувствовав, что допустил промашку, но все еще не понимая, в чем именно. Джип только улыбнулась в ответ. Ее щеки тронул румянец.
– Густав – вулкан, который быстро затухает, – продолжал граф. – Видите ли, я его хорошо знаю. Вам бы тоже не мешало получше его узнать. Почему вы улыбаетесь?
– Зачем мне лучше его знать?
Росек побледнел и процедил сквозь зубы:
– Чтобы не тратить время впустую. Вы еще найдете свою любовь.
Джип по-прежнему улыбалась:
– И вы напоили его вчера вечером ради этой любви?
У нее дрогнули губы.
– Джип! – Она отвернулась, но Росек сделал едва заметный шаг вперед и оказался между ней и дверью. – Вы его никогда не любили. Вот что меня извиняет. Вы и так ему слишком много отдали – больше, чем он заслуживает. Ах, боже мой! Вы меня измучили. Я одержим вами.
Росек побелел, как жаркое пламя, на лице лишь угольками мерцали глаза. Джип стало жутко, но именно поэтому она не отступила. Не лучше ли выбежать через калитку в переулок? Она неожиданно успокоилась, но все еще чувствовала, что граф, видимо сообразив, что напугал ее, пытается сломить сопротивление одной силой взгляда, своего рода гипнозом.
От этой дуэли взглядов ее качнуло, закружилась голова. Казалось, что он приближается дюйм за дюймом, даже не переставляя ног. Джип охватило кошмарное чувство – словно руки Росека уже сомкнулись вокруг нее.
Сделав усилие, она отвела взгляд. Ее внимание внезапно привлекла прическа графа. Волосы, вне всяких сомнений, завивали плойкой. Приступ потешного удивления расколдовал ее сердце, и с губ отчетливо сорвалось:
– Une technique merveilleuse!
Глаза Росека забегали, он беззвучно охнул и приоткрыл рот. Джип пересекла комнату и притронулась к колокольчику. Страх покинул ее. Не сказав больше ни слова, Росек вышел в сад, пересек лужайку и ушел. Она победила врага единственным оружием, против которого не могла устоять самая неистовая страсть, – оружием насмешки, причем насмешки безотчетной. Джип с облегчением вздохнула и нервно дернула за шнурок колокольчика. Вид горничной в аккуратном черном платье с белоснежным передником окончательно вернул ей душевное равновесие. Как могло случиться, что она по-настоящему испугалась, едва не уступила в этой схватке и чуть не попала под власть этого человека – в собственном доме, с горничными, готовыми прибежать по первому зову? Джип спокойно распорядилась:
– Прошу вас, принесите щенков.
– Да, мадам.
В саду лениво нежился в летнем тепле полдень. Удачный год, середина июня. Воздух осоловел от жужжания пчел и ароматов.
У ее ног катались и хватали друг друга зубами щенки. Сидя в тени, Джип мысленно шарила по своему маленькому миру в поисках утешения и хоть какой-нибудь защиты, но не могла найти, как если бы ее окружал плотный горячий пар с прячущимися в нем существами, в котором ей удавалось устоять на ногах лишь за счет гордости и решимости не закричать во весь голос о своем бедственном положении и страхе.
Покинув дом утром, Фьорсен шел пешком, пока не увидел таксомотор. Отклонившись на сиденье и сняв шляпу, он распорядился ехать куда глаза глядят, и побыстрее. Он всегда так делал, когда в мыслях царил сумбур, – дорогостоящая причуда, особенно когда в карманах у тебя свистит ветер. Быстрая езда и щекочущая нервы постоянная близость – на грани столкновения – других автомобилей действовали на него успокаивающе. А сегодня он как никогда нуждался в спокойствии. Просыпаться в своей постели, не помня даже, как туда попал, ему, как и многим другим мужчинам двадцати восьми лет, было не в новинку, однако после вступления в брак это случилось впервые. Было бы легче, если бы он совсем ничего не помнил, но в памяти отложилось, как он стоит в темной гостиной, видит рядом с собой призрачную фигуру Джип и прикасается к ней. Этот образ отчего-то нагонял на него страх. А в страхе он, как и большинство людей, начинал вести себя наихудшим образом.
Если бы Джип была похожа на других женщин, в обществе которых он срывал плоды страсти, он бы не ощущал сейчас столь гнетущего унижения. Если бы она была похожа на остальных, то, продолжая в темпе, взятом после того, как завладел Джип, он бы теперь, говоря словами Росека, «иссяк». Но Фьорсен хорошо знал, что он далеко не «иссяк». Да, он мог напиться вдрызг, мог позволять себе всяческие излишества, однако мысли о Джип не отпускали его, но он так и не смог духовно сблизиться с женой. Ее сила, тайна ее притяжения заключалась в уступчивости. Он чувствовал в ней загадочную восприимчивость природы, которая, даже уступая горячему напору человека, остается безучастной, сохраняя легкую улыбку – неуловимую улыбку лесов и полей, одинаковую и днем и ночью, от которой желание разгорается еще сильнее. Он чувствовал в ней неизмеримое, мягкое, трепетное безразличие цветов, деревьев, ручьев, скал, птичьих трелей, тихий гул вечности яркого солнечного дня и звездной ночи. Ее темные улыбчивые глаза манили его, вызывали неутолимую жажду. Он же принадлежал к числу тех, кто, столкнувшись с душевными затруднениями, немедленно пятился, искал отвлечения, заглушал страдания собственного «я» эскападами. Так ведет себя избалованный ребенок – безрассудно, с прирожденным пафосом; иногда он противен, а иногда, как часто бывает с такими людьми, вызывает умиление. Фьорсен возжелал достать луну с неба, и вот он ее достал, но теперь не знал, что с ней делать, лишь откусывал от нее понемногу, а луна тем временем все больше отдалялась от него. Иногда ему хотелось отомстить за неспособность духовного сближения, и он был готов совершать всяческие глупости. В узде его держала одна лишь работа. Работал он действительно упорно, но и работе уже чего-то недоставало. Он обладал всеми качествами, необходимыми для успеха, не хватало только морального костяка, чтобы не разбрасываться ими, только этот костяк и мог дать ему заслуженное, как он считал, превосходство над другими. Его часто удивляло и раздражало, что какой-нибудь современник котировался выше него.
Фьорсен колесил по улицам на такси и размышлял: «Может, я сделал вчера ночью что-то такое, что ее по-настоящему шокировало? Почему я не дождался ее утром и не узнал, насколько плохо обстоит дело?» Он скривил губы – выпытывать дурные новости он не любил. Мысленные поиски козла отпущения привели его к Росеку. Как у многих эгоистичных ловеласов, у Фьорсена было мало друзей. Росек был одним из самых постоянных, но и к нему Фьорсен подчас испытывал презрение, смешанное со страхом, какое посещает несдержанного, но более одаренного человека при виде менее талантливого, но более волевого собрата. Фьорсен относился к Росеку, как капризный ребенок к няньке, с примесью артиста, особенно исполнителя, не способного прожить без ценителя и мецената с тугим кошельком.
«Черт бы побрал Павла! – подумал он. – Ведь я должен был знать, и я знаю, что его бренди пьется легко, как вода. Можно не сомневаться: он видел, как я дурею! Наверняка что-то задумал. Куда я потом пошел? Как попал домой?» И опять прежняя мысль: «Неужели я обидел Джип?» Хуже всего, если сцену наблюдали слуги. Это страшно ее расстроило бы. Он рассмеялся. Но тут снова нахлынул страх. Фьорсен не понимал Джип, не знал, что она думает или чувствует, вообще ничего о ней не знал. «Как несправедливо! – с негодованием думал он. – Я-то от нее не прячусь. Я открыт, как дитя природы. Ничего не скрываю. Что же я сделал? Горничная как-то странно смотрела на меня сегодня утром». Он вдруг приказал шоферу ехать на Бери-стрит, в Сент-Джеймс. По крайней мере он выяснит, не уехала ли Джип к отцу. Мысль об Уинтоне не давала ему покоя, он несколько раз менял решение в уме, но такси прибыло на маленькую улицу так быстро, что он не успел отдать водителю новое распоряжение. Пока Фьорсен стоял и ждал, когда ему откроют, у него вспотел лоб.
– Миссис Фьорсен у вас?
– Нет, сэр.
– И не приезжала сегодня утром?
– Нет, сэр.
Он пожал плечами, отгоняя мысль, что не мешало бы чем-то объяснить свой неожиданный визит, снова сел в такси и попросил отвезти его на Керзон-стрит. Если Джип не окажется и у тетки Розамунды тоже, тогда все в порядке. Жены там не было. Куда-то еще она не могла уехать. Фьорсен ощутил облегчение и вместе с ним голод, ведь он ушел из дому, не позавтракав. Сейчас он заедет к Росеку, займет денег, чтобы заплатить за такси, и у него же пообедает. Но Росека не оказалось дома, и за деньгами на оплату такси приходилось возвращаться домой. Водитель поглядывал на него искоса, словно сомневался, что ему вообще заплатят.
Проходя под шпалерами, Фьорсен разминулся с вышедшим из дома мужчиной с продолговатым конвертом в руках.
Джип сидела в кабинете и подсчитывала сумму расходов по корешкам в чековой книжке. Она не обернулась, и Фьорсен остановился в ожидании. Как-то она еще его примет?
– Есть что-нибудь на обед? – спросил он.
Джип протянула руку и позвонила в колокольчик. Фьорсен устыдился своего поведения, он был готов заключить ее в объятия и сказать: «Прости меня, маленькая Джип! Я виноват перед тобой!»
На звонок явилась Бетти.
– Принесите что-нибудь поесть мистеру Фьорсену.
Толстуха на выходе громко фыркнула. Она тоже играла роль в этом спектакле. Внезапно Фьорсена охватила ярость.
– Какой муж тебе нужен? Буржуа, который скорее умрет, чем пропустит обед?
Джип обернулась и показала ему чековую книжку.
– Меня ничуть не волнует, пропустишь ты обед или нет. Меня волнует вот это.
Фьорсен прочитал на корешке: «М-ры Траверс и Санборн, портные, счет оплачен: 54 фунта 35 шиллингов 7 пенсов».
– И много еще таких счетов, Густав?
Фьорсен побледнел, что говорило об уязвленном честолюбии, и резко ответил:
– А что такое? Подумаешь, счет! Ты его оплатила? Тебе необязательно платить по моим счетам.
– Этот человек сказал, что, если ты сейчас же не заплатишь, он подаст на тебя в суд. – У нее задрожали губы. – Я считаю долги позором. Иметь долги – значит не уважать себя. Много их у тебя? Прошу, скажи мне правду!
– Я не собираюсь ничего говорить! Тебе-то какое до них дело?
– Очень даже большое. Я содержу этот дом, плачу горничным и хочу знать свое финансовое положение. Я не намерена копить долги. Терпеть этого не могу.
В лице Джип появилась жесткость, какой он прежде не замечал. Фьорсен смутно сознавал, что сегодняшняя Джип сильно отличается от вчерашней, когда он был последний раз в состоянии видеть ее и говорить с ней. Непривычность ее протеста странным образом его встревожила, ранила самомнение, вызвала необъяснимую опаску и в то же время возбудила. Он подошел к ней и примирительно сказал:
– Деньги! К черту деньги! Поцелуй меня!
С выражением нескрываемой досады на лице, немало его удивившей, Джип ответила:
– Проклинать деньги – ребячество. Я готова тратить весь свой доход, но ничего сверх того, и отца просить тоже не стану.
Фьорсен плюхнулся в кресло:
– Ха-ха! Какая добродетельность!
– Нет, гордость.
– Значит, ты мне не веришь, – мрачно констатировал он. – Ты не веришь, что я могу заработать столько, сколько потребуется: больше твоего и в любое время? Ты никогда в меня не верила.
– Я считаю, что ты не сможешь когда-либо зарабатывать больше, чем сейчас.
– Это ты так думаешь! Мне не нужны деньги – твои деньги! Я способен жить налегке, если захочу. Я уже не раз так делал.
– Тсс!
Фьорсен обернулся и увидел в дверях горничную.
– Извините, сэр, водитель просит заплатить за проезд, если вы не хотите продолжать поездку. Двенадцать шиллингов.
Швед уставился на нее взглядом, от которого, как нередко жаловалась горничная, она ощущала себя последней дурой.
– Нет-нет. Заплатите ему.
Девушка взглянула на Джип и кивнула:
– Да, сэр.
Фьорсен расхохотался, держась за бока. Какая насмешка над его последним заявлением! Взглянув на жену, он сказал:
– Правда, смешно, Джип?
Но ее лицо не изменило серьезного выражения. Зная, что нелепицы смешат Джип даже больше, чем его самого, он почувствовал новый приступ страха. Что-то изменилось. Что-то очень сильно изменилось.
– Я тебя обидел вчера вечером?
Джип передернула плечами и подошла к окну. Фьорсен мрачно проводил ее взглядом, вскочил и выбежал в сад. Мгновением позже из музыкального салона зазвучали яростные стенания скрипки.
Джип слушала с горькой усмешкой. Ко всему прочему еще и деньги! Какая теперь разница? Ей не выбраться из западни собственных поступков. Никогда не выбраться. Вечером он опять будет ее целовать, а она будет делать вид, что все в порядке. И так без конца! Что ж, ей некого винить, кроме себя. Вынув из кошелька двенадцать шиллингов, она положила их на конторку, чтобы потом отдать горничной. Джип вдруг подумала: «Быть может, он еще ко мне охладеет. Ах, если бы он ко мне охладел!» Но дорога, ведущая к этому, была намного длиннее той, которую она уже прошла.
Глава 7
Те, кто бывал во время мертвого штиля в тропиках, когда паруса на беспомощном судне повисают как тряпка и надежда на избавление тает с каждым днем, возможно, могли бы понять, какую жизнь теперь вела Джип. Однако на корабле даже самый затяжной штиль когда-нибудь подходит к концу. Но молодая женщина двадцати трех лет, выйдя замуж по ошибке, в которой виновата она одна, не видит никакого просвета, если только не относится к современным дамочкам. Джип к ним не относилась. Решив, что никому не признается в ошибке и будет ждать, стиснув зубы, рождения ребенка, она не открылась даже отцу. С мужем Джип держалась как обычно, стараясь сделать для него быт легким и приятным: аккомпанировала ему, хорошо кормила, принимала его ласки. Да и какая разница? Ведь она никого не любила. Глупо корчить из себя мученицу. Ее дискомфорт, дискомфорт духа, таился намного глубже, был острой, невыразимой тоской человека, своими же руками обрезавшего себе крылья.
К Росеку она относилась так, словно сцены в ее доме никогда не было. Мысль, чтобы в трудную минуту положиться на мужа, улетучилась без остатка после той ночи, когда он явился вдрызг пьяным. Она не решилась рассказать об этой сцене отцу. Не ровен час, он мог что угодно сделать. При этом она оставалась начеку, понимая, что Росек никогда не простит ей унизительной насмешки. Намеки графа насчет Дафны Глиссе она попросту выбросила из головы, чего не смогла бы сделать, если бы любила Фьорсена. Джип воздвигла для себя идола гордости и сделалась верной его поклонницей. Только Уинтон и, возможно, Бетти замечали, что она несчастлива. Долги Фьорсена и безответственное отношение мужа к деньгам мало ее заботили, ведь это она оплачивала все в доме – аренду, жалованье прислуги, питание и собственные наряды. До сих пор она избегала долгов, а на то, как муж вел себя вне дома, не могла повлиять.
Лето медленно подошло к концу, а вместе с ним – концертный сезон. Оставаться в Лондоне стало невозможно, однако переезд страшил ее. Джип хотелось, чтобы ее оставили в покое в ее маленьком доме. По этой причине однажды вечером после театра она рассказала Фьорсену о своем секрете. Тот, сидя на козетке с бокалом в руке и сигаретой в зубах, в этот момент рассуждал об отпуске. На его щеках, побледневших и запавших от эксцессов лондонской жизни, выступил странный тусклый багрянец. Он вскочил и уставился на жену. Джип сделала непроизвольный жест:
– Незачем на меня так смотреть. Я не лгу.
Фьорсен оставил бокал и сигарету на столе и забегал по комнате. Джип стояла с легкой улыбкой, даже не глядя на мужа. Он вдруг схватился за лоб и воскликнул:
– Но я не хочу ребенка! Я не хочу, чтобы дитя испортило мою Джип. – Он подскочил к ней с испуганным лицом. – Я не хочу. Я его боюсь. Откажись от него.
В сердце Джип шевельнулось то же чувство, как в тот вечер, когда он пришел пьяным: скорее сострадание, чем осуждение вздорного поведения. Взяв его за руку, она сказала:
– Все хорошо, Густав. Тебе не следует волноваться. Когда стану некрасивой, я возьму Бетти и уеду отсюда, пока все не закончится.
Фьорсен упал на колени.
– О-о нет! О-о нет! Моя прекрасная Джип!
Она же сидела, как сфинкс, опасаясь, что у нее вырвутся те же слова: «О-о, нет!»
Через открытые окна в комнату влетели ночные бабочки. Одна из них опустилась на цветок гортензии, стоявшей в камине. Джип посмотрела на белое мягкое пушистое существо, чья головка напоминала на фоне голубоватых лепестков крохотную сову, на фиолетово-серые каминные изразцы, ткань своего платья, приглушенный абажурами свет ламп. Это «о-о нет!» бросило вызов ее эстетическому чувству. Скоро она сама станет некрасивой и, возможно, умрет, как умерла ее мать. Джип сжала зубы, выслушивая протест великовозрастного ребенка против того, чему сам был причиной, и покровительственно коснулась его руки.
Она с любопытством наблюдала в тот вечер и на следующий день, как Фьорсен будет переваривать обескураживающую новость. Наконец, поняв, что от природы не убежишь, он, как и предполагала Джип, начал шарахаться от всего, что напоминало о ребенке. Зная о его порочных наклонностях, она не стала предлагать, чтобы он куда-нибудь уехал без нее, но, когда Фьорсен предложил поехать с ним и Росеком в Остенде, Джип, сделав вид, что колеблется, ответила отказом – будет лучше, если она спокойно посидит дома, а ему пожелает как следует отдохнуть.
После отъезда мужа на нее снизошел покой. Такое состояние испытывает больная, обнаружив, что не отпускавшая ее, настырная лихорадка наконец прошла. Как хорошо больше не ощущать странное, беспорядочное присутствие мужа в доме! Проснувшись поутру в душной тишине, она не смогла себя убедить, что ей не хватает его, не хватает шелеста его дыхания, вида всклокоченных волос на подушке, продолговатой фигуры под простыней. В сердце не было ни пустоты, ни боли. Оно лишь ощущало, как приятно, свежо и покойно лежать в постели одной. Джип долго не вставала. Так сладко лежать с настежь распахнутыми окном и дверью, бегающими туда-сюда щенками, проваливаясь в дрему, слушая воркование голубей и далекий уличный шум, вновь ощущать себя хозяйкой своего тела и души. После того как Фьорсен узнал ее секрет, скрывать его от других больше не имело смысла. Решив, что отец обидится, если узнает новость не от нее, она позвонила ему и предложила приехать на Бери-стрит, чтобы вместе пообедать.
Уинтон не уехал из Лондона, потому что в период между скачками в Гудвуде и Донкастере не происходило никаких достойных его внимания событий, а сезон охоты на лис еще не начался. Для столицы август, пожалуй, был самым приятным временем года: в опустевшем клубе можно сидеть, не опасаясь, что к тебе начнет приставать с разговорами какой-нибудь старый зануда. Мастер фехтования, коротышка Бонкарт, всегда готов к поединку – Уинтон давно натренировал левую руку делать все то, что когда-то умела правая. В турецких банях на Джерми-стрит почти не попадалось разжиревших завсегдатаев. Можно было прогуляться до Ковент-Гардена, купить дыню и вернуться домой пешком, не встретив на Пикадилли ни одну из герцогинь за исключением самых малообеспеченных. Теплыми вечерами он любил бродить по улицам или паркам с сигарой в сдвинутой назад, чтобы остудить лоб, шляпе, ворочая в голове случайные мысли, вспоминая случайные эпизоды своего прошлого. Он не без удовольствия получил известие, что дочь сейчас одна и свободна от общества этого субъекта. Куда пригласить ее на ужин? Миссис Марки взяла отгул. Почему бы не в «Блафар»? Там тихо, залы небольшие, не слишком респектабельные, всегда прохладно, хорошее меню. Точно, в «Блафар»!
Когда она приехала, Уинтон уже ждал на пороге. Тонкое обветренное лицо, острый взгляд из-под опущенных век – образец собранности, хотя сердце ликовало как у мальчишки, которому позволили провести уикенд у товарища. Как прекрасно она выглядит! Правда, немного бледна от лондонской жизни. Какие у нее черные глаза, какая улыбка! Поспешно приблизившись к такси, он сказал:
– Нет, я с тобой, давай поедем в «Блафар», Джип, гульнем сегодня вне дома!
Уинтон вошел вслед за дочерью в маленький ресторан, испытывая истинное удовольствие от того, что посетители в красных зальчиках с низкими потолками один за другим поворачивают головы и смотрят на него с завистью, вероятно, принимая их и Джип за пару иного рода. Он усадил дочь в дальнем углу у окна, откуда она могла все видеть, а другие могли видеть ее. Уинтону очень хотелось, чтобы ее видели, в то время как сам он повернулся к окружающему миру гладкими седеющими прядями на затылке. Он не собирался позволять этим евеям, амореям и прочим бездельникам, лакающим шампанское и потеющим от духоты, испортить им праздник, ибо никто не знал, что сегодня он вновь переживает один заветный вечер, когда обедал в этом самом углу с матерью Джип. В тот вечер его лицо принимало на себя все взгляды, а она сидела к любопытным спиной. Но Уинтон не стал рассказывать об этом дочери.
Джип выпила два бокала вина и только тогда сообщила новость отцу. Он воспринял ее с хорошо знакомым выражением – поджав губы и глядя куда-то поверх ее головы, – потом тихо спросил:
– Когда?
– В ноябре, отец.
По телу Уинтона пробежала неконтролируемая дрожь. В том же месяце! Протянув руку, он крепко сжал ее ладонь.
– Все будет хорошо, дитя мое. Я рад.
Не отпуская его руку, Джип пробормотала:
– А я нет, но бояться не буду – обещаю.
Оба пытались обмануть друг друга, и оба – безуспешно. Однако и отец и дочь умели принимать невозмутимый вид. Кроме того, это был ее первый вечер вне дома после вступления в брак: момент свободы, забытого ощущения, когда весь мир – твой бальный зал и перед тобой открыты все пути. А для Уинтона наступил момент возобновления ничем не отягощенной родственной близости и тайных блаженных воспоминаний о прошлом. После замечания вслух: «Так значит, он уехал в Остенде?» – и мысли: «Ну еще бы!» – они больше не возвращались к Фьорсену. Разговор шел о лошадях, Милденхеме – Джип казалось, что она не была там несколько лет – и ее детских шалостях. Глядя на Уинтона с веселым любопытством, она спросила:
– А каким был в детстве ты, отец? Тетя Розамунда говорит, что мальчиком ты иногда впадал в такую ярость, что к тебе боялись подойти. Якобы ты всегда лазал по деревьям, стрелял из рогатки, выслеживал дичь и никогда никому не доверял то, что хотел оставить при себе. И правда ли, что ты без памяти влюбился в свою няню-гувернантку?
Уинтон улыбнулся. Как много времени прошло после этого первого увлечения! Мисс Хантли! Елена Хантли – завитки каштановых волос, голубые глаза, умопомрачительные платья. Он помнил, с какой тоской и горькой обидой воспринял во время первых школьных каникул известие о ее уходе.
– Да-да, – подтвердил он. – Боже мой, как давно это было! Мой отец как раз собирался ехать в Индию. Больше мы его не видели – погиб в первую афганскую кампанию. Когда я влюблялся, то любил по-настоящему. Но я не воспринимал вещи так же тонко, как ты, у меня не было и половины твоей чувствительности. Нет, я совсем не был похож на тебя, Джип.
Наблюдая за рассеянным взглядом дочери, которым она следила за движениями официантов – не нацеливая взгляд, но в то же время вбирая все происходящее вокруг, – он подумал: «Она самое прелестное существо на свете!»
– Чего бы тебе сейчас еще хотелось? – спросил он. – Может быть, съездим в театр или мюзик-холл?
Джип покачала головой. Слишком жарко. Может, просто прокатиться и посидеть в парке? Было бы очень мило. Опускались сумерки, изнуряющая духота немного спала, свежий ветерок приносил аромат деревьев на площадях и в парках, перемешанный с запахами конского навоза и бензина. Уинтон назвал тот же, что и в тот далекий памятный вечер, адрес: Найтсбридж-Гейт, – когда стояла прекрасная погода, ночной бриз дул в лицо, а не так, как в этих чертовых такси, – сзади в шею. Они вышли из машины, пересекли Роттен-роу и приблизились к деревьям у оконечности озера Лонг-Уотер. Там они присели бок о бок на два сдвинутых и накрытых сюртуком Уинтона стула. Роса еще не выпала. Тяжелая листва повисла без движения. В теплом воздухе витали сладкие ароматы. На фоне деревьев и травы выделялись другие темные, темнее сумерек, молчаливые пары. Тишина повсюду, если не считать непрерывного шума транспорта. Дым сигары, слетая с губ Уинтона, поднимался в небо ленивыми кольцами. Майор предавался воспоминаниям. Сигара в зубах дрогнула, с нее сорвался длинный столбик пепла. Уинтон машинально вскинул руку, чтобы смахнуть его, – правую руку!
– Какие приятные, теплые, таинственные сумерки, – раздался голос Джип у самого его уха.
Уинтон вздрогнул, будто, очнулся от грез наяву, и, тщательно отряхнув пепел левой рукой, ответил:
– Да, очень мило. Вот только сигара потухла, а я не захватил спички.
Джип взяла отца под руку:
– Эти влюбленные, их темные фигуры, шепот, они придают сцене особое своеобразие. Ты это тоже чувствуешь?
– Безлунная ночь! – пробормотал в ответ Уинтон.
Они снова замолчали. Дуновение ветра взъерошило листья, ночной воздух как будто в один миг наполнился шепотом голосов. Тишину разрезал хохоток девушки: «Ах, Гарри, перестань!»
Джип поднялась:
– Я уже чувствую росу, отец. Может быть, пойдем?
Чтобы не намокла тонкая обувь Джип, они шли по дорожкам и болтали на ходу. Волшебство исчезло. Вечер опять стал обычным лондонским вечером, парк – земельным участком с сухой травой и дорожками, посыпанными гравием, влюбленные – обыкновенными, свободными от работы клерками и продавщицами.
Глава 8
Письма Фьорсена вызывали у Джип долго не проходившую улыбку. Муж писал, что страшно скучает по ней. Ах, если бы она могла быть с ним! И так далее и тому подобное, что почему-то никак не противоречило картинам на редкость приятного времяпровождения. Письма содержали просьбы выслать денег, но старательно избегали отчета о каких-либо конкретных событиях. Джип выкраивала денежные переводы из похудевшего бюджета, ведь это был и ее отпуск тоже, и она могла себе позволить за него заплатить. Она даже нашла магазин, скупавший драгоценности, и не без злорадного торжества отправила мужу все вырученные средства. Ей и Фьорсену их хватило еще на одну неделю.
Однажды вечером она сходила с отцом в «Октагон», где все еще выступала Дафна Глиссе. Вспомнив восхищенный писк девушки в своем саду, Джип на следующий день запиской пригласила Дафну пообедать вместе, а после обеда понежиться в тени деревьев.
Танцовщица с готовностью приняла приглашение. Она приехала бледной и понурой от духоты, но роскошно одетой в шелковое платье из магазина Артура Либерти и соломенную шляпу с опущенными полями. Они пообедали пикальным мясом, мороженым, фруктами, после чего настал черед кофе и сигарет, а также множества леденцов и конфет, разложенных в самой густой тени. Джип сидела в низком плетеном кресле, Дафна – на подушках, брошенных на траву. После вступительных восклицаний она проявила себя большой говоруньей и принялась безо всякого стеснения изливать свою душу. Джип умела слушать и получала удовольствие, какое получает человек, которому исповедуются о другой, не похожей на его собственную, жизни, да еще при этом считают его существом высшего порядка.
– Разумеется, я не задержусь дома дольше необходимого. Вот только негоже входить в жизнь, – это выражение Дафна часто употребляла, – не узнав сначала своего положения. В моей профессии надо держать ухо востро. Разумеется, некоторые думают, что она хуже, чем на самом деле. На отца иногда находит. Вы себе не представляете, миссис Фьорсен, как ужасна обстановка у нас дома. У нас подают на стол старую баранину. Вы понимаете, о чем я говорю? Запах старой баранины в спальне в жаркий день – это тихий ужас. И заниматься негде. Мне хотелось бы иметь студию в каком-нибудь милом местечке: у реки, например, или рядом с вашим домом. Вот было бы здорово! Кстати, я уже начала потихоньку откладывать деньги. Как только наберется двести фунтов, я сбегу. Было бы прелестно вдохновлять художников и музыкантов. Я не хочу быть обычным «номером» и заниматься из года в год одним балетом. Я хочу быть не такой, как все. Моя мать – глупая женщина, которая страшно боится любого риска. Так я ни за что не продвинусь. Нет, с вами так приятно беседовать, миссис Фьорсен, ведь вы достаточно молоды, чтобы понимать мои чувства. Я уверена, что вас не шокирует ни один вопрос. Я хотела бы спросить о мужчинах. Что лучше: выйти замуж или взять себе любовника? Говорят, настоящей артисткой невозможно стать, пока не испытаешь страсть. Но если выйти замуж, то опять начнется старая баранина и, возможно, дети. А если еще и муж плохой попадется… Брр! Но, с другой стороны, я не хочу выглядеть вульгарно. Я терпеть не могу вульгарных людей, просто ненавижу их. Что вы думаете? Это ужасно трудный вопрос, правда?
Джип совершенно серьезно ответила:
– Подобные вещи обычно улаживаются сами собой. Я бы не стала беспокоиться прежде времени.
Мисс Дафна Глиссе уткнула подбородок в кулачок и задумчиво произнесла:
– Да, я тоже так думала. Конечно, можно сделать и так и эдак. Но, знаете ли, я совершенно не ценю невыдающихся мужчин. Мне кажется, что я смогу влюбиться только в по-настоящему выдающегося мужчину. Ведь вы тоже так поступили, не правда ли? Так что вы-то меня точно поймете. Я считаю мистера Фьорсена на удивление выдающимся человеком.
Луч солнца неожиданно коснулся открытой шеи Джип, благополучно погасив противоречивые чувства в душе и готовую вырваться наружу усмешку. Она сохранила серьезное лицо, а Дафна Глиссе продолжила:
– Конечно, если я задам такой вопрос матери, она выйдет из себя, а что сделает отец, вообще невозможно себе представить. Но ведь это важно, не так ли? Можно с самого начала свернуть не в ту сторону, а я действительно хочу преуспеть в жизни. Я обожаю свое занятие и не хочу, чтобы любовь была препятствием: она должна помогать. Граф Росек говорит, что моему танцу не хватает страсти. Интересно, вы тоже так считаете? Вам я поверю.
Джип покачала головой:
– Я не могу судить.
Дафна бросила на нее укоризненный взгляд:
– Ах, я уверена, что как раз вы можете! Будь я мужчиной, я бы страстно полюбила вас. Я готовлю новый танец – нимфы, преследуемой фавном. Очень трудно почувствовать себя нимфой, когда за тобой гонится не фавн, а балетмейстер. Вы тоже считаете, что моему танцу не хватает страсти? Мне положено все время убегать, но не лучше ли сыграть тоньше, создать впечатление, будто я не против, чтобы меня поймали? Вы согласны?
Джип неожиданно сказала:
– Да, я думаю, что любовь пошла бы вам на пользу.
Рот мисс Глиссе приоткрылся, глаза округлились.
– Вы меня напугали своими словами. У вас был такой необычный взгляд… такой напряженный.
Теперь в душе Джип действительно полыхнуло пламя. Пустая неопределенная болтовня о любви вызвала у нее инстинктивное отторжение. Она не хотела любви, не сумела полюбить. Однако, чем бы ни была любовь, это чувство не терпит праздной болтовни. Как у этой простушки из предместья получается, всего лишь встав на пуанты, вызывать бурю эмоций?
– Знаете, что доставило бы мне истинное наслаждение? – продолжала Дафна Глиссе. – Однажды вечером станцевать для вас в этом саду. Как здорово было бы выступить под открытым небом. Трава сейчас жесткая, удобная. Боюсь только, прислуга будет шокирована. Они сюда заглядывают? – Джип покачала головой. – Я могла бы станцевать перед окном гостиной, но только при лунном свете. Могу приехать в любое воскресенье. У меня есть номер, где я изображаю цветок лотоса, – лучше не придумать! И еще мой настоящий лунный танец под музыку Шопена. Я могла бы взять наряды с собой и переодеться в музыкальном салоне, не так ли? – Поерзав, Дафна уселась, скрестив ноги, посмотрела на хозяйку дома и всплеснула руками. – Ах, вы позволите?
Ее энтузиазм передался Джип. Желание угодить, необычность затеи и реальный интерес к мастерству этой девушки заставили ее сказать:
– Да, давайте так и сделаем – в следующее воскресенье.
Дафна Глиссе вскочила, подбежала и поцеловала Джип. Губы у нее были мягкие и благоухали флердоранжем. Джип не любила неожиданных поцелуев, и немного отстранилась. Мисс Дафна же, смутившись, опустила голову и произнесла:
– Вы так милы. Я не удержалась, честное слово.
Джип в знак прощения пожала ей руку.
Они вошли в дом, чтобы на пробу сыграть сопровождение для двух танцев. Вскоре Дафна Глиссе, насытившись сладостью леденцов и надежд, ушла.
В следующее воскресенье она прибыла ровно в восемь вечера с маленьким зеленым холщовым саквояжем, в котором лежали ее наряды. Она держалась робко и – вероятно потому, что наступило время выполнять обещанное, – с некоторой опаской. После салата из лобстеров, рейнвейна и персиков девушка опять осмелела. Дафна поглощала еду с большим аппетитом. Очевидно, ей было все равно, на полный желудок выступать или на пустой, однако от сигареты она отказалась.
– Это плохо для вашего… – она не договорила.
Когда они закончили ужин, Джип заперла собак в дальних комнатах, опасаясь, что песики порвут наряд мисс Глиссе или цапнут ее за икру. Затем, не включая свет, чтобы не пропустить появления луны, они перешли в гостиную. Хотя наступала последняя ночь августа, зной по-прежнему не спадал, в воздухе стояло глубокое неподвижное тепло. Восходящая луна прорезала узкие полоски света в густой листве. Они говорили вполголоса, невольно подыгрывая атмосфере сцены побега. Когда луна поднялась над деревьями, обе на цыпочках прошли через сад в музыкальный салон. Джип зажгла свечи.
– Вы сами справитесь?
Дафна уже сбросила половину одежд.
– Ах, я так волнуюсь, миссис Фьорсен! Надеюсь, вам понравится мой танец.
Джип вернулась в пустой дом – отпустить прислугу в воскресный вечер не составило труда. Она села за пианино и повернулась в сторону сада. В его дальнем конце в темноте вдруг мелькнул неясный белый силуэт и замер без движения, словно под деревьями притаился куст с белыми цветками. Мисс Глиссе остановилась в ожидании луны, а Джип заиграла короткую сицилийскую пастораль, которую, спускаясь с гор, наигрывают на своих свирелях пастухи. Мелодия звучала сначала мягко, исподволь, потом стала нарастать, набирать силу, вплоть до мощного каданса, затем вновь опадать, пока не растворилась в тишине. Луна поднялась над макушками деревьев. Ее свет пролился на боковой фасад дома, на траву, медленно подполз к тому месту, где ждала балерина. Лунный свет упал на подсолнухи у садовой стены, отчего те приняли волшебный, неземной оттенок – то ли золота, то ли другого неведомого металла.
Джип заиграла мелодию танца. Бледное пятно в темноте шевельнулось. Лунный свет упал на Дафну, которая держала в раскинутых руках концы своего одеяния, как белая крылатая статуя, затем, словно гигантский мотылек, сорвалась с места, уверенно и бесшумно пролетела над травой, сделала оборот и как будто зависла в воздухе. Луна высветила силуэт головы, облила ее бледным золотом. В тишине и сиянии, окрасившем подсолнухи и волосы танцовщицы неземным цветом, казалось, что в сад спустилась фея и порхает туда-сюда, не в силах вырваться из западни.
Голос за спиной Джип произнес:
– Боже, кто это? Ангел?
Фьорсен стоял в темной комнате и смотрел в сад, где напротив окна словно зачарованная замерла девичья фигура с круглыми, как блюдца, глазами, разинутым ртом и руками, замершими в позе неожиданности и испуга. Дафна вдруг резко повернулась, собрала свои вещи и убежала, мелькая пятками в лунном свете.
Джип снизу вверх посмотрела на неожиданно появившегося мужа. Она видела только его глаза, преследовавшие убегающую нимфу. А вот и фавн мисс Дафны! Да у него даже уши заостренные! Почему она раньше не замечала, как сильно он похож на фавна? Нет, замечала – в первую брачную ночь! Джип спокойно произнесла:
– Дафна Глиссе репетирует новый танец. Ты вернулся. Почему не сообщил? У тебя все в порядке? Ты замечательно выглядишь.
Фьорсен наклонился и схватил ее за плечи:
– Моя Джип! Поцелуй меня!
Но даже когда их губы соприкоснулись, Джип скорее почувствовала, чем увидела, что он все еще смотрит в сад, и подумала: «На самом деле он хотел бы поцеловать эту девушку».
Пока Фьорсен забирал вещи из такси, Джип прибежала в музыкальный салон.
Мисс Дафна Глиссе, успев одеться, укладывала наряды в зеленый холщовый саквояж. Она подняла голову и жалобно сказала:
– Ах, он недоволен? Скверно вышло, правда?
Джип с трудом подавила желание расхохотаться:
– Главное – чтобы вы были не в обиде.
– Ах, если вы не в обиде, то я тем более! Вам понравился танец?
– Очень мило! Когда закончите, приходите к нам.
– Ах, я лучше домой поеду. Как-то очень глупо получилось.
– Вы можете выйти через заднюю калитку в переулок. Оттуда поверните направо, на главную улицу.
– Ах, конечно! Спасибо. Было бы лучше, если бы он смог увидеть, как я танцую, в подходящем месте. Что он обо мне подумает?
Джип с улыбкой открыла калитку, а когда вернулась в дом, Фьорсен стоял у окна и смотрел в сад. Кого он там высматривал: ее или убегающую нимфу?
Глава 9
Миновали сентябрь и октябрь. Состоялось еще несколько концертов, посещаемость упала. Фьорсен приелся, к тому же его исполнению не доставало приторности и сентиментальности, которые так любит широкая публика. Вдобавок разразился финансовый кризис, но Джип на это обращала мало внимания. В тени предстоящего события все остальное казалось посторонним и нереальным. В отличие от большинства будущих мам она не шила распашонок и не делала никаких приготовлений. Зачем, если все это может никогда не пригодиться? Она часто аккомпанировала Фьорсену, но для себя не играла, читала много книг – поэзию, романы, жизнеописания, – проглатывая их и тут же забывая, как бывает с книгами, которые читают лишь для того, чтобы отвлечься от тяжких мыслей. Уинтон и тетя Розамунда по молчаливому уговору по очереди приезжали после обеда каждые два дня. Уинтон, которого предстоящие роды удручали не меньше, чем Джип, повидавшись с ней, садился на вечерний поезд и весь следующий день проводил на скачках или охоте на лис, возвращаясь утром для нового послеобеденного визита. Это помогало избегать жутких предчувствий и не смотреть в лицо тоске, которой оборачивались ничем не занятые дни.
Бетти, присутствовавшая при рождении Джип, пребывала в странном состоянии. Желанность события для женщин, расположенных к материнству, но обреченных не иметь детей, вступала в ужасный конфликт со старыми воспоминаниями; тревога за ее красавицу была намного сильнее той, какую она испытывала бы за свою собственную дочь. То, что ромашка считает естественным событием для ромашек, вызывает у нее благоговейный трепет, когда то же самое случается с розой. Другая незамужняя женщина пожилого возраста, тетка Розамунда, была полной противоположностью Бетти: длинный тонкий нос у одной против пуговки у другой, сознание собственных прав по факту рождения против полного отсутствия понятия о правах, тягучее, аристократическое произношение против добродушного сиплого говорка, высокий рост против необъятной талии, решительность против покорности судьбе, чувство юмора против его отсутствия, несварение желудка против зверского аппетита, и так почти во всем. Однако и тетка Розамунда тоже беспокоилась, насколько могла беспокоиться натура, напрочь отвергавшая беспокойство и обычно вынуждавшая его отступить, несолоно хлебавши, шутками и презрительным тоном.
Однако в окружении Джип любопытнее всего вел себя Фьорсен. Он не делал даже элементарных попыток скрыть состояние своего ума, а состояние это было, как ни странно и прискорбно, примитивным. Ему хотелось вернуть прежнюю Джип. Опасения, что она никогда не станет прежней, подчас пугали его настолько, что он напивался и являлся домой почти в таком же состоянии, как первый раз. Джип частенько помогала ему добраться до кровати. Два-три раза его страдания были так велики, что он вообще не приходил ночевать. Для объяснения поведения мужа Джип выдумала небылицу, что Фьорсен, если концерт заканчивался поздно, оставался ночевать у Росека, чтобы не тревожить ее. Что на самом деле думала прислуга, она не знала. Она также никогда не спрашивала мужа, где он пропадал, – отчасти из гордости, отчасти потому, что считала, будто не имеет на это права.
Сознавая неприглядность своего состояния, Джип была убеждена, что столь вспыльчивый и нетерпимый к уродству человек больше не может считать ее привлекательной. Более глубоких чувств к ней у него, похоже, вовсе не было. Фьорсен определенно ни в чем не отказывал себе и не приносил никаких жертв. Если бы она любила, то всем бы пожертвовала ради любимого человека. Но, с другой стороны, она ведь никогда не полюбит! И все-таки муж, похоже, по-своему тревожился за нее. Поди разберись! Возможно, долго разбираться не придется: Джип часто казалось, что она умрет. Да и как можно жить, тая в душе обиду на свою судьбу? Где почерпнуть силы, чтобы такое преодолеть? Поэтому по временам она думала, что смерть не такой уж плохой выход. Жизнь обманула ее, или, скорее, она сама себя обманула, своими руками разрушила собственную жизнь. Неужели всего год прошел с того славного дня на охоте, когда она, отец и молодой человек с ясными глазами и заразительной улыбкой неслись наперегонки с собаками по полю, с того рокового дня, когда на них как снег на голову свалился Фьорсен с предложением женитьбы? Джип охватила непреодолимая тоска по Милденхему, желание уединиться в поместье с отцом и Бетти.
Она уехала туда в начале ноября.
Решение жены об отъезде Фьорсен воспринял, как капризный ребенок, который выбился из сил, но по-прежнему отказывается идти спать. Он говорил, что не перенесет разлуки и прочее в таком же духе, но, стоило жене уехать, как в тот же вечер закатил грандиозную попойку в духе богемы. «В пять часов я проснулся с ужасным холодом в сердце, – написал он в письме Джип на следующий день. – Какое это жуткое чувство, моя Джип! Я несколько часов ходил туда-сюда по комнате» – (На самом деле не более получаса.) – Как я перенесу разлуку с тобой? Я чувствую себя брошенным».
Через неделю он уехал с Росеком в Париж. «Я не выдержал вида улиц, сада, нашей комнаты. Когда вернусь, остановлюсь у Росека. Приеду ближе к сроку, я должен навестить тебя». Прочитав эти строки, Джип попросила отца: «Когда он приедет, не посылай за ним. Я не хочу его здесь видеть».
После этих писем она окончательно распрощалась с надеждой, что где-то глубоко в душе мужа еще сохранилось нечто прекрасное и тонкое, как те звуки, которые он извлекал из скрипки. И все-таки его письма были по-своему искренни, трогательны и пропитаны определенным настроением.
С первой же минуты после возвращения в Милденхем ощущение безнадежности начало уходить, и Джип впервые почувствовала желание жить ради новой жизни, которую носила в себе. Первый раз это чувство возникло на пороге детской, где все осталось по-прежнему с того дня, когда в восьмилетнем возрасте она вошла сюда. Вот старый кукольный домик, у которого можно открыть боковую сторону и увидеть все этажи внутри, вот видавшие виды жалюзи, сотни раз опускавшиеся со знакомым стуком, вот высокая каминная решетка, рядом с которой она часто лежала, положив подбородок на руки и читая сказки братьев Гримм, «Алису в стране чудес» или очерки по истории Англии. Возможно, и ее ребенку посчастливится жить среди этих старых знакомых. Ей вдруг пришло в голову, не встретить ли свой час в детской, а не в комнате, где спала в юности. Ей не хотелось нарушать элегантность этой комнаты. Пусть она остается местом, где прошли ее девичьи годы. Зато в детской надежно и уютно! Пробыв в Милденхеме неделю, Джип попросила Бетти перенести ее вещи в детскую.
В доме в это время не было никого спокойнее самой Джип. Бетти грешила тем, что украдкой плакала под лестницей. У миссис Марки совсем разладилась стряпня. Мистер Марки начал забываться и нередко вступать в разговоры. Уинтон заставил лошадь совершить отчаянный прыжок, чтобы срезать путь к дому, и она сломала ногу, поэтому, вернувшись, он был безутешен. Когда Джип находилась в комнате, он, делая вид, что хочет погреть руки или ноги, нарочно проходил мимо, чтобы коснуться ее плеча. В обычно размеренный и сухой голос Уинтона проникали нотки тайной тревоги. Джип, всегда остро ощущавшая отношение к себе, купалась во всеобщей любви. Удивительно, как все они заботятся о ней! Чем она заслужила такое ласковое обращение – в особенности тех, кому доставила своим браком столько горьких минут? Сидя у камина и глядя в огонь широко открытыми, немигающими, как у совы ночью, глазами, Джип размышляла, чем отблагодарить отца, которого чуть не лишила жизни самим фактом своего появления на свет. Она стала мысленно приучать себя к грядущей боли, осваивать территорию неведомого страдания, чтобы оно не настигло ее врасплох, заставив корчиться и кричать.
Ей часто снился один и тот же сон: она погружается все глубже и глубже в пуховую перину, ей становится все жарче, она все больше увязает в бесплотной массе, которая не дает на себя опереться, но и не позволяет провалиться до самого низа, до твердого дна. Очнувшись однажды от этого сна, она провела остаток ночи, завернувшись в два одеяла, на старом диване, где ребенком ее заставляли ежедневно смирно лежать на спине с двенадцати до часу пополудни. Бетти была поражена, обнаружив ее утром спящей на диване: Джип настолько напомнила ей ребенка, лежавшего там в прежние времена, что бывшая нянька потихонечку вышла и все утро роняла слезы в чашку с чаем. Поплакав, она успокоилась и принесла чай своей красавице, заодно отчитав за то, что заснула в неподходящем месте да еще и с потухшим камином.
Джип же только сказала в ответ:
– Милая Бетти, чай совсем остыл. Пожалуйста, приготовьте мне новый.
Глава 10
С того дня, как прибыла сиделка, Уинтон перестал ездить на охоту: боялся отойти от дома больше чем на полчаса. Недоверие к врачам не мешало ему каждое утро проводить десять минут со старым доктором, лечившим Джип от свинки, кори и прочих детских болезней. Старина Ривершоу был занятным обломком былых времен. От него пахло резиновым плащом, щеки были с лиловым оттенком, вокруг лысины – венчик волос, как некоторые утверждали, крашеных, серые глаза на выкате слегка налиты кровью. Он был мал ростом, страдал одышкой, пил исключительно портвейн, подозревался в нюхании табака, читал «Таймс», всегда говорил сиплым голосом и делал визиты в экипаже Брогама, запряженном старой вороной клячей. Однако доктор славился хитрыми приемами, победившими множество заболеваний, и пользовался высокой репутацией в деле успешного появления на свет его новых обитателей. Ежедневно ровно в полдень во дворе раздавался скрип колес маленького экипажа. Уинтон поднимался, с глубоким вздохом шел в столовую, доставал из буфета графин с портвейном, корзинку с бисквитами и одиночный бокал, после чего стоял, глядя на дверь, пока на пороге не появлялся врач, и спрашивал:
– Ну что, доктор? Как она?
– Неплохо, очень даже неплохо.
– Причин для беспокойства нет?
Врач, надувая щеки и косясь на графин, бормотал:
– Сердце в порядке, главная забота… немного… э-э… ничего страшного. Все идет своим чередом.
Уинтон, еще раз глубоко вздохнув, говорил:
– Бокал портвейна, доктор?
Врач изображал приятное удивление.
– Холодный день… э-э… была не была… – И сморкался в лиловый носовой платок в красный горошек.
Наблюдая, как доктор поглощает портвейн, Уинтон интересовался:
– Вы можете явиться по первому зову, не так ли?
Врач, облизнув губы, отвечал:
– Не беспокойтесь, дорогой сэр! Мы давние друзья с маленькой мисс Джип. Я к ее услугам в любое время дня и ночи. Не беспокойтесь.
На Уинтона снисходило ощущение уверенности, продолжавшееся еще минут двадцать после того, как затихал скрип колес и рассеивались сложные запахи, оставленные гостем.
В эти дни самым близким другом Уинтона был старый золотой швейцарский «Брегет» с треснувшим циферблатом в корпусе, ставшим гладким и тонким от долгого использования, – любимая игрушка Джип в детстве. Майор доставал часы каждые пятнадцать минут, смотрел на них отсутствующим взглядом, вертел в пальцах теплый от контакта с телом корпус и совал обратно в карман, после чего прислушивался. Повода прислушиваться не было никакого, но он ничего не мог с собой поделать. Помимо этого, главным развлечением было взять рапиру и поточить о кожаную подушечку, прикрепленную к верху низенького книжного шкафа. Эти занятия перемежались регулярными визитами в комнату рядом с детской, в которую Джип перевели, чтобы ей не приходилось ходить по лестнице, да в оранжерею в надежде обнаружить новый цветок, чтобы поднести его дочери. На это уходило все время за исключением еды, сна и курения сигар, которые то и дело потухали.
По просьбе Джип отцу не сообщили о начале схваток. Когда первый приступ боли схлынул и она в полудреме лежала в старой детской, Уинтон случайно поднялся наверх. Сиделка, миловидная особа, одна из свободных, независимых субъектов рыночной экономики, которых за последнее время расплодилось несметное количество, встретила его в малой гостиной. Привыкшая к суетливости и тревожности мужчин в такие часы, она приготовилась прочитать хозяину дома небольшую нотацию. Однако наткнувшись на выражение лица Уинтона и чутьем уловив, что перед ней человек, чье умение держать себя в руках не требует доказательств, она всего лишь прошептала:
– Началось. Но вы не беспокойтесь, она пока не страдает. Мы скоро пошлем за врачом. Она очень храбрая. – И с непривычным для нее чувством уважения и жалости повторила: – Не беспокойтесь, сэр.
– Если она захочет позвать меня, я буду в своем кабинете. Сделайте все возможное, чтобы ей помочь, сестра.
Сиделка сама удивилась, как у нее вдруг вырвалось это «сэр». Она не говорила ничего подобного бог знает с каких времен. В задумчивости она вернулась в детскую, где Джип сразу же угадала:
– Мой отец приходил? Я же просила не говорить ему.
Сиделка машинально ответила:
– Все хорошо, моя дорогая.
– Как вы думаете, сколько еще… сколько пройдет времени, прежде чем это опять начнется? Я бы хотела повидать его.
Сестра погладила ее по волосам:
– Скоро все закончится, и вы будете в порядке. Мужчины всегда паникуют.
Джип посмотрела на нее и тихо произнесла:
– Да? Видите ли, моя мать умерла, когда рожала меня.
Сиделка, посмотрев на еще бледные от боли губы роженицы, ощутила непривычный укол совести и, поправив постель, сказала:
– Ничего… такое бывает… то есть, я хотела сказать, к вам это не относится.
Увидев улыбку Джип, она призналась:
– Ну и дура же я.
– Если случится, что не выживу, я хочу, чтобы меня кремировали. Я хочу уйти как можно быстрее. Мысль о чем-то другом мне несносна. Запомните, сестра? Я не могу сейчас просить об этом отца: он расстроится, но вы должны мне обещать.
Сиделка подумала: «Такие вещи не делаются без составления завещания или какого-нибудь еще документа, но лучше пообещать. Мрачная причуда, хотя девушка отнюдь не выглядит мрачной», а вслух сказала:
– Очень хорошо, дорогуша, но только с вами ничего подобного не случится. Даже не сомневайтесь.
Джип снова улыбнулась и, помолчав с минуту, сказала:
– Мне ужасно стыдно, что я требую к себе столько внимания и заставляю людей переживать. Я читала, что в Японии женщины потихоньку куда-нибудь уходят и там ждут своего часа.
Сестра, все еще поправляя постель, рассеянно пробормотала:
– Да, это хороший способ. Но вас не ждет и половины невзгод, через которые большинство проходят. Вы в хорошем состоянии, и у вас все будет превосходно. – И подумала: «Как странно! Она ни разу не упомянула о муже. Такой не пристало рожать – слишком совершенна, слишком чувствительна, и лицо такое трогательное».
Джип пробормотала:
– Я хочу видеть отца. Пожалуйста. И побыстрее.
Сиделка, быстро взглянув на нее, вышла.
Джип, сжав кулаки под простыней, остановила взгляд на окне. Ноябрь! Желуди, палая листва, приятный сырой запах от земли. Желуди разбросаны в траве. В детстве она запрягала старого ретривера и каталась по лужайке, усыпанной желудями и мертвой листвой. Ветер еще срывал ее остатки с деревьев. На ней было коричневое бархатное платье – ее любимое! Кто назвал ее, увидев в этом платье, мудрой совушкой? Внутри все оборвалось – снова вернулась боль. Уинтон с порога произнес:
– Что, мой котенок?
– Я просто хотела узнать, как ты там. У меня все хорошо. Какой сегодня день? Ты поедешь на охоту, не так ли? Передавай от меня привет лошадям. До свидания, отец, – на всякий случай.
Он коснулся губами ее взмокшего лба.
В коридоре улыбка Джип словно маячила перед ним в воздухе: прощальная улыбка, но в кабинете на него вновь обрушилось страдание, сильнейшее страдание. Ну почему он не мог забрать эту боль на себя?
Его бесконечные хождения по ковру прервал скрип колес докторского экипажа за окном. Уинтон вышел в парадную и заглянул в лицо врача, совершенно забыв, что старик ничего не знал о причине его смертельной тревоги. Встретив доктора, Уинтон вернулся в кабинет. Злой ветер с юга швырял в окно мокрые листья. Именно у этого окна он стоял год назад и смотрел в темноту, когда Фьорсен приехал просить руки его дочери. Почему он не спустил этого фрукта с лестницы и не увез ее куда глаза глядят – в Индию, Японию, куда угодно? Она не любила этого скрипача, никогда по-настоящему не любила. Чудовищно, чудовищно! Горечь упущенных возможностей накатила на Уинтона с такой силой, что выдавила из него стон. От окна он перешел к полке с книгами. Там в один ряд выстроились те немногие тома, которые он когда-то прочел. «Жизнь генерала Ли». Майор вернул книгу на место и взял другую – роман Уайта-Мелвилла «Шалопай». Грустная вещь, грустный конец. Выпавший из руки томик с глухим стуком ударился об пол. С ледяной ясностью Уинтон представил себе, какой будет его жизнь, если утрата постигнет его во второй раз. Нет, Джип не должна, не может умереть! В древности мужчину хоронили вместе с его лошадью и собакой, как для последней доброй охоты. Этого у него никто не отнимет. Отчаянная мысль принесла успокоение. Присев, он долго смотрел на огонь, словно впал в кому, но лихорадочные страхи снова вернулись. Какого черта они не приходят, не скажут хоть слово? Что угодно лучше этого молчания, убийственного одиночества, ожидания. Что это за шум? Хлопнула парадная дверь. Скрип колес? Неужели чертов старикашка доктор решил потихоньку улизнуть? Уинтон вскочил с места. В дверях стоял Марки с какими-то карточками в руках. Уинтон быстро пробежал их.
– Леди Саммерхей, мистер Брайан Саммерхей. Я сказал, что вас нет дома, сэр.
Уинтон кивнул.
– И все?
– Пока ничего нового. Вы не обедали, сэр.
– Который час?
– Пять.
– Принесите мою шубу и портвейн, разожгите камин. Сообщайте любые новости.
Марки кивнул.
Странно сидеть в шубе у огня, причем в не такой уж холодный день. Говорят, жизнь продолжается после смерти. Уинтон ни разу не почувствовал, чтобы она еще где-то жила. Она жила в Джип. И если сейчас Джип… Собственная смерть – пустяк. Но ее! С наступлением темноты ветер улегся. Он встал и раздвинул портьеры.
В семь доктор спустился в коридор и остановился, потирая только что вымытые руки, прежде чем открыть дверь кабинета. Уинтон все еще сидел у огня, не шевелясь, съежившись под шубой. Он привстал и отрешенно посмотрел вокруг себя.
Врач сморщил лицо и, наполовину прикрыв веками выпуклые глаза – такова была его манера улыбаться, – сказал:
– Прелестно, прелестно. Девочка. Никаких осложнений.
Все тело Уинтона словно надули воздухом, он приоткрыл рот, поднял руку, но тут же, схваченный за горло привычкой длиною в жизнь, застыл в молчании. Наконец, закончив подъем из кресла, он предложил:
– Бокал портвейна, доктор?
Врач, пытливо взглянув на него поверх бокала, подумал: «Пятьдесят второй. Дал бы лучше шестьдесят восьмого – у того получше текстура».
Через некоторое время Уинтон поднялся наверх. Ожидая в другой комнате, он ощутил, как в душу снова вползает холодок страха. «Удачный исход – пациент умер всего лишь от истощения сил». В уши проник слабый писк ребенка, но не обнадежил его. Ему не было дела до нового существа. Сзади неожиданно возникла Бетти с ходящим ходуном бюстом.
– Что случилось, женщина? Не тяните!
Бетти, забыв о правах и приличиях, привалилась к его плечу и сквозь всхлипы промямлила:
– Она такая хорошенькая. Господи, какая она хорошенькая!
Оттолкнув от себя служанку, Уинтон заглянул в приоткрытую дверь. Джип лежала тихая и бледная. Огромные карие глаза неотрывно смотрели на ребенка. На лице застыло выражение восхищенного удивления. Она не заметила отца – он стоял с неподвижностью камня и наблюдал, в то время как сестра суетилась за ширмой. Уинтон впервые в жизни видел мать с новорожденным ребенком. Выражение на лице дочери – словно она была далеко-далеко отсюда – поразило его. Она вроде бы никогда не любила детей, да и сама говорила, что не хочет ребенка. Джип повернула голову и увидела отца. Он вошел. Она сделала слабый жест в сторону дочери, ее глаза улыбались. Уинтон посмотрел на завернутую в пеленки кроху, чья кожа была покрыта красными пятнами, наклонился, поцеловал руку дочери и на цыпочках вышел.
За ужином, переполненный благодушным отношением ко всему миру, он выпил шампанского. Глядя на струйки дыма над головой, Уинтон подумал: «Надо бы послать этому субъекту телеграмму». В конце концов, муж дочери тоже человек и, возможно, даже мучается, как сам он мучился всего два часа назад. Не годится держать его в неведении! Уинтон написал на бланке: «Все хорошо, дочь, Уинтон», – и распорядился, чтобы конюх отвез текст на почту сегодня же вечером.
В десять Уинтон еще раз осторожно прокрался к дочери, но она уже спала.
Он тоже пошел спать – счастливый, как ребенок.
Глава 11
На следующий день, возвращаясь под вечер с первой за несколько дней охоты, Уинтон разминулся со станционной коляской, имевшей, как все пустые экипажи, одновременно беспечный и неприкаянный вид.
Вид шубы и широкополой шляпы в прихожей дал понять, чего следовало ожидать.
– Мистер Фьорсен приехал, сэр. Он наверху, у миссис Фьорсен.
Явился не запылился, чертов зануда! Джип этот визит вряд ли пойдет на пользу.
– Он приехал с вещами? – спросил Уинтон.
– С саквояжем, сэр.
– Тогда приготовьте комнату.
Опять придется сидеть за столом и смотреть в глаза этому фрукту!
Джип провела самое чудное утро в своей жизни. Ребенок очаровал ее, а когда сосал грудь, вызывал незнакомое, почти чувственное ощущение размягченности, бесконечной теплоты, желание покрепче прижать маленькое создание к себе, чего, разумеется, нельзя было делать. Но в то же время жалкий комочек плоти с клочком черных волос, грацией уступающий даже котенку, не мог обмануть чувство юмора и эстетический вкус Джип. Однако крохотные розовые ноготки, микроскопические скрюченные пальчики ног, серьезные темные глазки, когда они бывали открыты, и неподражаемое спокойствие, когда девочка спала, поразительная энергия, с которой она сосала молоко, – все это было сродни волшебству. Сверх того Джип испытывала чувство благодарности к ребенку, который не лишил ее жизни и даже не заставил отчаянно мучиться, благодарность за то, что, по словам сиделки, она успешно выполнила свой материнский долг, хотя так мало верила в себя. Она внутренним чутьем сразу же поняла: это ее ребенок, а не его, что дочь, как говорится, «пойдет в мать». Откуда у нее появилась такая уверенность, она не могла сказать; может быть, ее вызывал спокойный характер дочери, карие глаза. В добром здравии и единодушии мать и дитя проспали с часу до трех. Проснувшись, Джип обнаружила у кровати сиделку, явно желавшую что-то сообщить.
– К вам приехали, дорогуша.
Джип подумала: «Это он! Голова плохо работает. Надо быстрее соображать. Хочется, да не получается».
Видимо, мысли отразились на ее лице, потому что сиделка немедленно предположила:
– Мне кажется, вы еще не готовы.
– Готова. Только дайте мне пять минут, пожалуйста.
Душа уплыла куда-то далеко-далеко, и Джип требовалось время, чтобы вернуть ее на место, прежде чем принимать мужа, время осознать то, что она уже смутно успела почувствовать: как сильно эта лежащая рядом с ней кроха изменила ее и его жизнь. Мысль, что это крохотное беспомощное существо в равной мере принадлежит и мужу, казалась неестественной. Нет, это не его ребенок! Фьорсен не хотел его, и теперь, когда она преодолела все муки, дочь принадлежит ей и только ей. Нахлынули воспоминания о том вечере, когда она окончательно убедилась, что беременна, а муж завалился домой пьяный, и заставили Джип съежиться, задрожать и обнять своего ребенка. Ничего не помогало. Вернулась прежняя осуждающая мысль, от которой она избавилась в последние дни: «Но ведь я сама вышла за него замуж, сама его выбрала. От этого не уйти!» Ей захотелось крикнуть сестре: «Не впускайте его! Я не желаю его видеть. Умоляю вас, я так устала». Джип проглотила готовые вырваться наружу слова и вскоре со слабой улыбкой произнесла:
– Теперь я готова.
Первым делом она заметила его наряд – новый темно-серый костюм более свободного покроя, который она сама для него выбрала; на шее вместо морского узла – галстук-бабочка; волосы ярче обычного, что всегда бывало после стрижки; к ушам опять начали сползать бакенбарды. Затем с благодарностью, почти растроганностью она отметила, что у него дрожат губы, дрожит все лицо. Фьорсен приблизился на цыпочках, посмотрел с минуту на жену, быстро подошел к кровати, встал на колени и прижался лицом к ее руке. Щетина усов щекотала ладонь, Фьорсен тыкался носом в ее пальцы, что-то шептал ей прямо в руку, касаясь ладони Джип влажными теплыми губами. Она поняла, что муж пытается скрыть раскаяние за все грехи, в том числе совершенные в ее отсутствие, скрыть все страхи, которые его преследовали, и свое волнение от того, какой притихшей и бледной он ее застал. Через минуту он поднимет лицо, и оно будет совсем другим. В голове Джип мелькнула мысль: «Если бы я его любила, то никогда бы не стала обижаться. Почему я его не люблю? Ведь в нем есть что-то достойное любви. Почему?»
Фьорсен поднял лицо, остановил взгляд на ребенке и осклабился.
– Ты только посмотри! – воскликнул он. – Как такое возможно? Ох, моя Джип, какая она смешная! Ох-хо-хо!
Фьорсен разразился сдавленным смехом, потом посерьезнел и сморщил лицо в гримасе притворного отвращения. Джип дочь тоже казалась забавной: маленькое пухлое красное личико, двадцать семь черных волосков, струйка слюны из едва различимых губ, – но она видела в ней чудо, чувствовала это чудо всей душой, и внутри опять зашевелился протест против пренебрежительного отношения к ее ребенку. Ее ребенок не смешон! Не уродлив! Даже если она ошибается, лучше ей об этом не говорить. Джип крепче прижала к себе теплый сверток. Фьорсен протянул руку и пальцем потрогал щеку ребенка.
– Смотри-ка, настоящая! Мадемуазель Фьорсен. Ц-ц-ц!
Девочка пошевелилась. Джип подумала: «Если бы я любила, то не обиделась бы на то, что он потешается над ней. Все было бы иначе».
– Не буди ее! – прошептала Джип и, почувствовав на себе взгляд мужа, поняла, что его интерес к дочери исчез так же быстро, как появился, и что теперь он думает: «Сколько мне еще ждать, прежде чем ты снова примешь меня в свои объятия?»
Фьорсен погладил жену по волосам, и ее вдруг охватило сосущее предчувствие обморока – такого ощущения она прежде не испытывала. Снова открыв глаза, она увидела перед собой субъекта рыночной экономики – та что-то совала ей под нос и произносила звуки, складывающиеся в слова. «Какая же я дура!» – повторила несколько раз сиделка. Фьорсена в комнате не было.
Заметив, что Джип снова открыла глаза, сестра убрала нашатырь, положила ребенка рядом с матерью и со словами: «А теперь спать» – ушла за ширму. Как и все грубоватые натуры, она привыкла перекладывать досаду за собственные промахи на других. Но Джип не хотела спать. Она смотрела то на дочь, то на узор обоев, машинально пытаясь отыскать птицу в промежутках между бурыми и зелеными листьями – по одной в каждом втором квадрате, отчего птица всегда находилась в окружении четырех других. У птиц были зеленые и желтые перья и красные клювы.
Фьорсен, которого сиделка выпроводила из детской со словами: «Ничего страшного, всего лишь небольшой обморок», в унынии спустился вниз. Атмосфера этого темного дома, где его встречали как чужака, непрошеного гостя, была для него непереносима. Ему здесь была нужна одна Джип, а жена при первом же его прикосновении вдруг лишилась чувств. Неудивительно, что так мерзко на душе. Фьорсен открыл какую-то дверь. Что это за комната? Пианино. Гостиная. Тьфу! Камин холодный – какая жалость. Он отступил к порогу и прислушался. Ни звука. Серый свет в унылой комнате. В коридоре за спиной почти темнота. Что за жизнь влачат эти англичане: хуже зимы в его родной Швеции – там хотя бы жарко топят. Внутри вдруг все вскипело. Торчать здесь и пялиться на ее отца, на постную физиономию их слуги! Торчать здесь всю ночь! Джип, лежащая с младенцем в этом враждебном доме, больше не принадлежала ему. Стараясь не шаркать, он вышел в переднюю. Вот его пальто и шляпа. Фьорсен надел их. Где саквояж? Нигде не видно. Какая разница! Потом пришлют. Он ей напишет: объяснит, что обморок его расстроил, что он боится вызвать у нее новый обморок, поэтому не может оставаться в доме так близко от нее и в то же время так далеко. Она должна понять. Тут его охватила страшная тоска. Джип! Он так горячо ее желал. Желал быть с ней, смотреть на нее, целовать ее, ощущать, что она снова принадлежит ему. Открыв дверь, он вышел на дорожку и зашагал прочь с ноющим, неприкаянным сердцем. Это болезненное, дрянное чувство преследовало его на темной дороге до самого вокзала и в вагоне поезда. Его удалось немного стряхнуть лишь на освещенной улице по пути к Росеку. За ужином и после него, выпив особенного бренди графа, Фьорсен почти избавился от уныния, но по возвращении, уже в постели, снова навалилась тяжесть и продолжала давить, пока не пришел спасительный сон.
Глава 12
Поначалу Джип быстро и уверенно шла на поправку, что радовало Уинтона. Как заметила субъект рыночной экономики, его дочь была во многом обязана этим своему прекрасному телосложению.
Перед Рождеством Джип начала потихоньку выходить, а в рождественское утро старый доктор вместо подарка объявил ее полностью выздоровевшей и разрешил, если она захочет, вернуться домой в любое время. Однако после полудня Джип все еще нездоровилось, и весь следующий день она опять провела наверху. У нее вроде бы ничего не болело, просто напала отчаянная апатия, словно упадок духа произошел от понимания: ей уже по силам вернуться – осталось всего лишь принять решение. Так как никто другой не знал о ее сокровенных чувствах, все, кроме Уинтона, гадали о причинах ее хандры. Кормление ребенка грудью было немедленно прекращено.
И только в середине января Джип наконец вымолвила:
– Отец, мне пора возвращаться домой.
Упоминание о «доме» задело Уинтона, и он ограничился коротким ответом:
– Хорошо, Джип. Когда?
– Дом уже готов. Думаю, завтра. Муж все еще у Росека. Я не хочу ему сообщать. Проведу в доме два-три дня одна, пусть ребенок привыкнет.
– Хорошо. Я тебя отвезу.
Уинтон не стал выпытывать мысли дочери о Фьорсене: и так прекрасно знал.
Они отправились на следующий день и прибыли в Лондон в полтретьего. Бетти приехала на место еще утром. Собаки все это время оставались у тетки Розамунды. Джип скучала по их радостному визгу, однако обустройство Бетти и ребенка в комнате для гостей, превращенной в детскую, отняло у нее последние силы. Начало смеркаться, когда она, все еще в меховом манто, взяла ключ от музыкального салона и пересекла сад, чтобы посмотреть, как здесь без нее шли дела последние десять недель. Какой зимний вид принял сад! Как все не похоже на ту томную теплую лунную ночь, когда танцующая Дафна Глиссе вышла из тени деревьев. Как голы и остры сучья на фоне серого темнеющего неба, не поют птицы, ни одного цветка! Она обернулась и посмотрела на дом: холодный, белый, свет горел только в ее комнате и в детской, – там кто-то как раз отодвигал шторы. Листва осыпалась, открыв взору другие дома на улице, непохожие на своих соседей формой и цветом, – это так типично для Лондона. Холодно, зябко. Джип поспешила вперед по дорожке. Под окном музыкального салона выросли четыре маленькие сосульки. Они привлекли ее внимание. Проходя мимо, Джип отломила одну. Ей показалось, что внутри салона горит огонь – за неплотно задернутыми шторами мелькнул свет. Какая умница Эллен, что решила протопить камин. Джип вдруг остановилась как вкопанная. Огонь горел в салоне неспроста. В щель между гардинами она разглядела две фигуры на диване. В голове Джип быстро закрутились мысли. Она повернулась и хотела было убежать, но тут ее охватило какое-то сверхчеловеческое хладнокровие и она твердо посмотрела в окно. Фьорсен и Дафна Глиссе! Муж обнимал девушку за шею. Джип впилась в лицо балерины глазами. Приподняв подбородок и приоткрыв рот, та смотрела на Фьорсена взглядом, полным обожания, как жертва сеанса гипноза. Обнимавшая Фьорсена женская рука подрагивала – от холода? От вожделения?
В голове Джип опять что-то завертелось. Она подняла руку и на секунду задержала у стекла, потом, ощутив приступ отвращения, опустила и отвернулась.
Никогда! Она никогда не покажет ему и этой девице, что они заставили ее страдать. Пусть не боятся – она не станет устраивать сцену в их любовном гнездышке. Ничего не видя перед собой, Джип прошла по покрытой инеем траве, через неосвещенную гостиную, наверх, в свою комнату, и села там у огня. В душе бушевала оскорбленная гордость. Джип бессознательным жестом до боли в губах стиснула зубами носовой платок. Глаза опалял жар из камина, но она даже не пыталась от него отодвинуться.
Вдруг мелькнула мысль: «А каково мне было бы сейчас, если бы я его любила?» – и она усмехнулась. Платок упал на колени, и Джип посмотрела на него в удивлении – на нем алела кровь. Она отодвинула кресло подальше от огня и замерла со слабой улыбкой на губах. Какие у этой девушки были глаза – как у преданной собаки. А ведь она и к ней ластилась тоже! Дафна нашла своего «выдающегося мужчину». Джип вскочила, посмотрела на себя в зеркало, передернула плечами, отвернулась от своего отражения и снова села. В ее собственном доме! Почему тогда не здесь, в супружеской спальне? Или прямо у нее на глазах? Со дня свадьбы не прошло и года! Почти смешно. Почти. Пришла первая спокойная мысль: «Теперь я свободна».
Мысль эта, однако, имела для нее мало смысла; душа, чья гордость была так жестоко уязвлена, не находила в ней ценности. Джип снова пододвинула кресло ближе к огню. Почему она не постучала в окно? Почему не заставила лицо этой девицы стать пепельно-серым от ужаса? Почему не захлопнула крышку западни в той самой комнате, которую она украсила для мужа, где столько часов аккомпанировала ему, которую считала гордостью всего оплаченного ей дома? Как давно они там встречаются, тайком пробираясь через калитку в переулке? Не исключено, что встречи начались еще до ее отъезда, пока она вынашивала его ребенка! В душе вспыхнула борьба между материнским инстинктом и чувством крайнего возмущения, моральная схватка на такой огромной глубине, что в ней не участвовали разум и сознание. Можно ли еще считать ребенка своим? Или сердце потеряет с ним связь и она станет чуть ли не презирать его?
Джип ежилась; несмотря на близость огня, ей было холодно и мерзко, как от физического недомогания. Внезапно она подумала: «Если не сообщить прислуге, что я здесь, чего доброго, выйдут во двор и увидят то, что увидела я!» Закрыла ли она за собой окно гостиной, когда возвращалась на ощупь, как слепая? А что, если слуги уже все знают? Она лихорадочно позвонила в колокольчик и отперла дверь. На зов явилась горничная.
– Прошу вас, Эллен, закройте окно в гостиной и передайте Бетти: боюсь, я немного простудилась в дороге. Я пока прилягу. Спросите, справится ли она с ребенком без моей помощи. – Джип заглянула в лицо горничной. Оно выражало озабоченность, даже сочувствие, но глаза не бегали – она явно ничего не знала.
– Хорошо, мэм. Я принесу вам горячую грелку, мэм. Хотите принять горячую ванну и выпить чашку горячего чая?
Джип кивнула. Все, что угодно! Когда горничная ушла, она машинально подумала: «Чашка горячего чая! Как нелепо! Разве чай пьют холодным?»
Горничная принесла чай. Это была ласковая девушка, ее переполняло восхищенное обожание, какое всегда испытывали к Джип челядь и собаки: обожание с примесью заговорщицкой лояльности, которая неизбежно накапливается в сердцах тех, кто живет в доме, где атмосфера отравлена разобщенностью. На взгляд служанки, хозяйка была слишком хороша для мужа – иноземца, да еще и с дурными привычками. А манеры? У него их вообще не было! Ничего хорошего из этого не могло получиться. Ничего! Эллен твердо так считала.
– Я пустила воду, мэм. Хотите, положу в ванну немного горчицы?
И опять Джип кивнула. Спускаясь на кухню за горчицей, горничная сказала кухарке, что с хозяйкой «чтой-то не так, ажно жалость берет». Кухарка, перебирая клавиши гармоники, занятая любимым занятием, ответила:
– Дык она всегда прячет свои чувства, они все так делают. Слава богу, хоть не тянет слова, как ейная старая тетка. Той мне всегда хочется сказать: «Не жеманься, старая карга, не такая уж ты важная птица».
Когда Эллен, взяв горчицу, ушла, кухарка развернула гармошку на всю длину и принялась осторожно разучивать «Дом, милый дом».
Лежавшей в горячей ванне Джип эти приглушенные звуки казались не мелодией, а далеким гудением больших мух. Горячая вода, острый запах горчицы и монотонные звуки гармоники постепенно успокоили и заглушили резкость эмоций. Джип смотрела на свое тело, серебристо-белое в желтоватой воде, словно во сне. Когда-нибудь наступит день, и к ней тоже придет любовь – странное чувство, которого она никогда не испытывала. Воистину странное, коль мысль о нем пробилась сквозь прежнюю инстинктивную зажатость. Да, однажды любовь найдет ее. Перед мысленным взором опять проплыл восхищенный взгляд Дафны Глиссе, дрожь, пробежавшая по ее руке, и в сердце Джип прокралось наполовину горькое, наполовину завистливое сожаление. К чему держать на них обиду ей, которая не любит? Звуки гудящих мух стали еще ниже, завибрировали еще больше. Кухарка вкладывала всю душу в первые строки песни: «Где-то за лесом, за холмом дом, милый дом».
Глава 13
Ночь Джип проспала спокойно, словно ничего не произошло и о будущем можно было не думать, но проснулась глубоко несчастной. Гордость не позволяла ей объявить миру о своем открытии: заставляла делать бесстрастное лицо и вести бесстрастную жизнь, но душевная борьба инстинкта матери с протестом против своей участи не затихала. Перспектива увидеть своего ребенка пугала ее. Джип передала Бетти, чтобы ее не беспокоили до самого обеда, и только в полдень потихоньку спустилась на первый этаж.
Она осознала, какая жесткая борьба идет в душе из-за его ребенка, лишь проходя мимо двери комнаты, где девочка лежала в колыбели. Если бы Джип позволили продолжать кормить ребенка грудью, никакой борьбы не возникло бы. У нее ныло сердце, но неведомый бес толкал ее пройти мимо двери. Джип бесцельно слонялась внизу, протирала фарфор, переставляла книги, которые после уборки дома горничная расставила чересчур аккуратно, отчего первые тома Диккенса и Теккерея на верхней полке шли друг за другом и совпадали со вторыми томами этих же авторов на нижней полке. Все это время она думала: «Зачем я это делаю? Какая разница, как стоят книги? Это не мой дом. Он никогда не будет моим».
На обед она выпила мясного бульона, продолжая разыгрывать недомогание, после этого села за конторку писать письмо. Что-то надо решать! Она долго сидела, подперев рукой лоб, на ум ничего не приходило, ни единого слова. Джип даже не знала, какое лучше выбрать обращение. Может быть, просто поставить дату, и дело с концом? Дверной звонок заставил ее вздрогнуть. Она не желала никого принимать! Однако горничная всего лишь принесла записку от тетки Розамунды и привела песиков, которые, вне себя от радости, накинулись на хозяйку, соревнуясь между собой за то, кто первым завладеет ее вниманием. Джип опустилась на колени, чтобы разнять сорванцов и восстановить мир и спокойствие, и те принялись жадно лизать ее щеки. Под ласковыми прикосновениями влажных язычков обруч, сдавливавший разум и сердце, разжался, и Джип захлестнуло страстное желание вновь увидеть свое дитя. После того как она видела девочку последний раз, прошли почти сутки – как такое могло случиться? Она целый день избегала вида этих серьезных глазок, пухлых ручек и ножек. В сопровождении собак Джип поднялась наверх.
Из музыкального салона дом не был виден. Преследуемая мыслью, что, не догадываясь о ее возвращении, парочка могла оставаться в объятиях друг друга бог знает сколько времени, Джип в тот же вечер написала:
«Дорогой Густав! Мы вернулись. Джип».
Что еще она могла сказать? Записку он не увидит, пока не продерет глаза к одиннадцати. Инстинктивно желая отсрочить встречу с мужем и по-прежнему не в силах предсказать, как поведет себя при его появлении, Джип ушла из дому еще до полудня и весь день, стараясь ни о чем не думать, ходила по магазинам. Вернувшись к вечернему чаю, она сразу же прошла в детскую, где Бетти сообщила, что Фьорсен приходил, но потом взял скрипку и ушел в музыкальную комнату.
Наклонившись над ребенком, Джип сдержалась от проявления эмоций, пустив в ход все свое самообладание, которое за последнее время заметно окрепло. Скоро Дафна прилетит, как мотылек, по темному узкому переулку, постучится маленьким кулачком в калитку, а он откроет и пробормочет: «Нет-нет, жена вернулась». Как она испугается! Быстрый шепот: «Давай встретимся в другом месте!» Поцелуй впопыхах, обожающий взгляд Дафны, и вот она уже спешит прочь от закрывшейся калитки в темноту, разочарованная. А он сядет на обитый парчой диван, покусывая кончики усов, и будет смотреть на огонь кошачьими глазами. А потом, может быть, из скрипки польются пленительные звуки, полные слез и ветра, которые когда-то околдовали Джип.
– Откройте немного окно, милая Бетти, – попросила она. – Очень душно.
А вот и она, музыка, то нарастает, то ниспадает! Почему стоны скрипки когда-то так сильно ее трогали, хотя сейчас звучат как издевка? Джип вдруг осенило: «Он хочет, чтобы я пришла к нему и начала подыгрывать. Но я не пойду. Ни за что не пойду!»
Она опустила ребенка в колыбель, вернулась в спальню, торопливо переоделась в платье для чаепития и приготовилась спуститься вниз. Ее внимание привлекла фарфоровая фигурка пастушки на каминной полке. Джип взяла ее в руки. Она купила статуэтку года три назад, только-только переехав в Лондон, в самом начале периода беззаботной юности, когда жизнь казалась одним сплошным котильоном, в котором ей выпало танцевать ведущую партию. Холодное изящество фигурки напоминало Джип о другом мире, без глубины и теней, лишенном каких-либо чувств, – таком счастливом мире!
Ждать пришлось недолго: вскоре Фьорсен постучал в окно гостиной. Джип поднялась из-за чайного стола и впустила его. Почему взгляд человека, заглядывающего в окно из темноты, всегда кажется голодным, ищущим, высматривающим, что есть у тебя такого, чего нет у него? Отодвигая щеколду, она подумала: «Что ему сказать? У меня не осталось никаких чувств». Пыл во взгляде, голосе, жестах Фьорсена показался ей до смешного фальшивым. Еще более смехотворным и фальшивым был вид разочарования на лице мужа, когда она сказала: «Прошу тебя, будь осторожнее. Я еще не совсем окрепла».
Опустившись в кресло, Джип спросила:
– Хочешь чаю?
– Чаю! Ты наконец снова со мной, и все, что тебя интересует, хочу ли я чаю? Знаешь ли ты, каково мне было все это время? Нет, не знаешь. Ты ничего обо мне не знаешь, ведь правда?
На губах Джип сама собой возникла откровенно ироничная улыбка.
– Ты хорошо провел время у графа Росека? – спросила она, и помимо воли у нее вырвалось: – Наверно, очень соскучился по музыкальному салону!
У Фьорсена забегали глаза, он принялся расхаживать туда-сюда по комнате.
– Соскучился? Я по всему соскучился! Мне было очень плохо, Джип. Ты даже себе не представляешь, как плохо мне было. Да-да, плохо, плохо, плохо!
С каждым новым «плохо» его голос все более оживлялся. Фьорсен опустился перед ней на колени, вытянул длинные руки и сомкнул на талии жены.
– Ах, моя Джип! Я теперь буду другим человеком.
Она продолжала улыбаться. Какой еще осиновый кол, кроме этой улыбки, могла она найти, чтобы поразить эти фальшивые излияния в самое сердце? Как только хватка немного ослабла, она поднялась и произнесла:
– Ты помнишь, что в доме маленький ребенок?
Фьорсен рассмеялся:
– Ах да, ребенок! Совсем забыл. Давай поднимемся наверх, посмотрим на нее.
– Ступай один.
Она буквально прочитала его мысли: «Может быть, если я пойду, она смягчится». Он резко повернулся и вышел.
Джип прикрыла глаза, но все равно видела перед собой диван в музыкальном салоне и объятую дрожью руку девушки. Она села за пианино и с полной отдачей заиграла полонез Шопена.
Вечером они ужинали в городе и смотрели «Сказки Гофмана». Это позволило Джип еще немного оттянуть исполнение своего плана. По дороге домой она отодвинулась в угол темного салона такси под предлогом, что Фьорсен помнет платье; от нетерпения его нервы натянулись как струны. Раза два Джип чуть не выкрикнула: «Я тебе не Дафна Глиссе!», но всякий раз гордость заставляла ее проглотить эти слова. И все-таки рано или поздно их придется высказать вслух. Иначе что еще можно сделать, чтобы не пускать его в свою спальню?
Но когда, стоя перед зеркалом, она заметила, что муж, подкравшись бесшумно, как кот, возник у нее за спиной, ее охватила ярость. Она увидела в зеркале, как кровь бросилась ей в лицо, и, обернувшись, сказала:
– Нет, Густав, если тебе требуется спутница, поищи ее в музыкальном салоне.
Фьорсен отшатнулся к спинке кровати и свирепо уставился на нее. Джип, отвернувшись к зеркалу, спокойно продолжала вынимать булавки из волос. Она целую минуту наблюдала его отражение – как он, опершись на спинку, беспомощно, словно от боли, двигает головой и руками. Потом, к ее полной неожиданности, Фьорсен вышел. К ощущению избавления от бремени примешивалось смутное раскаяние. Она долго лежала без сна, наблюдая, как на потолке играют, то светлея, то тускнея, блики, отбрасываемые пламенем в камине. В голове вертелись мелодии из «Сказок Гофмана», в возбужденном уме толпились мысли и фантазии. Когда она наконец заснула, ей приснился сон, что она кормит с руки голубей и одна из голубок – Дафна Глиссе. Джип сразу же проснулась. Огонь еще не потух, при тусклом свете она разглядела, что муж притаился у изножья кровати. Точно так же он вел себя в первую брачную ночь: сидел с таким же голодным вожделением на лице, так же тянул руку. Он заговорил, опередив ее:
– Ох, Джип, ты ничего не понимаешь! Все это ничто для меня, мне нужна только ты. И всегда будешь нужна. Я дурак, что не устоял. Сама посуди. Ведь мы не были вместе так долго.
Джип без колебаний ответила:
– Я не хотела иметь ребенка.
– Это правда, но теперь, когда он появился, ты рада, – возразил он быстро. – Не будь такой жестокой, Джип! Доброта тебе больше к лицу. С этой девушкой все кончено. Клянусь. Обещаю.
Он дотронулся до ее ноги под пуховым одеялом. Джип подумала: «Почему он пришел и распустил нюни? В нем не осталось ни капли достоинства!», а вслух сказала:
– Как ты можешь обещать? Ты влюбил в себя эту девушку. Я видела, какое у нее было лицо.
Фьорсен убрал руку:
– Ты… видела?
– Да.
Он молча уставился на нее, потом сказал:
– Глупая дурочка. Она не стоит одного твоего мизинца. Какой смысл имеют мои действия, если мне до нее нет никакого дела? Верность хранит душа, а не тело. Мужчина удовлетворяет свой аппетит – не более того.
– Может быть, но, когда страдают другие, такие поступки имеют смысл.
– Разве ты пострадала, моя Джип?
В его голосе проклюнулась надежда. Джип, застигнутая врасплох, ответила:
– Не я. Она.
– Она? Ха! Пусть это станет для нее уроком, такова жизнь. Ей от этого хуже не будет.
– Никому не бывает хуже, если это приносит удовольствие.
После этой горькой реплики Фьорсен надолго замолчал, время от времени тяжело, протяжно вздыхая. Его слова эхом отозвались в ее сердце: «Верность хранит душа, а не тело». Получается, что он хранил верность лучше, чем она, никогда его не любившая? Какое право она имела пенять ему на неверность, выйдя за него замуж то ли ради тщеславия, то ли ради… чего, собственно?
– Джип, прости! – вырвалось у него.
Она со вздохом отвернулась.
Фьорсен лег животом на одеяло. Она слышала, как он дышит – протяжно, со всхлипами, – и посреди апатии и беспросветности в ее душе шевельнулось что-то похожее на жалость. Какая в самом деле разница? Сдавленным голосом она ответила:
– Хорошо. Я прощаю.
Глава 14
Человек – удивительное существо, способное приноровляться к любым обстоятельствам. Джип не верила, что муж оставил Дафну Глиссе в прошлом. Чутье скептика подсказывало ей, что искренние намерения Фьорсена могли сильно отличаться от его реальных действий, стоило ему ощутить притяжение заботливо подсунутого соблазна.
После возвращения Джип в Лондон граф Росек возобновил визиты, всячески стараясь не повторять свою ошибку, но Джип видела его насквозь. Хотя граф, в отличие от Фьорсена, блестяще держал себя в руках, она чувствовала, что Росек все еще имеет на нее виды, а значит, позаботится о том, чтобы Дафна Глиссе почаще проводила время с ее мужем. Гордость не позволяла Джип заводить разговор о танцовщице. К тому же что толку ее обсуждать? Оба будут лгать: Росек – потому что понял, что избрал неверную тактику для первого штурма, а Фьорсен – потому что говорить правду, причиняя себе тем самым неудобства, было не в его характере.
Решив терпеть, Джип ловила себя на мысли о необходимости жить одной минутой и никогда не думать много о будущем, вообще ни о чем много не думать. К счастью, уход за ребенком успешно вытеснял все остальные мысли. Джип, очертя голову, погрузилась в заботы о малышке. Созерцая лицо девочки, ощущая тепло маленького тельца рядом с собой, Джип ежедневно погружалась в гипнотическое состояние, характерное для матерей и коров, жующих жвачку. Однако девочка часто спала, к тому же наибольшую часть ухода за ней взяла на себя Бетти. В праздные часы, а их было немало, Джип приходилось несладко. Она потеряла интерес к платьям и элегантной обстановке, довольствуясь малым для поддержания реноме, деньги из-за беспорядочных запросов Фьорсена быстро таяли. Стоило ей взять книгу, как она тотчас же погружалась в угрюмые думы. Она забыла дорогу в музыкальный салон и не появлялась там с того рокового вечера. Все попытки тетки Розамунды вывести ее в свет потерпели крах – бурление светской жизни не трогало Джип; отец, хотя и приезжал, избегал встреч с Фьорсеном и потому никогда надолго не задерживался. В этом состоянии она все больше сама сочиняла музыку и однажды утром, обнаружив кое-какие композиции, написанные еще в юношеском возрасте, вдруг решилась. В тот же день после обеда, с удовольствием приодевшись, она впервые за несколько месяцев вышла из дома на февральский мороз.
Месье Эдуард Армо занимал нижний этаж дома на Мэрилбон-роуд. В большой комнате, окна которой выходили в маленький закопченный садик, он принимал учеников и учениц. Валлон по рождению, наделенный невероятной прытью, месье Армо отказывался стареть, питал глубоко в сердце слабость к женщинам и был ненасытен к любой новизне, даже в музыке. Открытие чего-то нового выжимало из его глаз слезу, стекавшую по щеке цвета красного дерева на подстриженную седую бородку, пока он играл или сиплым голосом напевал, подчеркивая, как чудесна эта новая вещь, либо качал головой в такт музыке, словно пожарная помпа.
Когда Джип вошла в его комнату, которую хорошо помнила, месье Армо сидел, запустив пожелтевшие пальцы в торчащие колом седые волосы, в глубокой печали из-за нерадивости только что покинувшего его ученика. Не поднимаясь, лишь сурово взглянул на Джип, он сказал:
– А-а, мой маленький друг! Вы вернулись! А вот это уже хорошая новость.
Похлопав Джип по руке, он заглянул ей в глаза и обнаружил в них теплоту и блеск, редко появлявшиеся в последнее время. Затем, подскочив к каминной полке, схватил букетик пармских фиалок, очевидно принесенных последним учеником, и сунул его под нос Джип. – Берите, берите, они предназначались мне. Нуте-с, много ли вы позабыли? Ступайте за мной! – Схватив ее за локоть, учитель почти силой подтащил Джип к пианино. – Снимайте шубу. Садитесь.
Пока она снимала зимнюю одежду, он пытливо оглядывал ее выпуклыми карими глазами из-под нависших бровей. На Джип была блузка, которую Фьорсен называл птичьей: синяя, с павлином и старой розой. Лицо Джип под меховой шапкой излучало теплоту и мягкость. Месье Армо буквально выпил ее взглядом, однако взгляд учителя не был ей неприятен, в нем скорее, проглядывала тоска пожилого мужчины, любящего все красивое и понимающего, что любоваться красотой осталось недолго.
– Сыграйте мне «Карнавал», – распорядился он. – Сейчас мы все увидим!
Джип заиграла. Учитель дважды кивнул, в одном месте постучал ногтем по зубам и закатил глаза, что означало: «Это следует играть совсем по-другому!», а в еще одном – хрюкнул. Когда она закончила, месье Армо присел рядом, взял ее за руку и, рассмотрев пальцы, заявил:
– Да-да, все надо начинать сначала! Распустились, подыгрывая этому скрипачу! Trop sympathique![13] Спину, спину держать – мы это исправим. Итак: по четыре часа в день шесть недель, и дело пойдет в гору.
– У меня маленький ребенок, месье Армо, – мягко возразила Джип.
Учитель подскочил:
– Что? Какой ужас! Вы его любите? Ребенок! Пищит наверно?
– Очень мало.
– Mon Dieu![14] Ну ничего, ничего, вы-то все так же прекрасны. Кто бы мог подумать! Как вы будете заниматься с этим ребенком? Нельзя ли его на время куда-нибудь пристроить? Дело-то серьезное. Такой талант пропадает. Сначала скрипач, потом ребенок! C'est beaucoup! C'est trop![15]
Джип улыбнулась, а месье Армо, под чьей внешностью скрывалась душевная чуткость, погладил ее по руке.
– Вы повзрослели, мой маленький друг, – уже серьезнее сказал он. – Не беспокойтесь, все еще можно поправить. Но ребенок! – Он причмокнул. – Ну что ж, крепитесь! Нас так легко не возьмешь!
Джип отвернулась, чтобы он не увидел ее дрожащие губы. Пропитавший все вокруг аромат сирийского табака, благоухание старых фолиантов и нот – темные, как лицо месье Армо, запахи; черный от сажи садик за окном, с кошками и одиноким чахлым кустом сумаха, пристальный взгляд карих выпученных глаз пианиста – все это возвращало ее к тем счастливым временам, когда она приходила сюда каждую неделю, полная веселья и сознания собственной важности, щебетала, купалась в грубоватом одобрении учителя и в музыке, сладко ощущая, что доставляет радость, сама радуется своим успехам и со временем научится играть по-настоящему хорошо.
Голос месье Армо, резкий и в то же время ворчливый, словно он понимал ее чувства, еще больше ее взволновал. Грудь Джип под птичьей блузкой ходила ходуном, на глаза навернулись слезы, губы задрожали пуще прежнего. Учитель говорил:
– Ну что вы, что вы! Невозможно поправить только старость. Вы правильно сделали, что пришли, дитя мое. Вы должны дышать музыкой. Если что-то идет не так, вы вскоре об этом забудете. Музыка, только она одна позволяет нам забыться. В конце концов, мой маленький друг, никто не может отнять у нас мечту – никакая жена, никакой муж не в состоянии этого сделать. Не унывайте, добрые времена еще наступят!
Джип невероятным усилием преодолела внезапный приступ слабости. Люди, посвятившие себя служению искусству, излучают неописуемое обаяние. Она покинула месье Армо после обеда, заразившись его страстью к музыке. В основе любой гомеопатии лежит ирония судьбы, и судьба теперь пыталась вернуть Джип к жизни с помощью того же зелья, каким отравила ее. Она стала отдавать музыке все свободное время. Джип посещала уроки два раза в неделю, переживая из-за расходов, – финансовое положение становилось все более удручающим. Дома она настойчиво тренировала руку и работала над своими композициями. За весну и лето она закончила несколько песен и этюдов, еще больше остались недописанными. Месье Армо терпеливо относился к ее экзерсисам, вероятно, понимая, что слишком резкая критика или неодобрение подрежут ученице крылья и она увянет, как цветок на морозе. К тому же в сочинениях Джип всегда присутствовал элемент свежести и оригинальности. Однажды он спросил ее:
– Что об этих вещах думает ваш муж?
Джип около минуты молчала.
– Я их ему не показываю.
И это было правдой. Она инстинктивно скрывала от Фьорсена сочинение музыки, опасаясь стать мишенью бессердечия, вспыхивавшего всякий раз, когда что-нибудь действовало ему на нервы, и понимая, что ее веру в себя, и без того хрупкую, уничтожит даже тень насмешки. Единственным человеком, которому она доверила свой секрет помимо старого учителя, как ни удивительно, был Росек. Однажды, переписав для себя одно из ее сочинений, граф озадачил ее, сказав: «Я знал. Я был уверен, что вы сочиняете музыку. Ах, сыграйте для меня эту вещь! Я не сомневаюсь в вашем таланте». Теплота, с которой он похвалил ее маленькое «каприччо», явно шла от сердца. Джип была так благодарна, что тут же сыграла для него несколько других мелодий и в довершение всего – песню, подходившую для его голоса. С этого дня Росек перестал казаться ей гнусным. Она даже стала проявлять к графу определенное дружелюбие и немного сочувствовать, наблюдая в гостиной или саду за его бледным худым лицом сфинкса. При этом Росек ни на шаг не приближался к исполнению своего заветного желания. Он больше не пытался за ней ухаживать, но Джип знала: стоило ей лишь намекнуть, как он немедленно перейдет в наступление. Облик и неиссякаемое терпение Росека вызывали у нее жалость. Женщины с характером Джип не способны питать открытую неприязнь к тем, кто ими искренне восхищается. Она расспросила графа о долгах Фьорсена. Выяснилось, что муж задолжал сотни фунтов и сверх того немало был должен самому Росеку. Мысли о долгах мужа давили на нее невыносимым грузом. Почему он так поступал? Как можно умудриться влезть в такие долги? Куда девались деньги, которые он зарабатывал? Ведь лето принесло неплохие сборы. Сознавать, что ты должен направо и налево, так унизительно. Подобным образом поступают только люди низкого происхождения. На что он тратит деньги? На эту девушку, на других женщин? Или просто у него не характер, а кафтан с дырявыми карманами?
Наблюдая за Фьорсеном весной и в начале лета, Джип поняла, что в муже произошла какая-то перемена, что-то сломалось, словно пружина в часах, которые сколько ни заводи – все без толку. При этом он упорно работал – возможно, даже упорнее, чем обычно. Она слышала, как Фьорсен раз за разом повторяет какой-нибудь пассаж, словно никак не может удовлетвориться. Однако его игра, похоже, потеряла пылкость и размах, стала пресной, словно смычком двигало разочарование. Как если бы Фьорсен говорил самому себе: «Какой теперь от этого толк?» Лицо его тоже изменилось. Джип знала, была уверена, что он тайком от нее пьет. Из-за размолвки с ней? Из-за этой девчонки? Или просто унаследовал привычку от предков-пьяниц?
Джип старалась не задерживаться на таких вопросах. Поднимать их означало терпеть бесполезные споры, повторять бесполезное признание, что она его не любит, выслушивать бесполезные клятвы мужа, которым она не верила, и всевозможные бесполезные опровержения. Какой мрак!
Фьорсен легко раздражался, и больше всего его, похоже, злили уроки музыки, которые брала жена. Он всегда говорил о них с ехидной ухмылкой. Джип чувствовала, что он считает их любительщиной, и в душе негодовала. Фьорсена также выводило из себя, что она уделяет много внимания ребенку. К дочери он относился так же, как ко всему остальному. Приходил в детскую, вызывая у Бетти панику, брал девочку на руки, ласково говорил с ней минут десять, после чего вдруг небрежно совал ее обратно в колыбель и, бросив на нее мрачный взгляд или усмехнувшись, удалялся. Иногда он поднимался наверх, когда в детской находилась Джип, и, молча понаблюдав за ней, буквально силой уводил ее из комнаты.
Постоянно испытывая угрызения совести из-за отсутствия любви к мужу и все больше страдая от ощущения, что вместо спасения толкает его все дальше вниз по наклонной – какая ироническая расплата за тщеславие! – Джип в стремлении к примирению все чаще уступала его капризам. Однако эта уступчивость, несмотря на все большее отдаление Джип от мужа, изматывала ее, толкала к нервному срыву. Такие натуры пассивно терпят до тех пор, пока что-то не сломается и терпению не наступит конец.
Эти весенние и летние месяцы напоминали засушливый период, когда тучи клубятся где-то за горизонтом, постепенно подползают все ближе и ближе, чтобы наконец извергнуться над садом вселенским потопом.
Глава 15
Настоящее лето наступило только десятого июля. Погода в целом стояла хорошая, но все время дул то восточный, то северный ветер, и вот после двух скомканных дождливых недель явилось по-настоящему летнее тепло с мягким ветерком, в воздухе витал аромат цветущих лип. В дальнем углу сада под деревьями Бетти шила какую-то одежду, девочка спала в коляске сладким утренним сном. Джип стояла перед клумбой анютиных глазок и душистого горошка. Какие смешные рожицы у анютиных глазок! Душистый горошек тоже похож на крохотных ярких пичуг, сидящих на покачиваемых ветром зеленых ветках. Маленькие зеленые трезубцы, растущие на причудливых плоских стеблях, напоминали усики насекомых. Каждое из этих ярких хрупких растущих созданий жило своей, отдельной жизнью – совсем как она!
Ее заставил обернуться звук шагов на гравийной дорожке. Из гостиной вышел и направился к ней Росек. Джип бросила на него слегка встревоженный взгляд. Что заставило графа пожаловать в одиннадцать часов утра? Росек подошел, поклонился и сказал:
– Я приехал к Густаву, но, похоже, он еще не проснулся. Впрочем, все равно я рассчитывал сначала поговорить с вами. Вы позволите?
Помедлив секунду, Джип сняла садовые рукавицы:
– Разумеется! Прямо здесь? Или в гостиной?
– В гостиной, если можно.
По телу Джип пробежала легкая дрожь, однако она прошла вперед и села там, откуда могла видеть Бетти и ребенка. Росек смотрел на нее сверху вниз. Спокойная поза, приятная суровость красиво очерченных губ, безупречная выправка вызвали у Джип невольное одобрение.
