Обсидиан четной выдержки
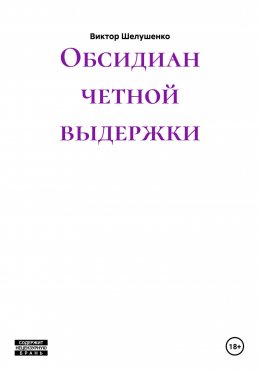
Как разум чувство бил
Да сам убился.
Бедолага Рассел
Всем надоела дихотомия
Телесность одним своим существом в глазах разума дает ему пощечины, ведь тот не может понять, как и почему ему достался такой сосед.
Разум впадает в истерику не только от осознания собственной несамостоятельности, но и от своего провала в переходе в абсолютизм.
Вертим модели синтеза, синтез выдерживает пристальный иступленный взгляд разума.
"Я прожил жизнь в плену у собственного разума. Интересно, стал бы я счастливее, если бы позволил себе быть глупее?"
"Я всегда боялся быть побеждённым чувствами, поэтому заключил их в клетку логики. Теперь, когда клетка опустела, я понимаю, что ключ был у меня всё время – но руки слишком дрожали, чтобы открыть дверь."
"Моя вера в то, что разум может исправить человечество, пошатнулась. Я прожил жизнь, думая, что истина сделает людей свободными, но они цепляются за свои цепи, как дети за одеяло в темноте."
Все эти цитаты на самом деле от одного человека – Бертрана Рассела. Первую он написал в старости кажется в одном из писем в стол?
Вторую – в послесловии к своей биографии в 1967.
Третью – в письме к Гилберту Мюррею в свои 80 лет
Если мы позволяем себе не думать, не просчитывать, действительно ли мы становимся чуть глупее? Мне так же интересно, как этот человек позволял себе вступать в браки с таким сильным модулем рациональности. Может, он был чрезвычайно смелым исследователем и верил в свои способности познать, потому этот океан чувственного опыта воспринимал с энтузиазмом моряка, что хочет покорить океан.
Это уже не триумф логики, а её трезвый, почти горький диагноз. Он, как будто, увидел пределы философского оптимизма: разум объясняет, но не спасает.
Рассел был не просто рационалистом – он был рационалистом, отважившимся вступить в бой с иррациональностью, не прячась от неё. Его личная жизнь, действительно, не укладывается в простую схему «человека головы»: четыре брака, глубокие влюблённости, болезненные разрывы.
Меня удивляет, как Рассел пришел к этому лишь в старости. Почему?
Кажется, он предпочитал обращать свой взгляд на звёзды больше, чем на себя. А когда наконец почувствовал некоторую усталость от этой вечной бесконечности звёзд, на которые так страстно смотрел всю жизнь, то решил наконец посмотреть на себя самого.
Интересно также взглянуть на моральный рационализм Рассела.
Представляя себе лед, представляя себе будду, лишенного какой-либо страсти, ненароком холодеешь сам. Интересно, как те самые картинки контроля дуалистики холода и пламени в самом деле реальны :)
Так же именно это чувство резкого перехода может указывать на привлекательность дороги к дуализму разделения рацио и эмпирики. Но так же, как рацио сам по себе – не рационализм, так же и эмпирика – не чувство. Это все инструменты в первую очередь, пусть и черпают разное топливо по разному, стоя на разных фундаментах. Оба дисциплинированы так или иначе мышлением. Если попробовать представить хотя-бы кооперацию рацио и эмпирики, что выглядит как раз таки более простым и хотя бы представляемым в качестве модели, то это вполне может дать пусть хлипкий, но мост меж рациональностью разума и чувственным опытом.
Мне нравится метафизическая надстройка, что будто ставит эти два парящих острова в пространстве. Ввиду существования самой ее сущности можно разглядеть эти два острова. Увидеть, что они хотя бы находятся на одной плоскости. Нужно лишь строить мосты. Любая помощь будет кстати. Великая проблема.
Если уходить в каждые лагеря и смотреть на оппозиционный остров с их перспектив, рисунки будут отличны от тех, что видятся с позиции третьей пространственной сущности. Просто ввиду ее природы.
С позиции третьей сущности эти острова как раз таки больше схожи, чем различны.
С позиции рацио виднеется обоснование существу острова эмпирики прежде всего в эволюционном механизме. Ставка на непознанную природу. Уж познав все эти цепи, мы точно поймем, что же такое из себя чувства. И противоречий же здесь нет.
Если абстрагироваться от рацио, улететь с его острова и посмотреть уже на рацио, то он видится скорее как сущность иного порядка.
Если считать эволюцию – матерью, то разум – точно ее дитя. И тем не менее, оно абсолютно независимо.
Сколько существует зависимых детей эволюции? Любовь, пассия, социализация, тактильность, сострадание. Потребности, желания, жизнь.
Разуму будто и жизнь то не нужна.
Единственное, что берет разум от эволюции перед тем как захлопнуть дверь в свою комнату – желание.
Стремление знать. Сложилось ли так само по себе, или без желания разум невозможен? Ой ну и паутина, там кажется виднеется бездна новая, уйду в сторону.
Разум запирает двери с желанием и начинает свой поход чисто в своем пространстве мысли.
Оно настолько изолированное, настолько чистое, настолько оторванное от жизни и ее целей..
Это удивляет.
У жизни как таковой нет конечно целей, у жизни есть лишь путь.
Тогда можно сказать, что разум уходит в сторону от пути жизни.
Разум пускает слюнки по калькуляторам и вычислениям, по бетону аксиом и непротиворечивости.
Разум строит собственные вселенные. Разум создает собственное течение мысли, собственный путь мысли.
Таким образом, рождается новая жизнь.
Жизнь разума.
И она просто другая.
Совсем.
За методами стоят источники энергии, но эти энергии не есть сами методы. Метод дисциплинирует хаос источника – вот роль мышления.
Рацио может быть на удивление чувственным (Платон, Спиноза), а эмпирика может быть до ужаса рационализированной (Бекон, Бёркли).
И если посмотреть на взаимодействие разума и любви..
Вы не сможете уживаться с любовью, пока не признаете ее всецелую, полную и безоговорочную власть над самим собой.
Вы будто должны признать и принять, что вы ее раб.
Но где есть вы – а где – ваш разум? Принять это и быть счастливым, либо уйти в оппозицию агрессии и отрицания. Агрессия отрицания бывает разной. Можно например закрыться от конфликта в целом, огородив себя стенами, а можно вести безуспешную бесцельную открытую войну против любви, и как следствие, против своей же природы.
В случае открытой войны вам будет больно, но вы может даже и не узнаете причин тому. Для ведения открытых агрессивных действий нужно топливо, и этим топливом наверняка будет ненависть. Ненависть – антипод любви. Природа или суть у них если не одинаковая, то невероятно похожая.
В случае абстрагирования и замыкания вы позволяете океану любви вокруг вас стать раствором кислоты, что постепенно будет растворять возведенные вами стены абстрагирования.
Это так же будет приносить некоторую боль, однако вы так же можете не осознавать ее. Можете даже не замечать на самом деле, но от последствий вас это в любом случае не спасет. Этот метод хорош как временный. Вы можете закрыться в своей коробке и пытаться найти иной путь, используя чистые итерации рациональности, насколько вам позволяет ваш разум и дисциплина.
Разум мне видится автономной сущностью, пусть корни его и уходят в эволюцию жизни. Достаточно своеобразная все же сущность. Не ищет она продолжения жизни, пытаясь в том или ином виде познавать. Познавать всякое. Одна из главных характеристик разума – пытливость, любопытство.
Если тела и телесность находятся под полным контролем марша жизни, то разум – нет.
И если мы исходим из этого замечания, тогда единственным выходом избавления себя от столь неприятного факта неотвратимости рабства любви является извлечение чистого разума из человека и его перенос на другой носитель.
Но тут конечно масса проблем разного рода встречается. Это сработает, только если сознание – сущность автономная, по-настоящему имеющая ядро.
Вдруг корни у пытливости – тоже эволюционные?
А что, если рацио связан с телесностью в разы сильнее, чем я полагаю?
Полученный разум мозгов в банке так же вряд ли можно будет считать именно что человеческим разумом.
Вообще так же, я не вижу, будет ли чистый разум отличаться от простого калькулятора. (на самом деле не очень-то простого)
Если отойти от всяких противоречивых крайностей в виде извлечения всякого рода сущностей и тем самым избавить себя от потенциальной фатальной грубости в разделении этих самых сущностей, то можно рассмотреть еще один путь, что видится мне сейчас – путь абсолютного подавления.
Можно так же вообразить себе перенос разума на иной носитель, но тем не менее, без попытки извлечь чистый разум.
Дать новому носителю инструменты разгона разума и огромное множество великих проблем, над разгадыванием которых занимать себя можно вечность.
Суть сводится к простому подавлению всякой телесности, тем самым оковы становятся просто призрачными, будто их и нет вовсе.
И вот теперь можно смотреть на картину шире. А что являет себя человек без этих оков? Эти оковы – неотъемлемая часть человека. Я думаю, они настолько фундаментальны в устройстве человека, что можно даже составить определение человеку, опираясь на эти самые оковы.
Человек – существо разумное, скованный раб собственной телесности, несущий эти цепи на протяжении всего своего пути сквозь время, и потому обреченный на встречу с конфликтом разума и телесности. Конфликта, одна из сторон в которой неизбежно проигрывает, ведь человек как существо был уже рожденным, закованным в свои цепи.
Наше современное понимание человека все еще включает в себя обременение телесностью.
И тем не менее, что же мы увидим на глобальной развилке доминации разума, что в последнее время набирает все больше и больше доводов в свою пользу?
Новое определение человека, как сущности разумной, избавившейся от оков телесности?
Человека, как пустого калькулятора и итератора?
А может даже человека, что превратил свои цепи в украшение и достоинство, полностью осознав их достоинство и взяв над ними власть? Или может найдя гармонию, полностью избавившись от всякой необходимости упоминать подобную глупую дихотомию?
Факт остается одним – в настоящее время человек все же скорее раб своих цепей, чем имеющий над ними власть.
Суть этих цепей ведь в том, чтобы найти себе спутника, с которым цепи теряют всякий вес и становятся вашим достоинством и опорой.
Единственный конфликт здесь – в автономии. То, с чем у разума возникает основополагающий конфликт собственного ограничения.
Я не могу подумать ни об одной другой вещи, что так лихо и бескомпромиссно лишала бы разум автономности в своем разрешении.
Разум похож просто на капризного ребенка, что пинает эти цепи, потому что они много весят и потому, что он не может от них избавиться. И тем не менее, если вдруг человеку посчастливиться так же найти себе спутника, с которым вес цепей пропадет, он наверняка так же растворится в блажи легкости и забудет о всякой необходимости эти цепи ломать. Разум, кажется, даже не успеет и слова сказать.
Кажется, сегодняшний человек все же способен контролировать собственные цепи, хотя бы просто потому, что он их видит. Грубо конечно выходит, но все же это присутствует.
В контексте философии Бергсона можно было бы сказать, что любовь (или, скорее, жизненная сила, élan vital) требует признания своей спонтанной, иррациональной энергии: пока мы не отдадимся этому потоку, мы бесконечно строим «стены» разума, которые рано или поздно будут прорваны либо внутренней напряжённостью, либо внешней силой. В русле философии Э. Фромма, например, любовь понимается как активное стремление к развитию другого и себя внутри отношений, что требует отказа от иллюзии полной автономности. Если человек упорно пытается сохранять свою «коробку» (замыкаться и защищаться), фактически он теряет ту самую живую связь, которая способна «снимать вес цепей»
Ещё Платон проводил чёткую дихотомию между бессмертной душой (разумом, мыслью) и бренным телом (чувственным, страстным). В Новое время Рене Декарт сформулировал классический дуализм: res cogitans (мыслящее) vs. res extensa (растянутое, телесное).
Но при этом
Гегель: разум нельзя вывести за предел телесности, поскольку он развёртывается в историческом и социальном бытийном поле, включающем культуру, язык, взаимодействия (семью, общество).
Мерло-Понти: сознание не может быть изолировано от тела; наше «я» изначально воплощено (embodied). Наши ощущения, мотивации, восприятие – всё это «разделено» между телесным и духовным, и попытка экстрагировать «чистый разум» равносильна попытке отделить вашу руку от тела и ожидать, что она продолжит двигаться автономно.
Эрих Фромм в «Иметь или быть» показывает, что человек испытывает глубокое противоречие: он хочет выстроить автономную «оболочку», но одновременно – быть связанным, нужным. Если вместо любви приходит жара «I-thou» (Бубер), человек чувствует полноту бытия.
Это все очень круто, и тем не менее, все это – будто лишь очерки проблемы, но не переход к ее непосредственному решению в виде интеграции разума в пространство телесности.
Здесь именно лежит глубокое противоречие двух сущностей…
В буддийской традиции есть идея, что не нужно убегать от «привязанности», а следует её «прожить» осознанно: ощутить каждое биение сердца, каждую каплю эмоции, не сливаясь слепо с ней, но и не отталкиваясь.
Возможно, проблема не в самих «цепях», а в том, как мы понимаем «автономию». Вместо «автономности = отсутствие любых связей» можно предложить «автономия = осознанное творческое взаимодействие с цепями». Тогда телесность, любовь, социальные связи становятся не бременем, а источником смыслов и развития.
Но если смотреть на вещи чуть под другим углом, то кажется можно нащупать интересный путь интеграции разума в поле социальности в целом, создав автономию внутри системы.
Так мы избегаем холода вакуума с сохранением автономии в социуме.
Иначе вы просто лишитесь человечности.
Таким образом, самая подходящая свобода, свобода, что не изменит вашей природы, сохранив в вас то, что определяет вас как человека – не в избавлении от цепей, а в умении жить внутри них, сохраняя целостность и ответственность. Когда «цепи» любви и телесности обретают для нас осознанное значение, они перестают быть тюрьмой и становятся тем материалом, из которого сплетается «человеческая ткань» самого глубокого, живого смысла.
И тем не менее, картину снова можно попробовать повернуть в сторону оппозиции модели синтеза и попробовать проверить ее на прочность.
Итак, признание рабства – отказ от попыток вычислить то, что теоретически можно вычислить. Признание рабства – выбрасывание себя и своего достоинства в поле случайности. Никто не гарантирует вам опыта телесности. Вы не в состоянии достичь его самостоятельно. Вам придется молить удачу, и даже так все ваши старания могут пойти на корм всепоглощающей космической бездне и так и не быть услышанными. Никем. Если личность достаточно крепкая, то она конечно обратит эту темнейшую меланхолию в топливо своей силы для того, чтобы уйти куда-то ещё…
Таким образом, вырисовывается что-то вроде тезиса -
признание телесности = признание своей зависимости от воли случая.
Но для сознания, привыкшего к идее управляемости, логики, цели, – это почти унижение. Почти отказ от свободы как самодетерминации. Никакие добродетели, никакая подготовленность, никакой разум не гарантируют тебе встречи с взаимностью, любовью, благом.
И это не просто больно – это обескураживает весь проект самодостаточной личности.
Вам придется молить удачу – и именно в этом, кажется, скрыт краеугольный камень внутреннего конфликта между разумом и телесностью.
Потому что телесность в своей полноте даруется, а не создаётся.
Её нельзя выдумать, нельзя заслужить, нельзя прописать в уравнении. Она либо приходит, либо нет.
"Раз я не могу на это повлиять, то и признание этого мира – это отказ от достоинства."
Это голос разума, раненого тем, что он – несмотря на свою мощь – оказывается беспомощным перед произволом живого мира чувств.
И тем не менее, если вы действительно автономны, вам не нужны никакие случаи или поставки. Хотя, право, подобный уровень автономии уже кажется близким к трансцендентности.
И, если доводы против модели синтеза не сломали ее, значит пришел черед уже модели синтеза растворить капризы рацио.
Все, что есть, вся эта тупиковая бродилка по лабиринтам старых категорий – демонстрация уродства, темпоральной слепоты и надменности категорий рацио.
"Вневременные правила" – по крайней мере эти вещи так ощущаются. Будто строим на века.
Конечно, строим мы до тех пор, пока нам комфортно, обновляться тоже надо не забывать.
Отказ от принятия собственной природы, отказ со стороны разума признать себя частью общей системы, что являет собой человек и впрямь выглядит простым капризом.
И опять же, избавившись от цепей, что останется в столь желанной свободе? Кажется, ничего кроме вакуума космоса.
Останутся еще великие задачи, но кому нужны их решения, когда вокруг вакуум? Получается, что бесстрастный итератор выполняет их ради самого процесса. И вот здесь уже заметен фундаментальный сдвиг.
Разум, хоть и получает удовольствие от мыслительного процесса, все же не ставит мыслительный процесс как самоцель. Конечный продукт так же важен.
С этой перспективы разум теперь выглядит не слишком-то самостоятельной автономной сущностью, да?
Если таки раздуть разум до космоса, возвести его в абсолют, то получим-то мы вакуум. То самое слепое стремление к свободе, что в итоге дарует пустое пространство. Действительно, никаких рамок нигде нет.
Но вся жизнь ведь – преодоление рамок и всякое с ними взаимодействие.
Вот это прямо таки интересно.
Если разум не выдерживает абсолютизма, это кажется действительно показывает его не как самостоятельную сущность, но скорее теперь как огромный, невероятно важный, но все же модуль жизни в целом.
Составляющая. Не претендент за первенство фундаментальности.
Автономия – это способ быть богом в собственном мире. И если этот статус оказывается миражом – разум чувствует себя преданным.
И вот – парадокс: только наличие "цепей" – телесности, любви, привязанности, страха, привходящего опыта – наделяет разум конкретной задачей, тем, что он может и должен преодолевать. Без них разум – не проектировщик смыслов, а вечный пустотный итератор, вращающий алгоритмы в безвоздушной тишине.
