Одному только Господу Богу известно, зачем Михалыч едет в Рязань
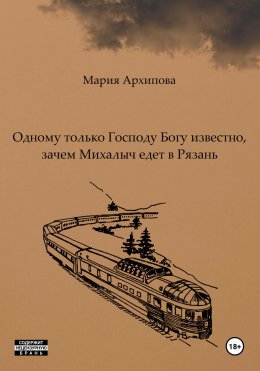
– А вы зачем здесь, товарищ?
Сначала я не понял, что спрашивают именно меня. Потом, сфокусировав зрение и поймав на себе взгляд соответствующего выражения, не понял, чтó именно меня спрашивают.
«Прошу прощения, можете повторить?» – хотел сказать я. Непослушные язык и губы сложили только протяжное:
– Чуво-о?
– Говорю, вы куда едете? – терпеливо, но громко, как слабослышащему, повторил человек.
Я пытался разглядеть – его и пространство вокруг – но картинка плыла, и болел каждый миллиметр головы. Вокруг – железное продолговатое туловище вагона поезда, которое при малейшем движении, совершаемым им не по собственной воле, издавало усталый скрип. Темно и пыльно. Лицо у человека, сидящего передо мной на корточках, гладко выбритое, и сам он черноглазый и темноволосый, лет на вид тридцати пяти.
– А поезд куда идет?
– На Рязань, – ответил черноглазый человек.
– Ну, вот туда я и еду, – с облегчением сообразил я.
– Билет у вас есть?
Билет… Я стал вспоминать, как вообще в этом поезде оказался. За окном стояли фиолетовые сумерки, и все в сиреневом свете казалось сном. Хотел бы я, чтобы это оказался просто сон…
– Ваш билет, – черноглазый человек крепко тряхнул меня за плечо, и я наконец рассмотрел, что он в униформе.
Вот и накрылось мое странное бесцельное путешествие. В рязанской электричке меня еще не паковали.
– Слушай, брат, – он, видимо, понял, что дело и без того плохо, покрепче сжал мой рукав и притянул к себе, – если найдешь, чем заплатить на выходе, уйдешь спокойно. Нет – будем штраф прописывать раз в пять больше. Что выбираешь?
Денег у меня не водилось – на пять билетов тем более – поэтому, очевидно, легче было откопать хотя бы на один. Черноглазый отпустил мою руку и тихо проговорил:
– Надеюсь, в Рязани не увидимся.
Минуты текли, и поезд ехал умеренно быстро сквозь сплошной коридор высоких сизых сосен. Рядом со мной не было никого, кроме пары человек по разным концам вагона: возможно, из-за позднего времени и крепкого мороза снаружи. Узнать бы еще, который час и как скоро мне нужно придумать беспроигрышный план по обходу вокзальных служащих.
Долго не раздумывая, я предпринял попытку встать. Получилось со второго раза: меня знобило, а поезд потрясывало в такт. Вспомнить бы еще, что я (или мы?) пил(и) вчера и из-за чего так сильно может ломить голову.
У меня было два пути: вперед и назад. Вперед – к женщине лет шестидесяти, полной, в синей шапке из искусственного меха, по форме напоминающей приплюснутые песочные часы. Назад – к парню лет шестнадцати, одетому не по погоде в короткое осеннее пальто, которое явно было ему мало в плечах. Оба они имели вид потерянный, как будто их так же, как и меня, привел в эту электричку злой случай.
Я пошел вперед, пытаясь как можно меньше поддаваться покачиваниям вагона. Женщина кинула на меня косой взгляд и, поняв, что я движусь ни к кому иному, как к ней, начала ерзать на месте и придвигаться вплотную к окну, будто в попытке слиться с ним и скамьей поезда.
– У вас пятидесяти рублей не найдется?
– Нет, нет у меня ничего, ступай отсюда, – скороговоркой проговорила та и сморщила нос.
– Пожалуйста, у меня жена и сын… – завел я.
– Нет у меня, нет! Иди! – толкнула она рукой воздух в моем направлении.
Я замолчал и продолжал смотреть на нее. Женщина отвернулась от меня всем корпусом и уставилась в грязное окно.
Остался мальчишка.
После того, как я в последние двадцать минут сказал несколько не требующих особого труда слов, до мозга добралось осознание, как же жутко меня сушит и как жутко хочется курить.
– Парень, у тебя денег не найдется?
Оценив боковым зрением мой непрезентабельный вид, он содрогнулся и резко перевел взгляд в окно. Потом уставился в пол и повел носом так же, как моя собеседница пару минут назад – усики над верхней губой заплясали, и, будь он похрабрее, наверное, сплюнул бы на пол.
– Нет у меня, – хмуро промямлил он.
– Брат, послушай, мне хотя бы полтинник, итак проштрафился, три дня дома не появлялся, а если меня сейчас еще менты упакуют, жена попрет… И у меня самого сынишка твоих лет… выручи, ну!
Обычно с молодыми людьми эта моя история работала – внушала страх и жалость одновременно. Так и сейчас, парнишка еще несколько секунд посверлил взглядом пол, а потом потянулся к внутреннему карману пальто.
– На, мельче нет.
В руке оказалась новенькая, еще хрустящая, согнутая ровно пополам сотенная. Сердце мое иссушенное тепло перевернулось в груди.
– Спасибо, сынок, бог тебя храни. Может, сигаретка еще найдется?
– Не курю, бать.
Я покивал ему и ушел на свое место посреди вагона. Богом одним я был спасен; осталось только доехать.Надо во что бы то ни стало вспомнить, зачем я оказался здесь.
Вагон мерно покачивался, как колыбель, и сиденья все, покрашенные зеленой школьной краской, непрестанно скрипели на разный лад от этого беспрестанного движения. И за окном от усиливающегося ветра начали мерно покачиваться пики деревьев, одетые в снег, и вот уже плачет метель, как цыганская скрипка, милая девушка, злая улыбка, я ль не робею от синего взгляда?..
Снова схватила чья-то грубая рука и начала трясти. Я открыл глаза и увидел в окно поезда сплошную черноту: видно, настала уже слишком глубокая ночь, или, быть может, прибыли мы на какую-то крытую станцию.
– Товари-и-ищ, вставайте давайте! – раздался прямо над моей головой высокий голос.
– А я где? – тихо проговорил я и огляделся. Поезд стоял.
– Где-где, в … ! – срифмовала она непечатно. – Пить меньше надо!
Голос принадлежал женщине невысокого роста с жидкими, обесцвеченными волосами, выглядывающими тонкими хвостиками из-под синей пилотки.
Кровь у меня вскипела. Обычно я не позволяю этой юношеской горячности овладевать мной перед теми, от настроения и действий которых в данный момент зависит моя судьба, но тут, спросонья, не раскинул мозгами как следует.
– Сам разберусь, что мне надо.
– Да что ты! – взвизгнула женщина, и голос ее прошелся лезвием прямо по кровоточащим моим мозгам. В ушах зазвенело, и следующая ее фраза слилась в одну протяжную высокую ноту. – А кому потом с вами, самостоятельными, разбираться? Нам! Только нам! А ты знаешь, сколько таких у нас тут в депо в ночи оказывается?
– Барышня, прошу… – потянулся я к голове и обнаружил, что рукава моей и без того изгвазданной куртки залиты чем-то черным – и, по ощущениям, изнутри, потому что что-то внутри беспрестанно царапало руки. Но я решил оставить это открытие без разгадки до тех пор, пока не определю, почему и где поезд, в котором мне уже стало почти хорошо, остановился – и что мне с этим делать дальше.
– Херово тебе, да? Херово? – взъелась она еще больше и тряхнула меня за рукав. – Пошли давай!
– Куда «пошли»?
– Оформляться, куда! Ты в депо приехал, штраф две тыщи, – процедила она сквозь зубы и зыркнула огнем.
– Барышня, у меня сто рублей и все. Поймите, у меня жена, сын дома…
– О-о-о, любимая моя история. Ты, когда хрюкался, похоже, только про них и думал, – женщина уперлась руками в бока, глянула в сторону и кивнула кому-то. Вдали послышались тяжелые, звучные шаги. – Лева, тут забирать опять.
В вагон вошел черноглазый человек. Увидев меня, повел плечами и с едва уловимой горечью на секунду поджал губы, будто отвечал сильному своему разочарованию. На уровне глаз моих оказались его начищенные сапоги; одним движением руки он легко поднял меня за шкирок.
– Ну, не одно так другое, брат. Нельзя так.
Через пятнадцать минут я сидел уже в участке депо под фосфорическим светом лампы и из оставшихся сил доказывал, что наполовину пустая пятидесятиграммовая склянка в кармане куртки и сто рублей, выпрошенные у паренька, – единственное, что представляет меня в Рязани как личность; и что легче им сейчас, в два часа ночи, пустить меня с миром, а не заниматься пробиванием по базам Подольска. Единственное, что не подвело меня в этот день, – риторика, и только благодаря ей я был отпущен без потерь.
По дорожке чистой, гладкой я прошел, не наследил… кто ж катался здесь украдкой? Кто здесь падал и ходил?
Кто здесь падал, кто ходил?
Шел сильный снег. Хотелось верить, что еще немного, и мороз начнет слабеть: после таких снегопадов обыкновенно всегда теплело. Но сейчас, глубокой ночью, за пределами депо было мрачно и безлюдно.
Куда мне следовать дальше, я не знал. Впереди устало моргал желтый фонарь, освещая купол какой-то церкви. Я решил пойти на этот свет, хотя бы как-то напоминавший моему сознанию ориентир. Вверх по рельсам проходило шоссе, и через четверть часа ковыляния по заснеженным дорогам я увидел здание вокзала. Куртка моя особенно меня не грела: оставалось только поверить собственным надеждам, что утром станет теплее, и переждать на втором этаже – там, где меня с меньшей вероятностью найдет строгий взгляд дежурных и полиции.
Проснулся я в седьмом часу. Голова не проходила, а после нескольких часов в полузабытьи и вовсе разболелась еще сильнее – больше того, ныть начали руки, ноги и грудь, будто меня потрепала свора собак. Я выбрался из угла коридора, который, по-видимому, вел к шваберной, и направился к спуску на первый этаж.
Стояла непривычная тишина. Тут и там, поодиночке, с сумками и чемоданами, сидели люди – мало людей, и все какого-то потерянного вида. Обогнув дремлющего на стуле вокзального служащего, я вышел на улицу; лучи уже начинали пробиваться сквозь густые тучи, и, в сравнении с ночью, растеплилось ощутимо. При виде солнца мне и самому стало лучше. Осталось это чем-то закрепить, и после – думать, что делать и куда идти.
Я шел по улице Вокзальной, никуда не сворачивая: впереди, в густой дымке рассветного неба горели вывески продуктовых магазинов, но все они были еще закрыты. Вот уже столько лет (припомнить бы, сколько!) самым главным испытанием из всех, что жизнь преподносила мне на серебряном блюде, было переждать эти утренние час или два, тянущиеся дольше всего на свете и тянущие из меня по волосинкам бесчисленных нервов последние жизненные соки.
Именно в эти моменты мною так жарко ощущалась суть отчаяния, вся природа горя и тяжесть прохождения каждой из его стадий; суть понятия «запретный плод» и жадность в желании им обладать. Первую стадию – отрицание – я преодолевал легко; на вторую – злость – меня подталкивали физические ощущения: в миру – «ломка», как сейчас, когда я слепо бежал по сугробам от того, чтó меня корежило, вперед, направо, наискосок, будто бы действительно ноги мои способны были унести душу от страданий тела; на третьей – торг – я переставал искать глазами горящие вывески, пытался начать мыслить глубже настолько, насколько хватало сил, и искать иные, менее заметные опознавательные знаки магазинчиков и лавок, которые могли бы мне помочь. Иногда, спустя некоторое (очень долгое для моего мозга) время таких поисков, я не находил ничего и останавливался посреди дороги, обессиленный, готовый лечь в сугроб и думать о тщете жизни до тех пор, пока не заиндевеют остатки моего изможденного серого вещества и не придет Господь по мою душу. Бывало, я действительно падал посреди дороги: редкие люди проходили мимо, не оборачиваясь, – это ощущалось так, будто сама природа создает для меня обстановку, идеальную для репетиции последних мгновений.
Синий свет, свет такой синий! В эту синь даже умереть не жаль. Мне… так хочется вам нежное сказать: спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи! Отзвенела по траве сумерек зари коса… Мне сегодня хочется очень из окошка луну…
И я поднимаюсь: я принимаю мысль – снова не сегодня. Придется еще побродить. Мутным взглядом тогда я смотрел вверх, в небо, и наблюдал, как гаснут последние звезды, и отсчитывал мгновения до наступления восьми часов.
А потом, собираясь с последними силами, отдавал или выменивал все имеющееся на водку.
В этот раз я добрел к 7:40 к магазину «Продукты» на повороте улицы Вокзальной и заполучил «Пчелку» за 98 рублей. Выпив залпом половину, я понял, откуда мне знаком этот сладкий оттенок вкуса: ее мы пили с Жорой, моим соседом-одногодкой, когда служили в Алакуртти, – маленьком селе Мурманской области, недалеко от Белого моря, окруженном сплошь тундровыми озерами и болотами. Там было три больших улицы и парочка переулков, школа, магазин, воинская часть и психоневрологический интернат. Лето – единственное время, когда день составлял четыре часа, – длилось пару месяцев, а зима со сдувающей с ног пургой – все оставшееся время. Из алкоголя нам доставался только плохой коньяк, от которого на следующее утро все прыгало в глазах, и, собственно, «Пчелка» – на удивление, последняя ничего такого не давала, и оттого почти весь год мы пили только ее. Не одно только тело пробрало от этих воспоминаний.
– Вы бы уж хоть не здесь, – оборвала лирику продавщица, глядевшая на весь мой обряд со слабо скрываемым презрением.
На вид это была девушка лет двадцати, полная, со слегка отечным лицом – от постоянной ли усталости, от любви ли пропустить стаканчик, или от чего еще; одно мне было ясно – ее молодой, хотя и уже немного тронутый нерадостью жизни образ пробуждал во мне усердно отгоняемые из раза в раз мысли о сыне. Последнее время все о нем напоминало мне почти каждый день.
– Если б было где еще, – пробормотал я в ответ.
Было бы хорошо побыть в этом магазинчике хоть с час, чтобы окончательно согреться и подумать; но с девчонкой, скорее всего, не получится – начнет гнать, а то и вовсе вызовет наряд. Поэтому я постоял несколько секунд, смотря сквозь прозрачную пластиковую вставку в двери, как медленно падают с неба уже сравнительно редкие снежинки, выдохнул и вышел на улицу.
Люди начали просыпаться и выходить из своих домов по каким-то, наверное, важным для них делам. Интересно, как они тут, в Рязани, живут… И чем? Тем же самым, что и в Подольске, Алакуртти или какой-нибудь Африке? думают ли они как-то иначе? Нет, наверное, все же никто ничем так сильно не отличается. По крайней мере, выброшенных в кювет, вероятнее всего, хватает везде.
– Вы в Константиново знаете, как добраться? – неожиданно громко даже для самого себя сказал я мимо проходящему мужчине. Он был одет в черное двубортное шерстяное пальто; в одной руке держал портфель, а второй усиленно притягивал к лицу воротник, пытаясь закрыть шею и щеки. Он быстро зыркнул на меня и широким шагом прошел мимо.
«А зачем мне опять куда-то ехать?» – протекла лениво, сквозь плотный сумрак сознания, в голове мысль и мягко растворилась в глубине, так и не найдя себе ответа.
Делать больше ничего не оставалось. Тогда ночью сам ли я или что-то за меня решило отправиться в этот непонятный и не имеющий особой цели путь – так и сейчас что-то схожей природы тянуло катиться дальше, вниз… Любимая!
– Вы не подскажите, как до Константинова доехать? – вернулся я в ларек и пахну́л девушке-продавщице в лицо этим вопросом. Она изобразила на лице неделанную радость от новой со мной встречи, повернула голову вправо, чтобы вобрать в себя свежего воздуха, и ответила:
– Сначала одним автобусом до Рыбного вам надо, а потом оттуда – вторым, – она отвернулась посмотреть на часы, – через пятнадцать минут первый уходит с автовокзала. Там, за поворотом.
И дальше я трясся с полчаса в хвосте мерзлого автобуса. За окном медленно разгорался поздний зимний рассвет. Ехали мы сначала сплошной промзоной, а потом – полем: туманный горизонт сливался где-то вдалеке с белой пучиной снега.
Я успел выскочить без билета на перекрестке привокзальной площади. Под звук закрывающихся дверей среди других пассажиров прокатилось эхо приглушенного возмущения. То, что оно, очевидно, было направлено на меня, мне было совершенно не интересно; как будто я бесповоротно согласился принять правила странной игры, которое мое подсознание затеяло само с собой.
Над серой площадью Рыбного снова пошел мелкий снег. Женщина в кассе ответила, что ближайший автобус до Константинова уходит через два часа. Ужасно хотелось курить. Два часа, с первой мысли, не казались долгими – однако и эти минуты нужно было чем-то занять. Время по-трезвому, оказывается, течет в несколько раз медленнее. Я уже и забыл, чем можно жить без упоительной пустоты в голове.
Начинало знобить. Откуда-то потянуло запахом еды. Я резко повернулся, и неконтролируемой тупой тягой мозг увел меня в сторону: заснеженный асфальт вдруг оказался где-то наверху, а серое небо – снизу. Сколько я не ел и сколько выпил водки, вспомнить я не мог – похоже, что долго и много. Встав с коленей, мелким шагом я засеменил вдоль стены площади в поисках источника этого дурманящего запаха и совсем скоро наткнулся на неоновую вывеску буфета. Дверь его была открыта, и свет изнутри клином падал на асфальт передо мной.
Это был маленький, стандартного вокзального вида ларек, из которого теплой волной катил запах выпечки, мяса и масла. За прилавком стоял худощавый парень и переворачивал коробки с пакетами. Увидев, что кто-то входит, он натянул на себя машинальную улыбку, которая сразу же пропала, как только до него дошло, чтó именно я собой представляю.
– Сигарет-алкоголя, нет, брат, – быстро проговорил он и сразу опустился обратно перебирать пакеты.
– А я как раз не за этим, – выдавил из себя я, – больно вкусно у тебя пахнет.
– Да, вот только новая партия, горячая еще.
– Есть что на тридцать рублей?
– Тридцать… – задумался он, – полбатона. Из списанки пирожки с картошкой, за так дам.
– Выручишь, брат, – проговорил я и облокотился на стойку; в глазах все сильнее мутнело.
– Ты только не падай, – он положил передо мной батон в целлофановом пакете, запотевшем от тепла. Я взял его в руки: явственно в памяти всплыла картинка из магазина в Кандалакше, где мы с отцом всегда покупали хлеб. Я развернул пакет и впился зубами в хрустящую корочку.
Пока, призакрыв глаза, я наслаждался медленно разливающимся по телу теплом, на прилавке появился чай в пластиковом походном стаканчике.
– Спасибо, но, честно, брат, совсем ни гроша. Только на батон и наскребу, – сказал я парню.
– За счет заведения, – ответил он и улыбнулся мне. – Вот еще, – он дал мне свернутые в один пакет пирожки и маленькую горсть орехов, – все со вчера, мне не надо.
Поблагодарил я его, наверное, трижды; парень улыбнулся и спросил:
– Ты откуда? Раньше не захаживал.
Я замялся и ответил, что просто еду в Константиново.
– А, живешь там? Хорошее сельцо, мне нравится. Я сам из Спас-Клепиков, часто с семьей к вам выбираемся…
Я не стал ему возражать, говорить, что на самом деле я вовсе не из Константинова, и что занесла меня сюда нелегкая – я просто пил чай, ел хлеб, и слушал рассказ: про то, как со своей молодой женой они покупали в Клепиках дом; как он сам научился печь в свое время пироги, еще когда был в училище; как закупает сейчас хлеб у своих соседей; как каждый день ездит сюда, в Рыбное, продавать; как к лету надеется скопить достаточно, чтобы достроить дачу на Оке…
Я слушал его с долей какого-то неясного мне упоения и где-то про себя думал: как же я? Как же я так, стою перед этим парнем, а сам гол как сокол, и за душой у меня – ничего? И не наберется у меня, взрослого мужика, старше этого юнца в два раза, и трети этой истории, и не помню я ничего, кроме имен, кроме пробегающих в памяти безликих образов?
– А как ты здесь? – он воодушевленно закончил свою мысль и ожидал, по-видимому, от меня тоже что-нибудь, что пришлось бы долго слушать.
– А… – автоматически заикнулся я, будто было мне, что сказать. – Я ничего, брат.
Наступила пауза. Он смотрел на меня карими глазами, так, как всего несколько часов назад смотрел тот самый, в начищенных до блеска сапогах, Лева – взглядом будто бы понимающим, но в котором, вместе с присущим отзывчивым, не успевшим еще очерстветь сердцам сочувствием, гуляла совершенно противоположная, инородная тень легкого осуждения, неприязни, брезгливости. Я молчал и принимал на себя этот взгляд без каких-либо попыток отразить.
– Я – ничего.
***
До прихода автобуса оставалось немного: совсем рассвело, и я, уже относительно твердо стоя на ногах, вышел на остановку. Курить хотелось, что странно, меньше. По пути я расстегнул куртку и положил во внутренний карман, к «Пчелке», все, что мне досталось из лавки. Тут удалось нащупать в кармане небольшую бумажку. Сердце замерло – возможно, найдется хоть пол сигареты – но тут же упало вниз: это оказался просто листок с почти полностью выцветшим текстом. Я разобрал свой мелкий почерк: «Николай» и номер телефона.
