Глобализация бедности
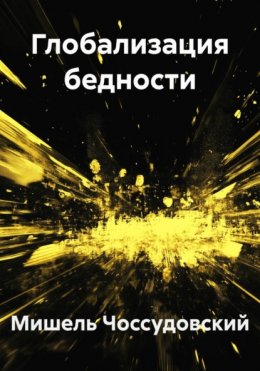
Предисловие ко второму изданию
Через несколько недель после военного переворота в Чили 11 сентября 1973 года, в результате которого было свергнуто избранное правительство президента Сальвадора Альенде, военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом приказала повысить цены на хлеб с 11 до 40 эскудо, что на 264 % больше. Эта экономическая шоковая терапия была разработана группой экономистов, также известных под названием «чикагские мальчики».
Во время военного переворота я преподавал в Институте экономики Католического университета Чили, который служил штаб-квартирой для чикагских экономистов, учеников Милтона Фридмана. В тот день через, несколько часов после взрыва президентского дворца Ла Монеда новые военные правители ввели 72-часовой комендантский час. Когда университет вновь открылся несколько дней спустя, «чикагские мальчики» ликовали. Не прошло и недели, как несколько моих коллег из Института экономики были назначены на важнейшие посты в военном правительстве.
В то время как цены на продовольствие взлетели до небес, заработная плата была заморожена, чтобы обеспечить «экономическую стабильность и предотвратить инфляционное давление». Вскоре вся страна погрузилась в пучину ужасающей нищеты: менее чем за год цены на хлеб в Чили выросли в тридцать шесть раз, а 85 % чилийского населения оказалось за чертой бедности.
Эти события глубоко повлияли на мою работу как экономиста. Из-за манипуляций с ценами, заработной платой и процентными ставками были разрушены жизни людей; была дестабилизирована вся национальная экономика. Я начал понимать, что макроэкономическая реформа не была ни «нейтральной», как утверждал академический мейнстрим, ни отдельной от более широкого процесса социальных и политических преобразований. В своих предыдущих работах о чилийской военной хунте я рассматривал так называемый «свободный рынок» как хорошо организованный инструмент «экономических репрессий».
Два года спустя, в 1976 году, я вернулся в Латинскую Америку в качестве приглашенного профессора в Национальном университете Кордовы в северном промышленном центре Аргентины. Мое пребывание совпало с очередным военным переворотом и последующей «грязной войной», основными жертвами которой были левые активисты, включая деятелей профсоюзного движения, студентов, журналистов, марксистов и перонистов, их эвфемистически обозначили словом «десапаресидос» – «пропавший без вести». Десятки тысяч людей были арестованы, множество «десапаресидос» были убиты. Военный переворот в Аргентине был точной копией государственного переворота в Чили под руководством Центрального разведывательного управления США. За массовыми убийствами и нарушениями прав человека также последовали реформы «свободного рынка» – на этот раз под наблюдением нью-йоркских кредиторов Аргентины.
Смертоносные экономические рецепты Международного валютного фонда, применяемые под видом «программы структурной перестройки», еще не были официально запущены. Опыт Чили и Аргентины под руководством «чикагских мальчиков» стал генеральной репетицией грядущих событий. С этого времени «экономические пули» системы свободного рынка стали поражать одну страну за другой. С начала долгового кризиса 1980-х годов одно и то же экономическое лекарство МВФ регулярно применялось более чем в 150 развивающихся странах. Моя предыдущая работа в Чили, Аргентине и Перу побудила меня к изучению глобальных последствий этих реформ. Я понял, что так, непрерывно подпитываясь нищетой и экономическими неурядицами, формировался Новый мировой порядок.
Со временем большинство военных режимов в Латинской Америке были заменены парламентскими «демократиями». На них была возложена ужасающая в своем цинизме задача выставить национальную экономику на аукцион в рамках программ приватизации, спонсируемых Всемирным банком. В 1990 году я вернулся в Католический университет Перу, где преподавал после того, как покинул Чили в течение нескольких месяцев после военного переворота 1973 года.
Я прибыл в Лиму в разгар избирательной кампании 1990 года. Страна находилась в экономическом кризисе. Уходящее популистское правительство президента Алана Гарсии было занесено в «черный список» управления финансовых рынков (Autorité des Marchés Financiers (AMF)). 28 июля 1990 года Альберто Фухимори стал новым президентом. И всего через несколько дней «экономическая шоковая терапия» нанесла двойной удар. Перу было наказано за невыполнение требований МВФ: цены на топливо были повышены в 31 раз, а цены на хлеб выросли более чем в двенадцать раз за один день. МВФ консультировался с Министерством финансов США и действовал негласно. Эти реформы, проведенные во имя «демократии», были даже гораздо более разрушительными, чем те, которые были проведены в Чили и Аргентине привоенных режимах.
В 1980-е и 1990-е годы я много путешествовал по Африке. Полевое исследование для первого издания фактически было начато в Руанде, которая, несмотря на высокий уровень нищеты, достигла самообеспеченности в производстве продовольствия. Но с начала 1990-х годов Руанда была разрушена как функционирующая национальная экономика; ее некогда динамично развивающаяся сельскохозяйственная система была дестабилизирована. МВФ потребовал «открыть» внутренний рынок для демпинга излишков зерна в США и Европе. Цель состояла в том, чтобы «побудить руандийских фермеров быть более конкурентоспособными» (см. главу 7.)
С 1992 по 1995 год я проводил полевые исследования в Индии, Бангладеш и Вьетнаме и вернулся в Латинскую Америку, чтобы завершить свое исследование в Бразилии. Во всех странах, которые я посетил, включая Кению, Нигерию, Египет, Марокко и Филиппины, я наблюдал одну и ту же модель экономических манипуляций и политического вмешательства со стороны базирующихся в Вашингтоне институтов. В Индии, непосредственно в результате реформ МВФ, миллионы людей умирали от голодной смерти. Во Вьетнаме, который входит в число наиболее процветающих стран мира по производству риса, разразился голод на местном уровне, непосредственно вызванный отменой контроля цен и дерегулированием рынка зерна.
В разгар экономического кризиса, совпавшего с окончанием «холодной войны», я побывал в нескольких городах и сельскохозяйственных районах России. Реформы, спонсируемые МВФ, вступили в новую фазу, охватив страны бывшего Восточного блока. Начиная с 1992 года, обширные территории бывшего Советского Союза, от Прибалтики до Восточной Сибири, были ввергнуты в ужасающую нищету.
Работа над первым изданием была завершена в начале 1996 года, когда в него было включено подробное исследование экономического распада Югославии (см. главу 17). Там была запущена разработанная экономистами Всемирного банка «программа банкротства», в 1989-90 годах было ликвидировано около 1100 промышленных предприятий и уволено более 614 тысяч промышленных рабочих. И это было только началом гораздо более серьезного экономического раскола Югославской Федерации.
С момента публикации первого издания в 1997 году мир кардинально изменился; «глобализация бедности» распространила свое влияние на все основные регионы мира, включая Западную Европу и Северную Америку.
Так устанавливался Новый мировой порядок, разрушающий национальный суверенитет и права граждан. По новым правилам Всемирной торговой организации, созданной в 1995 году, «укоренившиеся права» были предоставлены крупнейшим мировым банкам и транснациональным конгломератам. Государственные долги резко возрастали, институты рушились, а накопление частной прибыли неуклонно прогрессировало.
В формирующемся Новом мировом порядке войны в Афганистане (2001) и Ираке (2003) под руководством США знаменуют собой важный поворотный момент. Во время выхода второго издания в печать, американские и британские войска вторглись в Ирак, разрушив его общественную инфраструктуру и убив тысячи мирных жителей. После 13 лет экономических санкций война в Ираке ввергла все население в нищету. Соединенные Штаты пошли на военную авантюру, последствия которой ощущаются до сих пор. Это была крупнейшая демонстрация военной мощи со времен Второй мировой войны.
Решение о вторжении в Ирак не имело ничего общего с «оружием массового уничтожения Саддама» или его предполагаемыми связями с «Аль-Каидой». Ирак обладает 11 % мировых запасов нефти, что более чем в пять раз превышает запасы США. Если взять широкий регион Ближнего Востока и Центральной Азии, простирающийся от окраины Аравийского полуострова до бассейна Каспийского моря, то в нем содержится примерно 70 % мировых запасов нефти и природного газа.
После вторжения экономика Ирака оказалась под юрисдикцией военного оккупационного правительства США во главе с генералом в отставке Джеем Гарднером, бывшим генеральным директором одного из крупнейших американских производителей оружия.
В сотрудничестве с администрацией США и Парижским клубом официальных кредиторов МВФ и Всемирный банк были призваны сыграть ключевую роль в послевоенном «восстановлении» Ирака. Скрытый замысел состоит в том, чтобы навязать доллар США в качестве прокси-валюты (валюты-посредника) Ирака в рамках соглашения о валютном управлении, аналогичного тому, которое было введено в отношении Боснии и Герцеговины в Дейтонском соглашении 1995 года (см. главу 17). В свою очередь, обширные запасы нефти Ирака должны перейти в руки англо-американских нефтяных гигантов.
Растущий внешний долг Ирака планировалось использоваться в качестве инструмента экономического разграбления через определенные условия, согласно которым практически вся национальная экономика будет выставлена на аукцион. МВФ и Всемирный банк же были привлечены для придания легитимности разграблению нефтяных богатств Ирака.
Война, которая несколько лет находилась на стадии планирования, грозит охватить и гораздо более обширный регион. Документ Центрального командования США 1995 года подтверждает, что «цель участия США (…) состоит в защите жизненно важных интересов США в регионе – бесперебойном и безопасном доступе США и союзников к нефти Персидского залива».
Таким образом, война и глобализация идут рука об руку. При поддержке американской военной машины разворачивается новая смертоносная фаза глобализации, возглавляемой корпорациями. Развертывание американской военной машины направлено на расширение экономической сферы влияния Америки на территории, простирающейся от Средиземноморья до западной границы Китая. США установили постоянное военное присутствие не только в Ираке и Афганистане, но также владеют военными базами в ряде бывших советских республик. Другими словами, милитаризация способствует завоеванию новых экономических границ и повсеместному внедрению системы «свободного рынка».
Военная агрессия США в Афганистане (2001–2014 гг.) и Ираке (2003–2011 гг.) продолжалась, когда разгорелся мировой экономический кризис, или Великая рецессия 2008 г., уходившая корнями в долговой кризис начала 1980-х годов.
По геополитическим последствиям мировой кризис 2008 г. был более разрушителен, чем Великая депрессия 1930-х годов. Он сопровождался вспышками региональных войн, расколом национальных обществ и в некоторых случаях разрушением целых стран. На сегодняшний день это самый серьезный экономический кризис в современной истории.
Войны под руководством США имели прямое влияние на экономический кризис. Государственные ресурсы в США были перенаправлены на финансирование военно-промышленного комплекса и укрепление внутренней безопасности за счет финансирования столь необходимых социальных программ, которые были урезаны до минимума.
Масштабная пропагандистская кампания, развернувшаяся после событий 11 сентября 2001 года, укрепила шаткую легитимность «глобальной системы свободного рынка», открыв двери для новой волны дерегулирования и приватизации. В результате глобальные корпорации захватили большинство государственных служб и государственной инфраструктуры (включая здравоохранение, электричество, водоснабжение и транспорт).
Более того, в США, Великобритании и большинстве стран Евросоюза была пересмотрена правовая структура общества. Де-факто был отмен принцип верховенства права и возникли основы авторитарного государственного аппарата, практически без какой-либо организованной оппозиции со стороны гражданского общества.
Новые главы, добавленные ко второму изданию этой книги, посвящены некоторым ключевым проблемам XXI века: буму слияний и поглощений, концентрации корпоративной власти, кризисам национальных и региональных экономик, краху финансовых рынков, вспышкам голода и гражданских войн, а также демонтажу государства всеобщего благосостояния в большинстве западных стран.
В Часть I добавлено новое введение и глава под названием «Глобальная ложь». Также в Части I было рассмотрено влияние «свободных рынков» на права женщин. В Части II, посвященной странам Африки к югу от Сахары, глава о Руанде была расширена и обновлена после полевых исследований, проведенных в 1996 и 1997 годах. Две новые главы, соответственно, посвящены голоду 1999–2000 годов в Эфиопии и Южной Африке в постапартеидный период. В Часть 5 была добавлена глава об Албании и роли МВФ в разрушении реальной экономики и ускорении распада банковской системы этой страны. Новая Часть 6, озаглавленная как «Новый мировой порядок», включает пять глав. Глава 18 посвящена «программе структурной перестройки», применяемой в западных странах под надзором крупнейших коммерческих и торговых банков мира. Продолжающийся экономический и финансовый кризис рассматривается в главах 19 и 20. В главах 21 и 22 рассматривается, соответственно, судьба Южной Кореи и Бразилии после финансового кризиса 1997–1998 годов а также соучастие МВФ в продвижении интересов спекулянтов валютного и фондового рынков.
Я в долгу перед многими людьми во многих странах. Они предоставили мне информацию об экономических реформах и помогли в проведении исследования на уровне страны, которое проводилось (с момента начала моей работы над первым изданием) в течение более десяти лет. В ходе своей полевой работы я познакомился с членами крестьянских общин, промышленными рабочими, учителями, медицинскими работниками, государственными служащими, студентами, сотрудниками научно-исследовательских институтов, профессорами университетов и членами неправительственных организаций, с которыми у меня сложились узы дружбы и солидарности. Эта книга посвящена их борьбе.
Я также благодарен Полу Маркусу, Ричарду Кори и Блейну Мэчану за дизайн и оформление обложки, Леа Гилбо, которая помогала в редактировании рукописи, а также Джоанне Дионн и Донне Курц за верстку и редактирование книги.
Выражаю признательность за поддержку Исследовательскому совету Канады по социальным и гуманитарным наукам и Исследовательскому комитету факультета социальных наук университета Оттавы. Мнения, выраженные в этой книге, принадлежат автору.
Введение
В эпоху после окончания холодной войны человечество переживало экономические и социальные кризисы беспрецедентного масштаба, ведущие к быстрому обнищанию крупных слоев населения мира. Рушились национальные экономики, процветала безработица. В Африке к югу от Сахары, Южной Азии, некоторых частях Латинской Америки свирепствовал голод. Этот процесс, который я назвал «глобализацией бедности», в значительной степени свел на нет достижения деколонизации после Второй мировой войны. Фактически он был инициирован в странах второго и третьего миров одновременно с долговым кризисом начала 1980-х годов и введением радикальных экономических реформ МВФ.
Новый мировой порядок подпитывается человеческой нищетой и разрушением окружающей среды. Он порождает социальный апартеид, поощряет расизм и этническую рознь, подрывает права женщин и часто ввергает страны в деструктивную конфронтацию между национальностями. С 1990-х годов этот неоколониальный порядок распространил свое влияние на все основные регионы мира, включая Северную Америку, Западную Европу, страны бывшего советского блока и «новые индустриальные страны» Юго-восточной Азии и Дальнего Востока.
В бывшем Советском Союзе в результате смертоносного «экономического лекарства», начатого МВФ в 1992 году, экономический спад превзошел падение производства, произошедшее в разгар Второй мировой войны в 1941 году, после немецкой оккупации Беларуси и части Украины и масштабных бомбардировок советской промышленной инфраструктуры. После ситуации полной занятости и относительной стабильности цен в 1970-х и 1980-х годах инфляция резко возросла, реальные доходы и занятость рухнули, программы здравоохранения были свернуты. На обширной территории бывшего Советского Союза стали с угрожающей скоростью распространяться туберкулез и холера1.
Модель, сложившаяся в бывшем Советском Союзе, была воспроизведена в Восточной Европе и на Балканах. Национальные экономики рушились одна за другой. В странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония), в кавказских республиках Армении и Азербайджане промышленное производство сократилось на 65 % 2. В Болгарии пенсии по старости к 1997 году упали до двух долларов в месяц3. Всемирный банк признал, что 90 % болгар живут ниже установленного Всемирным банком порога бедности, составляющего 4 доллара в день. Не имея возможности платить за электричество, воду и транспорт, большие группы населения по всей Восточной Европе и на Балканах оказались в условиях жестокой маргинализации
В Восточной Азии финансовый кризис 1997 года, отмеченный спекулятивными атаками на национальные валюты, во многом способствовал краху так называемых «азиатских тигров» (Индонезия, Таиланд и Корея). Соглашения о финансовой помощи МВФ, заключенные непосредственно после финансового кризиса, способствовали резкому – случившемуся практически в одночасье – снижению уровня жизни. Корея при «посредничестве» МВФ и после консультаций на высоком уровне с крупнейшими коммерческими и торговыми банками мира начала массовые банкротства предприятий. «В среднем в день закрывалось более 200 компаний. (…) Каждый день 4000 рабочих выгоняли на улицу как безработных»4 (см. главу 22). Тем временем в Индонезии – на фоне жестоких уличных беспорядков – и без того низкая заработная плата в цехах переработки экспортной продукции резко упала с 40 до 20 долларов в месяц, причем МВФ настаивал на деиндексации заработной платы как средстве смягчения инфляционного давления.
В Китае в результате приватизации и принудительного банкротства тысяч государственных предприятий планировалось уволить 35 миллионов рабочих5. По оценкам, в сельских районах Китая были уволены 130 миллионов рабочих6. По горькой иронии, Всемирный банк предсказывал, что с принятием реформ «свободного рынка» бедность в Китае к 2000 году сократится до 2,7 %.
В эпоху Рейгана-Тэтчер меры жесткой экономии привели к постепенному распаду государства всеобщего благосостояния. Меры экономической стабилизации, принятые для «смягчения пороков инфляции», способствовали снижению доходов трудящихся и ослаблению роли государства. Вместе с тем, из-за накопления крупных государственных долгов финансовые элиты западных стран получили политическое влияние, а также возможность диктовать государственную экономическую и социальную политику.
Под влиянием идеологии неолиберализма государственные расходы сокращались, а программы социального обеспечения сворачивались. Государственная политика способствовала дерегулированию рынка труда, что выражалось в деиндексации заработков, неполной занятости, досрочному выходу на пенсию и введении так называемых «добровольных» сокращений заработной платы7. Одновременно практика сокращения кадров перекладывала социальное бремя безработицы на более молодые возрастные группы, способствуя исключению целого поколения из рынка труда8. «Натравливайте пожилых работников на младших, урезайте заработную плату и урезайте оплачиваемую компанией медицинскую страховку»9.
С 1980-х годов значительная часть рабочей силы в Соединенных Штатах была вытеснена из высокооплачиваемых и защищаемых профсоюзами рабочих мест на низкооплачиваемые рабочие места с минимальной заработной платой. Бедность западных городов в американских гетто во многих отношениях сравнима с бедностью стран третьего мира. В то время как «зарегистрированный» уровень безработицы в США в 1990-е годы снизился, количество людей, работающих с частичной занятостью за низкую заработную плату, резко возросло. При дальнейшем сокращении занятости значительные слои работающего населения даже с минимальной заработной платой были вытеснены с рынка труда:
По-настоящему жестокая рецессия затронула в основном общины и новых иммигрантов Лос-Анджелеса, где уровень безработицы вырос в три раза, где нет системы социальной защиты. У людей нет стабильности, их жизнь буквально рушится, поскольку они теряют работу с минимальной заработной платой10.
Экономическая реструктуризация создала разногласия между социальными классами и этническими группами. Окружающая среда крупных мегаполисов характеризуется социальным апартеидом: городской ландшафт разделен по социальным и этническим признакам. В свою очередь, государство стало более репрессивным в управлении социальным инакомыслием и сдерживании гражданских беспорядков.
Волна корпоративных слияний, сокращений и закрытий предприятий затронула все категории рабочей силы. Рецессия ударила по домохозяйствам среднего класса и высшим эшелонам рабочей силы. Бюджеты на исследования сокращаются, увольняются ученые, инженеры и специалисты; многим высокооплачиваемым госслужащим и менеджерам среднего звена заставили выйти на пенсию.
Социальные достижения раннего послевоенного периода были в значительной степени сведены на нет из-за отмены схем страхования по безработице и приватизации пенсионных фондов. Многие школы и больницы закрылись, создав условия для полной приватизации социальных услуг.
С 1990-х годов экономическая терапия, применяемая в развитых странах, содержала многие важные компоненты программ структурной перестройки, навязанных МВФ и Всемирным банком странам третьего мира и Восточной Европы. Однако, в отличие от развивающихся стран, политические реформы в Западной Европе и Северной Америке проводились практически без посредничества МВФ.
Реформы «свободного рынка» способствуют росту незаконной деятельности и сопутствующей «интернационализации» криминальной экономики. В Латинской Америке и Восточной Европе преступные синдикаты инвестировали в приобретение государственных активов в рамках программ приватизации, спонсируемых МВФ и Всемирным банком. По данным Организации Объединенных Наций, общие мировые доходы транснациональных преступных организаций составляют порядка одного триллиона долларов, что представляет собой сумму, эквивалентную совокупному ВВП группы стран с низким уровнем дохода (и населением в 3 миллиарда человек)11. Данные ООН включают доходы от торговли наркотиками, продажи оружия, контрабанды ядерных материалов и т. д., а также от экономики нелегальных и полулегальных услуг, контролируемой мафией (таких как проституция, азартные игры, обменные банки и т. д.). Однако эти цифры не отражают масштабы рутинных инвестиций преступных организаций в «законные» коммерческие предприятия, а также их значительный контроль над производственными ресурсами во многих областях легальной экономики.
Преступные группировки регулярно сотрудничают с легальными коммерческими предприятиями, инвестирующими в различные «законные» виды деятельности, которые обеспечивают не только прикрытие для отмывания денег, но и удобную процедуру накопления богатства вне сферы криминальной экономики. По словам одного наблюдателя, «организованные преступные группировки превосходят большинство компаний из списка Fortune 500 (список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune), где представлены солидные компании, такие как General Motors (крупнейшая американская автомобильная корпорация), они не похожи на традиционную сицилийскую мафию»12. Например, согласно показаниям директора ФБР Джима Муди подкомитету Конгресса США, организованная преступность в России в постсоветский период наладила криминальные связи «с другими иностранными преступными группировками, в том числе основанными в Италии и Колумбии. (…) Переход к капитализму [в бывшем Советском Союзе] предоставил новые возможности, которыми быстро воспользовались преступные организации»13.
Можно сказать, что с начала 1990-х гг. был достигнут политический консенсус; правительства во всем мире однозначно приняли неолиберальную политическую повестку дня. Одни и те же экономические предписания применяются во всем мире. Под юрисдикцией МВФ, Всемирного банка и Всемирной торговой организации реформы создают «благоприятную среду» для мировых банков и транснациональных корпораций. Однако это не «свободная» рыночная система. Так называемая программа структурной корректировки, спонсируемая Бреттон-Вудской системой, хотя и поддерживается неолиберальной риторикой, представляет собой новую интервенционистскую структуру.
МВФ, Всемирный банк и ВТО – это всего лишь бюрократические структуры, регулирующие органы, действующие под эгидой межправительственных организаций и от имени влиятельных экономических и финансовых интересов. За этими глобальными институтами неизменно стоят банкиры с Уолл-стрит и главы крупнейших мировых бизнес-конгломератов. Они регулярно взаимодействуют с представителями МВФ, Всемирного банка и ВТО на закрытых заседаниях, а также на многочисленных международных площадках. В этих встречах и консультациях участвуют представители влиятельных мировых бизнес-лобби, в том числе Международной торговой палаты, Трансатлантического делового совета (который ежегодно собирает на своих площадках лидеров крупнейших западных бизнес-конгломератов с политиками и представителями ВТО), Совета США по международному бизнесу, Всемирного экономического форума в Давосе, Вашингтонского форума на базе Института международных финансов, представляющего крупнейшие в мире банки и финансовые учреждения и т. д. Другие «полусекретные» организации, играющие важную роль в формировании институтов Нового мирового порядка, включают Трехстороннюю комиссию, Бильдербергский клуб и Совет по международным отношениям.
Глобализация бедности происходит в период быстрого технологического и научного прогресса. Хотя последнее потенциально способствовало значительному увеличению способности экономической системы производить необходимые товары и услуги, повышение уровня производительности не привело к соответствующему снижению уровня бедности. На заре нового тысячелетия глобальное снижение уровня жизни не является результатом дефицита производственных ресурсов.
Напротив, сокращение штатов, реструктуризация корпораций и перенос производства в районы с дешевой рабочей силой в странах третьего мира привели к росту уровня безработицы и значительному снижению заработков городских рабочих и фермеров. Этот новый международный экономический порядок подпитывается бедностью людей и дешевой рабочей силой: высокий уровень национальной безработицы как в развитых, так и в развивающихся странах способствовал снижению реальной заработной платы. Безработица становится интернационализированной, а капитал мигрирует из одной страны в другую в постоянном поиске более дешевой рабочей силы. По данным Международной организации труда (МОТ), безработица во всем мире затрагивает один миллиард человек, или почти треть мировой рабочей силы14. Национальные рынки труда больше не разделены, и работники в разных странах вовлечены в открытую конкуренцию друг с другом. При этом права работников ущемляются, поскольку рынки труда дерегулируются.
Мировая безработица действует как рычаг, регулирующий затраты на рабочую силу на мировом уровне: обильное предложение дешевой рабочей силы в странах третьего мира и бывшего Восточного блока способствует снижению заработной платы в развитых странах. Затронуты практически все категории рабочей силы (включая высококвалифицированных, профессиональных и научных работников). Конкуренция за рабочие места способствует социальному разделению по классовому, этническому, половому и возрастному признаку.
Глобальные корпорации минимизируют затраты на рабочую силу на мировом уровне. Реальная заработная плата в странах третьего мира и Восточной Европы в семьдесят раз ниже, чем в США, Западной Европе или Японии. Учитывая массу обедневших дешевых рабочих во всем мире, их производственные возможности огромны.
В то время как основная экономика подчеркивает «эффективное распределение» «дефицитных ресурсов» общества, суровые социальные реалии ставят под сомнение последствия этого способа распределения. Промышленные предприятия закрываются, малые и средние предприятия доводятся до банкротства, профессиональные рабочие и гражданские служащие увольняются, а человеческий и физический капитал простаивает во имя «эффективности». Неустанное стремление к «эффективному» использованию ресурсов общества на микроэкономическом уровне приводит к прямо противоположной ситуации на макроэкономическом уровне. Ресурсы используются неэффективно, остаются большие объемы неиспользуемых промышленных мощностей и миллионы безработных. Современный капитализм, похоже, совершенно неспособен мобилизовать незадействованных рабочих и неиспользованные ресурсы.
Глобальная экономическая реструктуризация способствует застою в поставках необходимых товаров и услуг, одновременно перенаправляя ресурсы на выгодные инвестиции, например, в экономику предметов роскоши. Кроме того, по мере сокращения накопления капитала в производственной деятельности поиск прибыли осуществляется во все более спекулятивных и мошеннических операциях, что, в свою очередь, способствует сбоям на основных мировых финансовых рынках.
Привилегированное социальное меньшинство накопило огромные богатства за счет подавляющего большинства населения. Число миллиардеров в США увеличилось с 13 в 1982 году до 149 в 1996 году и превысило 300 в 2000 году. Всемирный клуб миллиардеров (насчитывающий около 450 членов) обладает общим мировым богатством, значительно превышающим совокупный ВВП группы стран с низким уровнем дохода, в которых проживает 59 % населения мира (см. таблицу 1.1)15. Личное состояние семьи Уолтон из Северо-западного Арканзаса, владельцев розничной сети «Уолмарт» (85 миллиардов долларов), включая наследницу Элис Уолтон, братьев Робсон, Джона и Джима и мать Хелен, более чем в два раза превышало ВВП Бангладеш (33,4 миллиарда долларов) с населением 127 миллионов человек и доходом на душу населения 260 долларов в год16.
Более того, процесс накопления богатства все чаще происходил за пределами реальной экономики, оторванной от добросовестной производственной и коммерческой деятельности: «Успехи на фондовом рынке Уолл-стрит [имеется в виду спекулятивная торговля] привели к большей части прошлогоднего [1996] взрывного роста числа миллиардеров»17. В свою очередь, миллиарды долларов, накопленные в результате спекулятивных операций, направлялись на конфиденциальные номерные счета в более чем 50 банковских офшорах по всему миру. По консервативным оценкам американского инвестиционного банка «Меррилл Линч», состояния частных лиц, управляемые через частные банковские счета в офшорных зонах, составляют 3,3 трлн. долларов18. МВФ оценивает офшорные активы корпораций и частных лиц в 5,5 триллионов долларов, что эквивалентно 25 % совокупного мирового дохода19. Полученное в основном нечестным путем имущество элит третьего мира на номерных счетах оценивалось в 1990-х годах в 600 миллиардов долларов, причем одна треть этой суммы находилась в Швейцарии20.
Расширение производства в глобальной капиталистической системе происходит за счет «минимизации занятости» и снижения заработной платы работников. Этот процесс, в свою очередь, отрицательно сказывается на уровнях потребительского спроса на необходимые товары и услуги: неограниченные возможности для производства, ограниченные возможности для потребления. В глобальной экономике дешевой рабочей силы сам процесс расширения производства (за счет сокращения штатов, увольнений и низкой заработной платы) способствует сокращению потребительской способности общества.
Таким образом, наблюдается тенденция к перепроизводству в беспрецедентных масштабах. Корпоративная экспансия в этой системе может происходить только за счет одновременного высвобождения простаивающих производственных мощностей, а именно за счет банкротства и ликвидации «избыточных предприятий». Последние закрываются в пользу наиболее передового механизированного производства: простаивают целые отрасли промышленности, страдает экономика целых регионов, используется лишь часть мирового сельскохозяйственного потенциала.
Этот всеобщий переизбыток сырьевых товаров является прямым следствием снижения покупательной способности и роста уровня бедности. Последнее также является результатом минимизации затрат на рабочую силу и занятость на мировом уровне под бременем реформ МВФ, Всемирного банка и ВТО.
Избыток предложения, в свою очередь, способствует дальнейшему снижению доходов прямых производителей за счет закрытия избыточных производственных мощностей. Вопреки закону Сэя, провозглашаемому господствующей экономикой, предложение не создает свой собственный спрос. С начала 1980-х годов перепроизводство сырьевых товаров, ведущее к резкому падению (реальных) цен на сырьевые товары, вызвало хаос, особенно среди производителей сырья в странах третьего мира, но также и в сфере обрабатывающей промышленности.
В развивающихся странах целые отрасли промышленности, производящие продукцию для внутреннего рынка, доводятся до банкротства по приказу Всемирного банка и МВФ. Неформальный городской сектор, который исторически играл важную роль в качестве источника создания рабочих мест, был подорван в результате девальвации валют, либерализации импорта и демпинга товаров. Например, в странах Африки к югу от Сахары швейная промышленность неформального сектора была уничтожена и заменена рынком подержанной одежды (импортируемой с Запада по цене 80 долларов за тонну)21.
На фоне экономической стагнации (включая отрицательные темпы роста, зафиксированные в Восточной Европе, бывшем Советском Союзе и странах Африки к югу от Сахары) крупнейшие корпорации мира пережили беспрецедентный рост и расширение своей доли на мировом рынке. Однако этот процесс в значительной степени происходил за счет вытеснения ранее существовавших производственных систем, т. е. за счет местных, региональных и национальных производителей. Расширение и «прибыльность» крупнейших мировых корпораций основаны на глобальном сокращении покупательной способности и обнищании крупных слоев населения мира. В свою очередь, реформы «свободного рынка» способствовали открытию новых экономических границ, обеспечивая при этом «рентабельность» посредством введения ужасающе низких заработных плат и дерегуляции рынка труда. В этом процессе бедность становится фактором предложения. Комплекс реформ МВФ, Всемирного банка и ВТО, проводимых во всем мире, играет решающую роль в регулировании затрат на рабочую силу со стороны корпоративного капитала.
В мировой экономике, характеризующейся перепроизводством, выживает сильнейший: предприятия с самыми передовыми технологиями или те, которые предлагают самые низкие заработные платы В то время как дух англосаксонского либерализма направлен на «стимулирование конкуренции», макроэкономическая политика «Большой семерки» (посредством жесткого фискального и денежно-кредитного контроля) на практике поддерживает волну корпоративных слияний и поглощений, а также банкротство малых и средних предприятий.
На местном уровне малые и средние предприятия оказываются в ситуации банкротства или вынуждены производить продукцию для глобального дистрибьютора. В свою очередь, крупные транснациональные компании взяли под контроль рынки местного уровня через систему корпоративного франчайзинга. Этот процесс позволяет крупному корпоративному капиталу (франчайзеру) получить контроль над человеческими ресурсами, дешевой рабочей силой и предпринимательством. Таким образом, значительная доля прибыли небольших местных фирм и/или розничных продавцов присваивается глобальной корпорацией, в то время как основная часть инвестиционных расходов ложится на независимого производителя (франчайзи).
Этот процесс можно наблюдать и в Западной Европе. Согласно Маастрихтскому договору, процесс политической реструктуризации в Европейском союзе все больше учитывает доминирующие финансовые интересы в ущерб единству европейских обществ. В этой системе государственная власть намеренно санкционирует развитие частных монополий: крупный капитал уничтожает мелкий капитал во всех его формах. Стремление к формированию экономических блоков как в Европе, так и в Северной Америке приводит к искоренению предпринимателей регионального и местного уровня, преобразованию городской жизни и уничтожению индивидуальной мелкой собственности. «Свободная торговля» и экономическая интеграция обеспечивают большую мобильность глобальным предприятиям и в то же время подавляют (посредством нетарифных и институциональных барьеров) движение мелкого капитала местного уровня22. «Экономическая интеграция» (под руководством глобальных предприятий), демонстрируя видимость политического единства, часто способствует фракционности и социальной розни между национальными обществами и внутри них.
Навязывание макроэкономических и торговых реформ под наблюдением Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации направлено на «мирную» реколонизацию стран путем преднамеренного манипулирования рыночными силами. Хотя явное применение силы не требуется, безжалостное проведение экономических реформ, тем не менее, представляет собой форму военных действий. В общем плане необходимо понимать опасность войны. Война и глобализация неотделимы друг от друга.
Что происходит со странами, которые отказываются «открываться» западным банкам и ТНК (транснациональным корпорациям), как того требует Всемирная торговая организация? Западный аппарат военной разведки и его различные бюрократические структуры регулярно взаимодействуют с финансовыми учреждениями. МВФ, Всемирный банк и ВТО, которые следят за экономическими реформами на уровне страны, также сотрудничают с НАТО в его различных «миротворческих» устремлениях, не говоря уже о финансировании «постконфликтного» восстановления под покровительством Бреттон-Вудских учреждений.
В начале третьего тысячелетия война и «свободный рынок» идут рука об руку. Война не требует ВТО или многосторонних инвестиционных соглашений (MIT), закрепленных в международном праве: война – это многостороннее инвестиционное соглашение последнего средства. Война физически разрушает то, что не было демонтировано путем дерегулирования, приватизации и навязывания реформ «свободного рынка». Прямая колонизация посредством войны и установление западных протекторатов равносильны предоставлению «национального режима» западным банкам и ТНК (как предусмотрено ВТО) во всех секторах деятельности; «ракетная дипломатия» повторяет «дипломатию канонерок», использовавшуюся для обеспечения «свободной торговли» в XIX веке. Именно миссия Кушинга в Китай в 1844 г. (после Опиумных войн 1839–1842 гг., 1856–1860 гг.) предупреждала правительство Китайской империи, «что отказ удовлетворить американские требования может быть расценен как приглашение к войне» 23.
Идеология «свободного» рынка поддерживает новую и жестокую форму государственного интервенционизма, основанную на преднамеренном воздействии рыночных сил. Ущемляя права граждан, «свободная торговля» в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) предоставляет «закрепленные права» крупнейшим мировым банкам и глобальным корпорациям. Процесс обеспечения соблюдения международных соглашений всемирной торговой организацией на национальном и международном уровнях неизменно проходит в обход демократического процесса. Статьи ВТО угрожают привести к бесправию национальных обществ, поскольку они передают обширные полномочия финансовому учреждению (см. главу 1). Таким образом, с помощью риторики о так называемом «государственном управлении» и «свободном рынке» неолиберализм обеспечивает шаткую легитимность тем, кто находится в центре политической власти.
Новый мировой порядок основан на «ложном консенсусе» Вашингтона и Уолл-стрит, который предписывает «систему свободного рынка» как единственно возможный выбор на предначертанном пути к «глобальному процветанию». Все политические партии, включая «зеленых», социал-демократов и бывших коммунистов, теперь разделяют этот консенсус.
Необходимо разоблачить скрытые связи политиков и международных чиновников с мощными финансовыми интересами. Чтобы добиться значимых изменений, государственные учреждения и межправительственные организации должны быть в конечном счете вырваны из-под контроля глобального финансового учреждения. В свою очередь мы должны демократизировать экономическую систему и ее структуры управления и собственности, решительно бросить вызов вопиющей концентрации собственности и частного богатства, разоружить финансовые рынки, заморозить спекулятивную торговлю, пресечь отмывание грязных денег, демонтировать систему офшорных банковских операций, перераспределить доходы и богатство, восстановить систему права прямых производителей и перестроить государство всеобщего благосостояния. Однако, следует понимать, что западный военный аппарат и устройство безопасности одобряет и поддерживает доминирующие экономические и финансовые интересы – то есть наращивание, а также применение военной мощи обеспечивает «свободную торговлю». Пентагон является подразделением Уолл-стрит; НАТО согласовывает свои военные операции со Всемирным банком и политическими интервенциями МВФ, и наоборот. Органы безопасности и обороны Западного военного альянса вместе с различными гражданскими правительственными и межправительственными бюрократическими структурами (например, МВФ, Всемирный банк, ВТО) последовательно демонстрируют общее понимание, идеологический консенсус и приверженность новому мировому порядку. Поэтому международная кампания против «глобализации» должна быть интегрирована в более широкую коалицию общественных сил, нацеленных на расформирование существующих военно-промышленного комплекса, НАТО и оборонного механизма, включая разведывательный, охранный и полицейский аппарат.
Глобальные средства массовой информации фабрикуют новости и открыто искажают ход мировых событий. Это «ложное сознание», которое пронизывает наши общества, препятствует критическим дебатам и маскирует истину. В конечном счете, это ложное сознание препятствует коллективному пониманию работы экономической системы, которая разрушает жизни людей. Единственное обещание «свободного рынка» – это мир безземельных фермеров, закрытых фабрик, безработных рабочих и разрушенных социальных программ, рецептом которых является «горькое экономическое лекарство» в рамках ВТО и МВФ. В связи с этим необходимо восстановить правду, разоружить контролируемые корпоративные СМИ, восстановить суверенитет наших стран и народов, а также разоружить и уничтожить глобальный капитализм.
Борьба должна быть широкомасштабной и демократической, охватывающей все слои общества на всех уровнях, во всех странах, объединяющей в главном направлении рабочих, фермеров, независимых производителей, малых бизнесменов, специалистов, артистов, государственных служащих, представителей духовенства, студентов и интеллектуалов. Во всех секторах люди должны быть объединиться, группы по частным проблемам должны сплотиться в общем и коллективном понимании того, как разрушает и доводит до обнищания эта экономическая система. Глобализация этой борьбы носит фундаментальный характер, требуя беспрецедентной в мировой истории степени солидарности и интернационализма. Существующая глобальная экономическая система подпитывается социальным расколом между странами и внутри них. Поэтому единство целей и всемирное согласование между различными группами и общественными движениями имеет решающее значение. Необходим серьезный толчок, который объединил бы общественные движения во всех основных регионах мира в общем стремлении и приверженности делу ликвидации нищеты и установления прочного всеобщего мира.
Часть I. Глобальная бедность и макроэкономическая реформа
Глава 1. Глобализация нищеты
С начала 1980-х годов программы «макроэкономическая стабилизация» и структурная перестройка, навязанные МВФ и Всемирным банком развивающимся странам (в качестве условия для пересмотра их внешнего долга), привели к обнищанию сотен миллионов людей. Вопреки духу Бреттон-Вудского соглашения, которое основывалось на «восстановлении экономики» и стабильности основных валютных курсов, программа структурной перестройки в значительной степени способствовала дестабилизации национальных валют и разрушению экономик развивающихся стран.
Это способствовало резкому падению внутренней платежеспособности, голоду, закрытию медицинских клиник и образовательных учреждений, сотням миллионов детей было отказано в праве на начальное образование. В некоторых регионах развивающегося мира реформы привели к всплеску инфекционных заболеваний, включая туберкулез, малярию и холеру. Хотя мандат Всемирного банка заключается в «борьбе с бедностью» и защите окружающей среды, его поддержка крупномасштабных гидроэлектростанционных и агропромышленных проектов также ускорила процесс обезлесения, а разрушение природной среды привело к насильственному перемещению и выселению нескольких миллионов человек.
Глобальная геополитика
После окончания Холодной войны (1947–1989 гг.) макроэкономическая реструктуризация поддерживала глобальные геополитические интересы, включая внешнюю политику США. Структурная перестройка была использована для подрыва экономики бывшего Советского блока и ликвидации его системы государственных предприятий. С конца 1980-х годов «экономическое лекарство» Всемирного банка и МВФ было навязано Восточной Европе, Югославии и бывшему Советскому Союзу с разрушительными экономическими и социальными последствиями (см. главы 16 и 17.)
Механизм принуждения на постсоветском пространстве очевиден, однако программа структурной перестройки с 1990-х годов применяется также в западных странах. В то время как макроэкономические методы «лечения» в западных странах находятся под юрисдикцией национальных правительств и, как правило, менее жестоки, чем те, которые применяются к Югу и Востоку, теоретические и идеологические основы в целом схожи. Обслуживаются одни и те же глобальные финансовые интересы. Монетаризм применяется в мировом масштабе, и процесс реструктуризации глобальной экономики затрагивает также самые богатые страны. Последствия таковы: безработица, низкая заработная плата и маргинализация широких слоев населения. Социальные расходы сокращаются, и многие достижения государства всеобщего благосостояния отменяются. Государственная политика поощряет разрушение малых и средних предприятий. Низкий уровень потребления продуктов питания и недоедание также сказываются на бедности городского населения в богатых странах. Согласно недавнему исследованию, 30 миллионов человек в Соединенных Штатах классифицируются как «недоедающие»24.
Последствия структурной перестройки, включая нарушение социальных прав женщин и пагубные экологические последствия экономических реформ, были подробно задокументированы. Хотя Бреттон-Вудские учреждения признали «социальные последствия перестройки», никаких изменений политики в этом направлении не предвидится. Фактически, с начала 1990-х годов, совпавших с распадом Восточного блока, политические предписания МВФ и Всемирного банка (теперь навязываемые во имя «сокращения масштабов нищеты») становились все более жесткими и непреклонными.
Социальная поляризация и концентрация богатства
На Юге, Востоке и Севере привилегированное социальное меньшинство накопило огромные богатства за счет подавляющего большинства населения. Этот новый международный финансовый порядок подпитывается нищетой людей и разрушением природной среды. Он порождает социальный апартеид, поощряет расизм и этническую рознь, подрывает права женщин и часто ввергает страны в разрушительную конфронтацию между национальностями. Более того, эти реформы – при одновременном применении более чем 150 странах – способствуют «глобализации бедности», процессу, который подрывает средства к существованию людей и разрушает гражданское общество на Юге, Востоке и Севере.
«Экономическое лекарство» МВФ
Под юрисдикцией МВФ прописывается один и то же «рецепт» жесткой бюджетной экономии, девальвации, либерализации торговли и приватизации, которые применяются одновременно более чем в 150 странах-должниках. Страны-должники отказываются от экономического суверенитета и контроля над налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой, Центральный банк и министерства финансов реорганизуются (часто при соучастии местной бюрократии), государственные институты ликвидируются и устанавливается «режим экономии». «Параллельное правительство», учрежденное международными финансовыми институтами, действует в обход гражданского общества. Страны, которые не соответствуют «целевым показателям эффективности» МВФ, попадают в черный список.
Хотя программа структурной перестройки и принята во имя «демократии» и так называемого «хорошего управления», она требует укрепления аппарата внутренней безопасности и военной разведки: политические репрессии – при сговоре с элитами стран третьего мира – поддерживают параллельный процесс «экономических репрессий».
В качестве условий, навязанных донорами и кредиторами, добавляются «хорошее управление» и проведение многопартийных выборов, однако сама природа экономических реформ исключает подлинную демократизацию, т. е. их осуществление неизменно требует (вопреки «духу англосаксонского либерализма») поддержки со стороны военных и авторитарного государства. Структурная перестройка способствует созданию фиктивных институтов и фальшивой парламентской демократии, что, в свою очередь, поддерживает процесс реструктуризации экономики.
Во всех странах, подвергшихся реформам МВФ, ситуация характеризовалось социальным отчаянием и безнадежностью населения, обнищавшего в результате действия рыночных механизмов. Бунты против программ структурной перестройки и народные восстания были жестоко подавлены. Например, в январе 1984 г. в Тунисе произошли хлебные бунты, спровоцированные в основном безработной молодежью, протестовавшей против роста цен на продовольствие. Так было и в Нигерии в период с мая по июнь 1989 г., где студенческие беспорядки против программы структурной перестройки привели к закрытию шести университетов страны с помощью вооруженных сил страны. В том же году президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, после риторического осуждения МВФ за практику «экономического тоталитаризма, который убивает не пулями, а голодом», объявил чрезвычайное положение и направил регулярные подразделения пехоты и морской пехоты в районы трущоб Каракаса, где 200-процентное повышение цен на хлеб по рецепту МВФ спровоцировало беспорядки. Мужчины, женщины и дети подверглись беспорядочному обстрелу. «Сообщалось, что в морге Каракаса за первые три дня было обнаружено до 200 тел убитых людей (…), и было предупреждение, что в городе заканчиваются гробы»25. Неофициально погибло более тысячи человек. В 1990 г. в Марокко произошли всеобщая забастовка и народное восстание против реформ, спонсируемых МВФ. В 1993 г. в Мексике произошло восстание сапатистской армии освобождения в регионе Чьяпас на юге страны. С гневом вспоминаются протестные движения против реформ МВФ в Российской Федерации и вооруженный штурм российского парламента в 1993 году. В январе 2000 г. было массовое протестное движение народа Эквадора против закона о защите прав человека и принятия доллара США в качестве национальной валюты, которое привело к отставке президента. В апреле 2000 г. в Боливии (Кочабамба) тысячи крестьян протестовали против приватизации водных ресурсов страны и введения платы за пользование ими. Список можно продолжать.
Экономический геноцид
Структурная перестройка способствовала определенной форме «экономического геноцида», который осуществляется посредством сознательного манипулирования рыночными силами. По сравнению с предыдущими периодами колониальной истории (например, принудительный труд и рабство) его социальные последствия гораздо более разрушительны.
Программы структурной перестройки напрямую влияют на средства к существованию более четырех миллиардов человек. Применение программы структурной перестройки в большом числе отдельных стран-должников способствует интернационализации макроэкономической политики под прямым контролем МВФ и Всемирного банка, действующих от имени влиятельных финансовых и политических кругов (например, Парижского и Лондонского клубов, G7). Эта новая форма экономического и политического господства – форма «рыночного колониализма» – подчиняет людей и правительства посредством кажущегося «нейтральным» взаимодействия рыночных сил. Базирующаяся в Вашингтоне международная бюрократия была уполномочена международными кредиторами и транснациональными корпорациями осуществлять глобальный экономический проект, который влияет на средства к существованию более 80 % населения земного шара. Никогда в истории «свободный» рынок, действующий в мире с помощью инструментов макроэкономики, не играл такой важной роли в формировании судьбы суверенных государств.
Разрушение национальных экономик
Реструктуризация мировой экономики под руководством базирующихся в Вашингтоне финансовых институтов все больше лишает отдельные развивающиеся страны возможности построения национальных экономик: интернационализация макроэкономической политики превращает страны в открытые экономические территории, а национальные экономики – в «резервы» дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Применение «экономической лекарства МВФ» имеет тенденцию к дальнейшему снижению мировых цен на сырьевые товары, поскольку вынуждает отдельные страны одновременно приспосабливать свои национальные экономики к сужающемуся мировому рынку.
В основе глобальной экономической системы лежит неравноправная структура торговли, производства и кредитования, которая определяет роль и положение развивающихся стран в мировой экономике. Какова природа этой развивающейся мировой экономической системы; на какой структуре глобальной бедности и неравенства доходов она основана? В XXI в. население земли превысит 6 миллиардов человек, из которых подавляющее большинство будут жить в относительно небогатых странах. В то время как богатые страны (с населением около 15 % от мирового населения) контролируют около 80 % общего мирового дохода, примерно 60 % мирового населения, представляют группу «стран с низким уровнем дохода» (включая Индию и Китай). Эти страны с населением свыше 3,5 миллиардов человек получают 6,3 % от общего мирового дохода (меньше, чем ВВП Франции и ее заморских территорий). При населении более 600 миллионов человек валовый внутренний продукт всего африканского региона к югу от Сахары примерно вдвое меньше, чем в штате Техас. В совокупности страны с низким и средним уровнем дохода (включая бывшие «социалистические» страны и бывший Советский Союз), на долю которых приходится около 85 % мирового населения, получают примерно 20 % от общего мирового дохода (см. таблицу 1.1.)
Во многих странах третьего мира, имеющих задолженность, реальные заработки в современном секторе к началу 1990-х годов уже сократились более чем на 60 %. Положение неформального сектора и безработных было еще более критическим. Например, в Нигерии при военном правительстве генерала Ибрагима Бабангиды минимальная заработная плата в течение 1980-х годов снизилась на 85 %. Заработная плата во Вьетнаме упала ниже 10 долларов США в месяц, в то время как внутренние цены на рис выросли до мирового уровня в результате программы МВФ, осуществляемой правительством Ханоя: к примеу, учитель средней школы Ханоя, имеющий высшее образование, получал в 1991 году ежемесячную зарплату менее 15,2 долларов США26 (см. главу 12). В Перу после «Фуджишока» в августе 1990 года, который спонсировали МВФ и Всемирный банк и который осуществил президент Альберто Фухимори, цены на топливо за ночь выросли в 31 раз, а цены на хлеб – в 12 раз. Реальная минимальная заработная плата снизилась более чем на 90 % по отношению к уровню середины 1970-х годов (см. главу 14).
