7 шагов к театру. Книга для начинающих
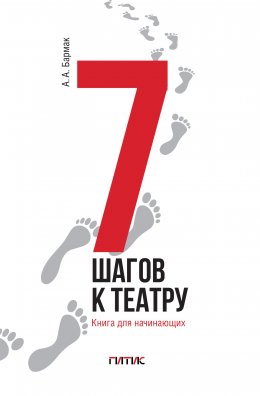
© Бармак А. А., 2021, 2023
© Издательство ГИТИС, 2021, 2023
Ступайте в театр!
Очень большая актриса нашего времени Татьяна Доронина в фильме «Старшая сестра» читает перед экзаменационной комиссией театрального училища знаменитый отрывок из статьи В. Г. Белинского «Литературные мечтания».
Никто с такой силой и верой, так убежденно, так заразительно, как она, не произносил эти пламенные строки Белинского.
«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины?..»
Если вы не видели фильм «Старшая сестра» – посмотрите его; если не слышали, как Доронина исполняет этот отрывок, – послушайте обязательно! Благо, что сейчас это совсем нетрудно сделать. Нажать нужную клавишу на компьютере.
Благо и истина – величайшие ценности человечества. К ним причисляет великий критик и театр.
Любить театр по‐настоящему – это значит знать и понимать его. Знать его историю, которая во многом и есть история человечества. Понимать, как он устроен, в чем суть театра как искусства, то есть видеть, что театр – это прежде всего человек.
Театр всегда есть, что самое важное, наглядная история человека, взятого этим искусством и погруженного в борьбу, в активное действие, в действенный процесс решения и выполнения жизненно важных задач.
Театр – это всегда человеческая судьба, предстающая перед нами на сцене в сценических событиях.
Эти события бывают разные – трагические и комические, печальные и смешные. Но и те и другие захватывают нас и заставляют по‐новому взглянуть на жизнь.
Театр отнюдь не безделица и не развлечение.
Да, собственно, зачем же вам, молодой читатель, – а эта книга предназначена прежде всего молодежи: школьникам средних и старших классов, учащимся колледжей, абитуриентам, а также всем начинающим, независимо от их возраста, – зачем же вам искать в театре развлечение? Неужели вы так устали от жизни, она вам так скучна, мир вокруг вас так неинтересен, люди перестали вас ежесекундно удивлять, а природа радовать бесконечным преображением, что вам нужны еще какие‐то развлечения, кроме самой жизни? Когда так, то никакой театр вам не поможет.
Театр – это один из изумительных способов познания мира. Другое дело, что в театре мы познаем мир вокруг нас, жизнь и людей наглядно, в совершающихся на наших глазах действиях и поступках, чего нет в других искусствах; от этой великой иллюзии, от этого эффекта присутствия непосредственно в событиях сценической жизни мы получаем огромное удовольствие, наслаждение – в этом сила и очарование театра.
В этой книжке вы найдете семь глав, семь эссе, семь опытов о театре – назовите, как хотите. Автор называет свою книжку «7 шагов к театру». Он надеется, что эти шаги, довольно неторопливые, позволят читателю приблизиться к пониманию того, что такое театр по своей сокровенной сути, узнать о том, какова его сущность, увидеть в театре друга и в конце концов полюбить его по‐настоящему. Как любил его Белинский, как полюбила его героиня Дорониной, как должно любить его человеку.
Великий сыщик и фарфоровые фигурки
В одном из рассказов английской писательницы Агаты Кристи бельгиец Эркюль Пуаро, знаменитый сыщик – лучший в мире, как он сам себя аттестует, будучи, как вы догадались, человеком весьма скромным, расследует таинственное, трудное, в высшей степени необычное дело – впрочем, других дел у Пуаро и не бывает – с помощью фарфоровых статуэток.
Фигурки из мейсенского фарфора стоят на полке за стеклянной дверцей шкафа. Это очень дорогая и редкая коллекция, таких коллекций драгоценного старинного фарфора в мире осталось немного.
Насмешливо улыбающиеся фигурки изображают группу актеров итальянской классической комедии. Так называемой комедии масок, по‐итальянски commedia dell’arte. Арлекин, Коломбина, Пульчинелла и его подружка, Пьеро и Пьеретта – всего шесть фигурок. Все вместе они представляют собой группу персонажей, обманчиво простых, но связанных в рассказе друг с другом довольно сложной, запутанной, даже замысловатой интригой. Фигурки обаятельны, очаровательны; но именно среди них, по мнению сыщика, скрывается преступник – каждая фигурка под подозрением. Взаимоотношения фигурок наводят на мысль о тончайшей паутине, в которой легко запутаться, из которой трудно вырваться, если только не порвать ее, что сделать, конечно, легко, но чего делать нельзя ни в коем случае – установить истину тогда будет невозможно. О, это новое дело знаменитого детектива требует от сыщика тщательного изучения, очень осторожного с ним обращения и, главное, терпения, а Пуаро, он – терпелив.
В паутине борьбы и противостояний, которую представляют взаимоотношения фигурок, ему нужно будет бережно нащупать ту единственную паутинку, потянув за которую, можно будет наконец развернуть, прочитать и понять весь ее сложный прихотливый узор. Раскрыть ее шифр, не разрывая нити, не разрушая тончайшего рисунка, сохранив старинную канву неравномерного переплетения, на которой, как известно, вышивать всего труднее. Это и собирается сделать Пуаро; он бережно держит в руках и внимательно рассматривает каждую статуэтку, потом осторожно ставит на место. Он вспоминает, какое значение имеет каждая фигурка в системе итальянской комедии масок, какую роль она в ней играет, и делает свои, как это часто бывает, парадоксальные, то есть неожиданные, непривычные заключения.
В его воображении фигурки начинают играть старинный спектакль. Они импровизируют, как это и полагается в народной итальянской комедии. Слово «импровизация» происходит от латинского improvisus, что означает «внезапно», «неожиданно», «без подготовки». Сценическая импровизация требует от актера большого мастерства, ведь у него нет сочиненного автором, драматургом или заранее заготовленного и выученного им литературного текста. Актер сочиняет текст по ходу действия спектакля, намного правильнее было бы сказать, что текст рождается у актера, а не сочиняется им. Вот это условие игры – что текст рождается у актера как мгновенная речевая реакция на происходящее вокруг него на сцене, а не просто сочиняется им по ходу действия представления, – надо запомнить на будущее. Это самый главный принцип работы современного актера на современной сцене, если только этот актер получил правильную актерскую школу, а высоким предназначением сцены, на которой он выступает, является создание правдивого образа мира и человека; как видим, эта школа уходит корнями вглубь веков.
В литературе образ мира дан только в слове, вернее в сочетании, сцеплении слов, в их ритме, причем слов не сказанных, а написанных; слово при прочтении стихов или прозы начинает звучать в нашем восприятии, в нашей душе, в нашем сознании.
Слово произнесенное, слово сказанное отличается от слова печатного – в речи оно получает некий дополнительный смысл, приобретает иногда неожиданную интонацию. По-разному читают стихи актеры и поэты; поэты следуют ритму, стараются передать музыку стиха, его мелодию, почти поют стихотворение; актеры, если они умеют читать стихи – а дело это трудное, по‐настоящему хороших чтецов очень мало, – стараются найти смысл стихотворения и передать его в слове произнесенном, сказанном, часто нарушая внешний ритм стиха, делая маленькие паузы, цезуры, находя скрытые в тексте интонации и донося их до зрителя. Тут надо сказать, что актер-чтец исполняет произведение поэта, писателя, то есть стихи и прозу, не для уха, а для глаза зрителя. Они должны добиться того, чтобы у зрителя возник образ услышанного, чтобы он увидел то, о чем рассказывает актер-чтец на эстраде. Это умение произносить текст и говорить не только для уха, но и, самое главное, для глаза зрителя, способность вызывать у него самые разные видения – очень важная составляющая мастерства актера. К этому мы еще вернемся в свое время, когда будем говорить о Станиславском и его системе. Слушатель – он же зритель, или зритель – он же слушатель; нельзя оторвать одного от другого. Артист на сцене, выступая с литературной программой, влияет на восприятие зрителя не только произнесенным словом, но и мимикой, жестами, выражением лица, взглядом и множеством других вещей, создавая вокруг себя эмоциональное поле, атмосферу, в которую попадает зритель. Точно так же и актер на сцене.
- И образ мира, в слове явленный,
- И творчество, и чудотворство.
Это строчки из стихотворения великого русского поэта Бориса Пастернака; так он определял суть литературного творчества, но они исключительно важны для искусства театра. В театре образ мира является в действиях и поступках актеров, в событиях спектакля, а слово, произносимое актером, есть результат всей жизни актера на сцене. Сцена может быть маленькой, крошечной, но пространство сцены определяется не ее размерами, а тем содержанием, которым наполняют ее живущие на сцене актеры. Если их искусство являет образ мира, мы не замечаем, что находимся в маленькой зале, что перед нами небольшая сценическая площадка. Нет, пространство крохотной сцены порою становится бесконечным, как космос. Это и есть – творчество и чудотворство.
Бывает так, и еще как часто бывает, что театр роскошный, сцена огромная, оборудована по последнему слову техники, а зритель задыхается в этом пространстве от отсутствия живого воздуха искусства.
Может быть так, что никакой сцены вовсе нет, да и не надо, просто, как говорил Вл. И. Немирович-Данченко, выйдут на площадь четверо актеров, расстелют перед собой коврик и начнется настоящий театр.
Великий испанский драматург Лопе де Вега говорил, что театр – это всего лишь две доски и одна-единственная страсть.
Для русского театрального искусства только тот театр настоящий, подлинный, который раскрывает на сцене жизнь человеческого духа. Об этом не уставал говорить своим ученикам К. С. Станиславский – великий реформатор театрального искусства, наравне с Вл. И. Немировичем-Данченко. Величайшие спектакли русского театра ХХ века очень часто создавались на крошечных сценах, а то и просто на полу в небольших, порою тесных помещениях, где и зрителя‐то, казалось, посадить было некуда, почти без всякого театрального оборудования. Речь идет о Первой, Второй, Третьей студиях Художественного театра. Спектакли этих молодых тогда коллективов вошли в сокровищницу отечественного театра; до сих пор они – предмет изучения театроведов, режиссеров, актеров.
Итак, текст, произнесенное слово, рождается как мгновенная и, что очень важно, сиюминутная реакция актера-персонажа на сценические ситуации, поведение и поступки партнеров. Сначала мы воспринимаем что‐то, а уж после произносим слова, какие считаем нужными в каждом данном случае, а иногда и не произносим, молчим, но это молчание – тоже реплика, тоже своего рода текст. Нам вообще ничто не мешает считать, что текстом в театре может быть не только собственно текст, произнесенный актером, не только звучащие со сцены слова, но и действия актера, поступки, которые он совершает на сцене, а также движения, мимика, жесты, то есть все то, что предшествует произнесенному слову, подготавливает и сопровождает его. Это тоже своеобразный текст – ведь в жизни мы, внимательно наблюдая за поведением человека, можем очень многое о нем узнать и совсем немало в нем понять, мы как бы прочитываем своего рода текст и делаем определенные выводы, получаем или, как сейчас говорят, считываем информацию. Слышимый нами текст может говорить одно, а вот поведение человека совсем другое.
Импровизация – это основа основ актерского искусства, но справедливо говорят, что любая импровизация должна быть хорошо подготовлена. Это означает прежде всего, что актер должен очень хорошо знать обстоятельства и цепь событий сценического представления, то есть собственно сюжет истории, разыгрываемой им на сцене, а также, что тоже очень важно, – знать основные цели, задачи своего сценического действия. Вот только тогда, когда он во всем этом разберется, возможна настоящая актерская импровизация.
Мысленно Пуаро ставит фарфоровых артистов в те или иные жизненные обстоятельства, сценические ситуации, изучает и проверяет их поведение в тех или иных событиях, предполагает те или иные цели, к которым они стремятся. Он отлично знает, что импровизация в классической итальянской комедии обусловлена не только сценарием, а их у Пуаро в запасе несколько, но зависит еще и от той сценической функции, которая в течение столетий закрепилась за каждой фигуркой, а эта функция напрямую зависит от основной черты характера персонажа.
Дело в том, что в каждой маске комедии дель арте со временем нашли свое предельное выражение самые разные человеческие качества: плохие и хорошие, свойственные отдельному человеку, но и не чуждые человечеству в целом, присущие вообще всем людям. Ну, такие, например, как ум, что бывает реже, глупость, что встречается чаще, а с ними вместе трусость, храбрость, коварство, преданность, ветреность, измена; любовь, самоотверженность, ненависть; ложь, скупость, чревоугодие, хвастовство – всего не перечесть. И все это намешано понемногу в каждом человеке; но в персонаже комедии масок всегда преобладает некое одно качество – оно единственное диктует ему поведение, оно заставляет его так, а не иначе строить свои взаимоотношения с другими персонажами. Оно указывает на его функцию в представлении, дает понять, каков его характер и чего можно от него ожидать. Вот, скажем, одной из известнейших масок итальянской комедии был купец Панталоне. Он получил свое имя от узких красных панталон, которые носил этот персонаж, непременно скупой старик. В представлении он может быть веселым, грустным, жалким, напыщенным, даже влюбленным, придурковатым, что часто одно и то же, попадать в самые разные ситуации, но он всегда будет скупым. Скупость – его основная идея. Эта маска нашла свое грандиозное воплощение в комедии Мольера «Скупой».
Со всем тем, даже зная, какой комплекс тех или иных качеств является основным для каждой маски, все равно никогда нельзя было быть совершенно уверенным в том, как поведет себя персонаж в тех или иных обстоятельствах – он может выкинуть какой угодно фортель, изумив и озадачив нас. Любая игра имеет свои правила, но внутри этих правил бесконечное количество комбинаций, и всегда находится кто‐то, кто играет не по правилам, а это интереснее всего, во всяком случае в театральном искусстве. Каков может быть результат деятельности персонажа, а стало быть, и финал спектакля, можно было, конечно, предполагать, но никогда нельзя было угадать точно. На самом деле это нелегко, потому что каждая маска в отпущенных ей пределах действует иногда совершенно неожиданно, во всяком случае, если она талантлива, заставляет нас не раз ахнуть по ходу представления, разувериться в своих, казалось бы, верных на ее счет предположениях, а дальше с еще большим интересом следить за интригой спектакля.
Бесценные старинные фарфоровые безделушки, изготовленные на фарфоровой мануфактуре в городе Мейсене в начале восемнадцатого века, не исключено даже, что под руководством самого изобретателя европейского фарфора Иоганна Бёттгера, исполняют перед Пуаро причудливый танец. Такой же причудливый танец напоминала и жизнь изобретателя фарфора. Об этом стоит, пожалуй, сказать несколько слов; театральной, наполненной совершенно невероятными, комическими, трагическими, почти фантастическими событиями была жизнь этого великолепного представителя великолепного авантюрного восемнадцатого века. Иоганн Бёттгер был человеком отважным, его время вообще было временем смелых людей; он был ученым, алхимиком и, само собой разумеется, авантюристом, что в те времена, когда наука становилась алхимией, а алхимия наукой, довольно часто подразумевало одно другое. В его жизни действительно трудно было одно от другого оторвать – где заканчивался ученый и где начинался авантюрист, не всегда было понятно даже ему самому. Он обещал саксонскому курфюрсту найти философский камень, с помощью этого камня якобы можно было превращать в золото другие металлы, и таким образом изготовить золота столько, сколько его высочество захочет.
Самое смешное, что он искренне, судя по тому, что происходило в его жизни, верил, что действительно возможно превращать в золото разные металлы. Курфюрст Саксонии был человеком в общем‐то симпатичным и неглупым, но не большого ума, вполне умным его никак назвать было нельзя, ведь он был жадным, безумно любил золото, а жадность притупляет и самый большой ум. Вечно нуждаясь, он очень хотел поверить Бёттгеру, что можно добыть золото из неблагородных металлов. Кстати, что это такое курфюрст – титул, звание? Это привилегия, так называли князя, обладавшего правом выбирать императора на имперском сейме, то есть съезде князей-электоров, выборщиков. Никакого золота, ни белого, ни желтого, никогда нигде из ничего никакой алхимик получить не мог; Бёттгера вскоре ожидала казнь, очень неприятная, что‐то, например, вроде колесования, да еще неторопливого, казнь ведь тоже была представлением, театром, так кому же охота, чтобы оно заканчивалось быстро; короче, авантюристу или алхимику, как вам больше нравится, было над чем задуматься. В последний раз он отправился к курфюрсту Августу, который уже успел к этому времени стать польским королем, надеясь еще раз уговорить его подождать с результатами опытов; по дороге он заехал к парикмахеру завить парик и посыпать его пудрой, ибо тщательно следил за модой и желал явиться при дворе в приличном виде; двор Августа был одним из лучших в Европе, исключая, разумеется, королевский двор в Версале, блеск и ни с чем не сравнимая роскошь русского двора были еще впереди. Парикмахер, к которому он по дороге заехал, был жуликом; он посыпал парик Бёттгера порошком белой глины вместо настоящей, очень дорого стоящей пудры. Мода того времени требовала ношения пудреных париков, пудры выходило огромное количество, парикмахер решил сэкономить. Размышляя о своей несчастной доле, воображая себя уже на колесе или на каком‐нибудь еще более интересном, чем колесо, предмете (время, в котором проживал алхимик, было весьма изобретательным на замысловатые орудия пытки и казни), надеясь на что‐нибудь попроще, вроде повешения, Бёттгер нервно разминал пальцами щепотку белого порошка; вдруг он почувствовал, что порошок превратился в плотный, мягкий, как будто немного жирный и, что самое главное, абсолютно белый комочек. «Где ты взял эту глину?!» – закричал взволнованный Бёттгер. «Да вон там, недалеко в овраге!» – закричал испуганный парикмахер. Так были открыты залежи белой глины, каолина; из нее Бёттгер сделал первый европейский фарфор. Фарфор в то время стоил дороже золота.
Бёттгер сохранил жизнь.
На мануфактуре в Мейсене стали изготовлять не только посуду, но и прелестную миниатюрную скульптуру из фарфора. Так появились на свет фарфоровые статуэтки Эркюля Пуаро.
На воротах дома, где ему впервые удалось получить фарфор, Иоганн Бёттгер написал: «благословляю этот дом, где стал алхимик гончаром». Как верно! В самом деле, лучше заниматься настоящим делом, изготавливать фарфор, который дороже золота, чем быть авантюристом и обещать добыть золото из ничего, рискуя быть повешенным. И что же вы думаете, Бёттгер удовольствовался тем, что изобрел европейский фарфор, и перестал заниматься алхимией? Ни в коем случае – он пытался добывать золото с помощью философского камня до конца жизни; она была недолгой, слишком много он вдыхал ядовитых паров на своих бесплодных опытах. Стало быть, он был еще и фанатиком, а это никогда ни к чему хорошему не приводит. Ни Бёттгер, ни другие алхимики золота никогда не находили, а вот открытий в химии и других науках по ходу дела совершили немало, внеся свою лепту в создание грандиозной театральной феерии, которая называется – восемнадцатый век.
Восемнадцатый век – век театральный, не случайно фигурки Пуаро представляют собой актеров итальянской комедии. Это век масок и маскарадов, превращений, переодеваний, приключений. Переодевания порою становились существенным признаком великих событий, изменявших историю. В 1741 году российская императрица Елизавета, родная дочь Петра Великого, тогда еще принцесса, совершила государственный переворот, свергла Брауншвейгскую династию, взошла на русский трон, переодевшись в зеленый мундир гвардейца, возглавив с саблей наголо отряд гренадеров Преображенского полка; точно так же спустя двадцать один год поступила ее племянница, урожденная немецкая принцесса София Ангальт-Цербстская, будущая российская императрица Екатерина Великая, устроившая государственный переворот и выступившая в военном мундире во главе гвардейских полков. Переодевания, превращения характерны для этого века. Века великих авантюристов… Отважных людей, часто беспринципных, циничных, невероятно артистичных, прирожденных актеров, которые сами ставили и играли спектакли своей жизни. Это были блестящие спектакли, великие – в них трагическое сменялось комическим, драма – фарсом. Все эти удивительные люди так или иначе связаны были с Россией, посещали ее, об этих посещениях остались интереснейшие воспоминания. Граф Калиостро – самый знаменитый, о нем вы можете прочесть в романе Дюма «Жозеф Бальзамо» и в книге нашего поэта Михаила Кузмина. Граф Сен-Жермен – самая таинственная личность в истории авантюристов фантастического века; он в ответ на просьбу о деньгах открывает графине тайну трех карт – тройки, семерки и туза, в повести Пушкина «Пиковая дама». Шевалье д’Эон, международный шпион, выдававший себя за женщину, а может быть, ею на самом деле и являвшийся, – один из героев романа русского писателя В. Пикуля «Пером и шпагой». Казанова, оставивший после себя интереснейшие мемуары, Морис, или, как говорят поляки, Марек Беньовский, по происхождению словак, сражавшийся в рядах польского восстания, сосланный в 1769 году на Камчатку, бежавший оттуда на корабле, завоевавший остров Мадагаскар, ставший королем Мадагаскара; ему посвятили поэму великий польский поэт-романтик Ю. Словацкий и оперу французский композитор эпохи Великой французской революции Ф. Буальдьё. А Бомарше – часовщик, дипломат, банкир, шпион, политический деятель и великий драматург! Все эти люди, без сомнения, выдающиеся. Они сочинили каждый свою роль и великолепно исполнили их на сцене столетия.
Шесть фарфоровых чашечек преподнесли Августу Саксонскому. «Подобные цветку нарцисса», – сказал он и устроил бал. Бал – это целое театральное представление, со своей интригой, ролями, событиями, героями.
Какие танцы танцевали тогда при дворе Августа? ведь фарфоровые статуэтки именно там научились танцевать. Может быть, это была знаменитая матрадура, танец, который был так любим в России в восемнадцатом и даже на заре девятнадцатого века? Во многих русских мемуарах начала девятнадцатого века можно прочитать об этом танце. Матрадура, если угодно, это занятная и увлекательная игра в танцах. Она требовала от танцоров большой изобретательности и внимания к порядку фигур, которые бесконечно менялись, заставляя танцующих все время следить за партнером, чтобы не отстать и вовремя поменяться с ним местами, то выйти вперед, то отступить назад, то выполнить соло.
Все это были не просто изящные геометрические фигуры под музыку, но и своеобразный рисунок взаимоотношений участвующих в танце людей или, в сущности, персонажей – тоже спектакль своего рода. И у него был свой язык – язык веера, каждый взмах которого говорил партнеру что‐то весьма определенное, приятное или нет; язык мушек, когда становились говорящими крошечные кусочки черной тафты или бархата, наклеенные на щеку. Причем каждое положение мушки имело свое значение, легко прочитываемое тем, кому это было нужно.
На языке веера и мушек, причудливом и немом языке иносказаний, изъяснялись в светском обществе того времени.
Бал – об этом мы с вами уже говорили – своего рода спектакль; бал-маскарад – спектакль масок. Не случайно именно на балах и маскарадах, в череде танцующих завязывались, развивались, а иногда и заканчивались, рушились человеческие взаимоотношения. Именно во время блистательного бала-маскарада происходят роковые для героев события в романтической драме Лермонтова «Маскарад». И в «Евгении Онегине» Пушкина мы помним два роковых бала, два судьбоносных события – простенький, но веселый сельский бал в усадьбе Лариных, где происходит ссора Ленского с Онегиным, которая привела к гибели молодого поэта, и скучный великосветский бал в роскошном барском особняке в Санкт-Петербурге, на котором только что прибывший в Петербург после своих многолетних скитаний Онегин неожиданно снова встречает Татьяну. На этот раз влюбляется в нее страстно, пишет ей безумное письмо, и чем заканчивается его запоздавшая страсть, мы узнаем из ироничного, немного даже злого финала истории Онегина в пушкинском романе. Вы, конечно, слышали замечательный романс П. И. Чайковского «Средь шумного бала». Романс написан композитором на стихи А. К. Толстого. Бал, о котором идет речь в стихотворении, был на самом деле – это ежегодный бал-маскарад в Большом театре. Именно там, «средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты», встретил поэт свою будущую возлюбленную. И началась многолетняя драма двух любящих сердец; сколько дивных стихотворений создал поэт, посвященных этой своей, полной страданий любви. Прочитайте биографию А. К. Толстого – прекрасного русского человека и замечательного поэта, вы узнаете из нее все перипетии этой грандиозной драмы. Любители оперного театра, конечно, вспомнят «Бал-маскарад», знаменитую оперу Верди, трагическая развязка которой происходит на бале-маскараде. Любители кино вспомнят, что относительно недавно на наших экранах шел фильм итальянского режиссера Этторе Скола «Бал», фильм без единого слова – все события фильма создают напряженный сюжет и раскрываются в пластическом поведении актеров. А мы с вами вспомним, конечно, прекрасный, овеянный фантастикой роман В. Ф. Одоевского «Русские ночи». В нем есть небольшая новелла под названием «Бал», фантасмагорическое страшноватое изображение бала в честь победы в войне. (Вспомним также стихотворение А. И. Одоевского «Бал» – фантастическую и немного жутковатую фреску.) К величайшему сожалению, сегодня произведения В. Ф. Одоевского, писателя, музыканта, философа, критика, общественного деятеля, не очень популярны, а зря, все созданное им и сегодня выглядит часто более современным, чем некоторые опусы нынешних писателей, а о языке нечего и говорить, до языка Одоевского им далеко. Впрочем, вы, наверное, читали в детстве чудесную повесть-сказку Одоевского «Городок в табакерке»? Помните городок Динь-динь, в котором обитают мальчики-колокольчики, дядьки-молоточки да еще дядька-Валик и царевна-Пружинка? В середине прошлого века был создан на радио великолепный, ставший классикой радио, спектакль для детей по сказке Одоевского – его поставила выдающийся режиссер радиотеатра Роза Иоффе. Послушайте его непременно – это нетрудно сейчас сделать – это произведение настоящего большого искусства, тот случай, когда радиоспектакль становится зримым, а это, согласитесь, сделать довольно трудно. Одоевский, писатель выдающийся, временами гениальный, оказал огромное влияние на нашу литературу; он – предтеча многих замечательных явлений русской литературы, от Достоевского до Василия Аксенова.
Да, кстати, не забавно ли? Рассказ о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро и фарфоровых фигурках носит название «Убийство на балу Победы» – какое совпадение, почти что таинственное, в духе Одоевского, не правда ли?
Звучное, словно громыхающее медными инструментами оркестра слово «матрадура» вам знакомо, конечно, по «Мёртвым душам» Гоголя. Помните, как там Ноздрёв врет Чичикову, что намедни он будто бы пил какое‐то совершенно необыкновенное шампанское, не просто, восклицает он, Клико, а Клико-матрадура! В пьяной голове Ноздрёва все смешалось, спуталось: карточная игра, борзые щенки, шампанское, шашки, шарманка, подпоручик Кувшинников, старинный бальный танец, который доживал своей век в провинции.
Но все это, кажется, не имеет прямого отношения к нашему рассказу. Впрочем, не совсем так, вернее, совсем не так.
Коль скоро мы заговорили о гениальной гоголевской фигуре Ноздрёва, наверное, надо сказать и о том, что он – врун, бахвал, забияка, балагур, трус и любитель выпить – очень напоминает по своей природе Капитана, старинную маску итальянской комедии. Да и собеседник Ноздрёва, Чичиков, какими‐то едва уловимыми, но все же существующими нитями связан со знаменитой маской Бригеллы, так называемого умного слуги. Это сходство на первый взгляд весьма отдаленное, но чем внимательнее всматриваешься, тем отчетливее оно становится. В народном театре, в его пьесах и персонажах, еще задолго до возникновения, собственно, комедии дель арте, схвачены были такие предельно точные «зерна» человеческих характеров, типов, что, будучи брошенными на почву литературы, они прорастали многими великими образами мировой литературы, на первый поверхностный взгляд неузнаваемыми.
Но вот взять хотя бы знаменитый средневековый фарс о мэтре Патлене, величайшем жулике и вдохновеннейшем плуте, – именно из этого фарса пятнадцатого века дошло до нашего времени крылатое выражение «Вернемся к нашим баранам». «Мэтр Патлен» – очень смешная пьеса. Неизвестно, кто ее написал, иногда называют ее автором одного из самых замечательных поэтов Средневековья Франсуа Вийона. Но кто бы ни был автором старинной смешной пьески, фарса, на самом деле он все равно, скорее всего, был обработчиком уже существующего ранее сюжета. Сюжета какое‐то время, еще до его литературной версии, игравшегося многими бродячими труппами актеров, которые, как мы это уже знаем, импровизировали текст по ходу представления. Тип ловкого пройдохи-адвоката являлся в представлениях народного или, как его еще иногда называют, площадного театра. Наверное, в каждой труппе имелась своя версия текста фарса о мэтре Патлене. В дошедшей до нашего времени литературной версии фарса этот текст, пожалуй, нашел свое наиболее совершенное воплощение благодаря прикосновению к нему пера талантливого литератора.
Текст пьесы издавался в России несколько раз в очень хороших переводах; познакомившись с ним, а также с репродукциями средневековых гравюр, изображающих некоторые сцены из пьесы, можно почувствовать атмосферу средневекового комического представления.
На суде адвокат Патлен говорит о чем угодно, только не о сути дела – краже пастухом у суконщика трех баранов. Безуспешно судья пытается остановить красноречивого жулика-адвоката словами: вернемся к нашим баранам! Фарс о мэтре Патлене – шедевр средневекового театра. Приведем здесь два кусочка из пьесы, чтобы понять, как выразительны язык и характеры действующих лиц, как остроумна интрига, как легко летит действие пьесы. Вот мэтр Патлен наставляет пастуха, который должен отвечать в суде по обвинению в краже овец.
- Патлен. Клянусь святой Марией,
- Затем, что если пред судьей
- Ты, друг, язык развяжешь свой,
- То будешь к стенке вмиг приперт.
- А это нам на кой же черт?
- Последуй моему совету
- И докажи судье, что нету
- Рассудка в голове твоей:
- В ответ на все вопросы блей.
- …Скажу: «Позвольте, господа,
- Он глуп и, видимо, сейчас,
- Он за баранов принял нас».
- Начнут беситься судьи снова,
- А ты – по‐прежнему ни слова,
- Иначе – крышка.
- Пастух. Что ж, идет.
- На сей не беспокойтесь счет:
- Хоть целый день под стать барану
- Перед судом я блеять стану.
- Уж в этом, верьте, я мастак.
Хитроумный ход мэтра Патлена приносит свои плоды – пастух оправдан, и теперь мэтр собирается получить от него обещанный гонорар. И вот что происходит: пастух «забывает» человеческую речь, и в ответ на обращение к нему мэтра Патлена начинает блеять, как баран.
- Патлен…Плати!
- Пастух. Бе-е!
- Патлен. Что за наважденье!
- Иль ты смеешься надо мной?
- Немедленно суму раскрой!
- Ты слышишь, олух, иль оглох?
- Пастух. Бе-е!
- Патлен. Ах, негодный пустобрех!
- Тебя согну я в рог бараний!
- Пастух. Бе-е!
- Патлен. Хорошо, давай без брани.
- Что ты заладил «бе-е» да «бе-е»…
- Пастух. Бе-е!
- Патлен (в сторону). Вот не думал в лужу сесть!
- Смех! Деревенский пастушонок,
- Едва лишь выполз из пеленок,
- И обхитрил меня!
Так простой пастух перехитрил такого ловкого пройдоху, как мэтр Патлен, при этом пользуясь его же советом.
Фарс о мэтре Патлене, как мы бы сегодня сказали, мини-сериал – он состоит из трех частей, серий, каждая из которых обладает своим сюжетом. Мэтр Патлен представляет собой бессмертный тип судейского крючкотвора; в этом произведении он уже не только персонаж народного театра, но и литературный герой. Ниточка от него тянется в глубину веков, к эпиграммам римского поэта первого века нашей эры Марциала. В одной из своих эпиграмм Марциал выводит адвоката Постмуса, призывающего стороны на судебном процессе вернуться к… трем украденным козам – как видите, в данном случае почти точное совпадение сюжетов.
Но мэтр Патлен еще и прообраз многих подобных ему героев европейских литературы и театра. В старом французском фарсе он только смешон. Но, например, в русском театре далекие потомки этого типа предстают перед читателем и зрителем совсем не только смешными, но страшными и крайне опасными для общества фигурами в гениальной комедии В. Капниста «Ябеда»; зловещими – в сатирических фантасмагорических пьесах «Дело» и «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина. Представьте себе, жанр своей пьесы «Смерть Тарелкина» автор определил не более и не менее как «светопреставление»! Ни до, ни после Сухово-Кобылина никому из драматургов не приходило в голову так обозначить жанр своего произведения. Вот так неожиданно и необычно раскрылось и проросло «зерно» своеобразного и вечного человеческого типа, когда‐то угаданное и воплощенное в одном из персонажей народной комедии. А скольких дальних родственников Патлена мы можем найти и у Гоголя, и у Островского, и у Писемского, и, конечно, у Салтыкова-Щедрина.
Древние греки были веселым народом, не любили скучать и среди многих прочих интереснейших вещей придумали театр. С тех пор театр неотделим от человека. Античный театр, родившийся в Древней Греции из народных религиозных празднеств и воспринятый, как и многое другое, в наследство от нее Римом, погиб вместе с Римской империей под ударами нашествий варваров. Казалось, навсегда были забыты великие имена греческих драматургов – Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Менандра, римских Плавта, Теренция, Сенеки; потеряны бесценные рукописи их произведений. Огромные античные амфитеатры разрушались, заносились песком, камни растаскивались на другие цели. Театр как важнейшее государственное дело перестал существовать; вообще, все научные знания, вся культура, вся великая философия античности оказались ненужными, были забыты или почти забыты. Понадобилось арабское вторжение в Европу, становление в Испании арабского государства (в Европе его называли мавританским), кропотливый научный труд великих арабских и еврейских ученых, работавших в Кордове, Севилье и Толедо, чтобы античная культура снова стала просачиваться в европейскую жизнь и, наконец, обрела в Европе свое второе рождение.
Церковь, ставшая главной силой в те времена, получившие потом в истории название Средневековья, запрещала театральные зрелища. Такое положение дел длилось много веков – только в тринадцатом веке появилось произведение, которое считают первой средневековой светской пьесой – «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля, французского поэта из Арраса, прозванного «аррасским горбуном». Горбун звучит несколько таинственно и немножко отдает романами Поля Феваля, знаменитого и по‐настоящему талантливого соперника самого Дюма, автора приключенческих романов, один из которых так и называется «Горбун». Роман полон невероятных приключений, а его главный герой, выдавая себя за горбуна, устраивает настоящее театральное представление с переодеваниями, изменением внешности, неожиданными явлениями для того, чтобы вырвать невинную девушку из рук злодея. Кстати, этот мнимый горбун – из судейского сословия, тоже, наверное, дальний родственник нашего Патлена.
Автор «Игры о Робене и Марион», как говорят некоторые исторические данные, на самом деле вовсе и не был горбатым – почему же его так прозвали? Может быть, в его жизни тоже было много приключений, и за этим прозвищем «аррасского горбуна» скрывалась какая‐то тайна, которую мы никогда не узнаем? Все может быть, и достоверно известно, что он любил путешествовать и вообще не очень любил сидеть на одном месте. Правда, говорят, существовала еще одна версия его прозвища – будто бы его рифмы были горбатыми. Профессиональная ревность, что поделаешь! Но вообще Адам де ла Аль в переводе означает – Адам с рынка. Что он делал на рынке, этот первый европейский светский средневековый драматург? Вряд ли торговал, может быть, был писцом, и в ту эпоху всеобщей неграмотности где‐нибудь в углу на рынке на импровизированном бюро переписывал что‐то для кого‐то, как подьячий в «Хованщине» Мусоргского, писал записки, письма, делал копии счетов. Говорили – надо пойти к Адаму с рынка, он грамотный и умеет писать – так получил он свое странное имя, которое тоже вроде бы еще одно прозвище получается.
«Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля была поставлена в России в Санкт-Петербурге в начале ХХ века в так называемом Старинном театре, который открыл в 1907 году известный режиссер Н. Евреинов, в чудесных декорациях художника М. Добужинского. Этот театр был предназначен режиссером специально для постановки старинных пьес. предприятие Евреинова ставило задачу реконструировать старинный театр, но по сути это была как бы игра в старинный театр, его стилизация, то есть своего рода игра в игру. Реконструировать театр невозможно в принципе, если только не иметь в виду восстановление театрального здания, как это сделано было относительно недавно в Лондоне, где заново построили здание шекспировского «Глобуса». Старинный театр Н. Евреинова просуществовал недолго, из этого дела толком так ничего и не вышло, прежде всего потому, что реконструировать можно все, кроме игры актера, она не поддается реконструкции, но свой след в истории театра он оставил; прежде всего из‐за участия в его постановках замечательных художников, пришедших в то время в Старинный театр и очень много сделавших вообще для русского театра, – М. Добужинского, А. Бенуа, И. Билибина, Н. Рериха, В. Щуко, Е. Лансере. Все они принадлежали или были очень близки к известной в начале ХХ века и имевшей огромное значение для всей русской культуры группе «Мир искусства». Особенно много сделали художники этой группы и художники, примыкавшие к ней, для становления и расцвета русского оперного и балетного театра – к названным нами именам следует прибавить имена В. Поленова, В. Васнецова, М. Врубеля, Л. Бакста, А. Головина, Б. Кустодиева, все это имена, которым русский музыкальный театр обязан многим, если не всем. Собственно, они в значительной степени и создали русский оперный театр, именно как театр, как сценическое музыкальное действо, они же часто по существу были постановщиками оперного спектакля – до прихода в оперу Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко и следующей за ними плеяды замечательных музыкальных режиссеров ХХ века.
Итак, «возвращаясь к нашим баранам», после падения некогда великой римской империи, в течение нескольких веков Европа вообще не помнила театра. Пьесы никто не писал, во‐первых, потому, что ни писать, ни читать большинство населения Европы тогда не умело, во‐вторых, литература как письменность, а не устное предание, на какое‐то время просто перестала существовать, если не считать литературы церковной, писаной на латыни, языке уже большинству непонятном. Но церковная литература, даже в таких изумительных, глубоко реалистичных произведениях, как «Исповедь» блаженного Августина, справедливо занималась больше спасением души, чем театральными сюжетами, и должны были пройти столетия, прежде чем умная церковь приспособила драму к своим церковным нуждам, возникли церковные, литургические драмы, основывающиеся на тексте священных книг. Но это случилось не раньше девятого века.
А театр все‐таки был жив даже в те времена средневековья, которые не совсем, впрочем, справедливо называют темными. Он был жив в чудесном искусстве бродячих актеров – их называли гистрионами, а также шпильманами в Германии, жонглерами – во Франции, менестрелями – в Англии, мимами – в Италии, гальярдами – в Испании, франтами – в Польше. На Руси их называли скоморохами. Акробаты, жонглеры, дрессировщики, танцоры, рассказчики, песенники бродили по разным странам, городам, весям, устраивали свои представления то под открытым небом, то, если повезет, в замке какого‐нибудь знатного сеньора, который любил позабавиться сам и рад был позабавить своих гостей представлениями бродячих комедиантов. Это можно во всех подробностях увидеть в старом замечательном французском фильме «Чудо с волками». В нем играли Жан Маре, Жан-Луи Барро и Роже Анен – блистательные актеры. Там есть эпизод, когда труппа странствующих комедиантов дает представление в замке герцога Бургундского; к бродячим артистам присоединился главный герой, разумеется, чтобы вместе с ними пробраться в замок феодала и спасти любимую девушку из рук герцога Бургундского.
Средневековый бродячий актер, как спустя столетия его потомок актер commedia del’arte, умел делать все. В его памяти жило искусство древнегреческих мимов, римских гистрионов, бродячих актеров античного мира. Бродячий актер одновременно был и автором, и исполнителем. К тому моменту, когда наконец настала эпоха, получившая название Высокого Средневековья, и стали появляться первые пьесы, и в репертуаре странствующих артистов было много сюжетов и множество их интерпретаций – все они жаждали своего совершенного литературного воплощения.
И песня, и рассказ, и притча, и танец, и даже жонглирование всегда имеют свой сюжет – цепочку событий. Они находят свое выражение, разумеется, каждый в природе своего жанра: у жонглеров в постепенном нарастании сложности трюков, то же у акробатов; иногда – в имитации неудачного, сорвавшегося трюка, когда зритель ахает – вот-вот акробат сорвется, упадет, а жонглер потеряет свои кольца, мячи и булавы, но на глазах потрясенного зрителя артист блестяще преодолевает трудности, ниоткуда не срывается и ничего не теряет. Показать такую обманную, нарочитую неудачу в сто раз труднее, чем просто исполнить весь сложный номер – тут надо было быть настоящим мастером своего дела. Мнимая неудача и ее преодоление – это, конечно, самый настоящий сюжет.
Некоторые истории разыгрывались как сценки – это уже подлинный театр, а не просто представление. Бродячие актеры разыгрывали сценки иногда безмолвные, иногда сопровождая их пояснительными словами, вслух обозначая каждое свое действие на сцене, площадке. Я, например, говорил актер, беру нож, а я, говорил другой, наливаю в кружку воду, и производили эти физические действия одновременно с текстом. Наверное, вам будет интересно узнать, что в современных театральных школах есть похожее упражнение, оно входит в актерский тренинг, его делают студенты первых курсов для того, чтобы научиться ничего не пропускать в своих действиях на сцене. Постепенно пояснительный текст оторвался от физического действия актера, стал самостоятельным, стал импровизацией, внутри определенных обстоятельств и всегда в том или ином событии.
Нам здесь важно одно и главное – любой сюжет, как бы он ни был прост, всегда представлял собою историю человеческой судьбы, если не всю, то какой‐нибудь ее кусочек. Главное, историю, не рассказанную песней ли, стихотворением ли, сказкой ли, а сыгранную, созданную сию минуту, сейчас, на глазах у зрителя.
Вот это и есть – театр.
Развертывающаяся на глазах зрителя, здесь и сейчас посредством сценических событий жизнь человека, его судьба. Театр – это всегда человек; если на сцене нет человека – действующего, совершающего поступки, то нет и театра. В этом смысле бродячие актеры сохранили искусство театра, обходясь очень долгое время без письменной драматургии. Их искусство достигло своего расцвета в театре commedia del’arte, с кое‐какими персонажами из нее мы с вами познакомились благодаря криминальной загадке Пуаро. Проигрывая перед внутренним взором Пуаро замысловатые сценические комбинации, предлагая ему те или иные варианты сюжета, фарфоровые фигурки постепенно подсказывают сыщику правильное решение загадки преступления; дело наконец раскрыто, тайна обнаружена, преступник наказан, а невинные освобождены.
Как это у Пуаро получилось? Дело в том, что он довольно хорошо представлял себе исторически сложившийся принцип поведения каждой фигурки. Сталкивая их в различных ситуациях, он создавал неожиданные комбинации их взаимоотношений. Сцена, на которой выступали фарфоровые артисты, была для него подобием шахматной доски, где он блестяще сыграл свою партию. Надо сказать, что театральную сцену действительно часто сравнивают с шахматной доской, на которой играется сложная, запутанная партия – спектакль. Шахматные фигуры ходят всегда одинаково, вы знаете: слон по диагонали, конь буквой «г», а ладья по вертикали и по горизонтали, и так далее, но вариантов ходов бесчисленное множество. Как тут найти верный ход – выиграть партию!
Пьеса, сценарий дают ряд возможных вариантов игры, а правильнее сказать, сценического действия актеров; выбрать из всех возможных единственно верный – довольно трудная задача, но в этом как раз и заключается искусство режиссера, между прочим, тоже своего рода следователя. О том, что некоторые функции режиссера делают его работу схожей с работой следователя, говорил великий русский режиссер Сергей Эйзенштейн. Что такое режиссерский разбор пьесы? Это раньше всего выяснение всех обстоятельств, в которых развертывается сюжет, событий, причинно-следственных связей, приводящих к ним, подлинных взаимоотношений действующих лиц, выяснение, так сказать, алиби каждого. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Итак, вся прелесть комедии дель арте как раз заключалась в том, что, несмотря на то, что все ее персонажи, маски были хорошо знакомы публике и можно было без труда предположить их поведение в том или ином сценическом событии, все равно каждый раз публика наблюдала за перипетиями сюжета народной комедии с охотой и без скуки. Зритель всегда с великим вниманием следил за ходом представления, и, в отличие от зрителя современного театра, его занимала прежде всего великолепная игра актеров. Он получал огромное удовольствие от того, что в знакомой сценической ситуации актеры действовали так ловко и умело, что вносили каждый раз что‐то новое в, казалось бы, заранее известный ход представления. И это заставляло зрителей быть еще внимательнее к спектаклю, ко всем возможным и, казалось бы, невозможным поворотам часто довольно простого, незатейливого сюжета.
Сюжетов на самом деле в мире не так уж много, а вот интерпретаций этих сюжетов может быть бесконечное множество. Влюбленные все равно соединятся, но вот как это произойдет, что они предпримут, чтобы соединиться, какие совершат поступки, каким образом преодолеют преграды, что потеряют и что обретут в этой борьбе – это может произойти по‐разному, это не всегда предугадаешь. По-одному в «Капитанской дочке», по‐другому в «Ромео и Джульетте», по‐своему в «Любовью не шутят» Мюссе и совершенно иначе в «Слуге двух господ» Гольдони. Актеры-импровизаторы являлись великими интерпретаторами ходовых, распространенных популярных сюжетов. Речь идет, конечно, прежде всего о талантливых актерах и умных руководителях актерских семей – так назывались труппы; такого рода актерские семьи сохранились до сих пор в цирке – не все актеры были между собой родственниками, но все они были настоящей семьей.
Хороший актер, даже если он действует на сцене в строго определенном характере, как это и было в комедии дель арте, все равно никогда не будет одинаковым, в его игре всегда возникают новые краски, новые нюансы, новые оттенки. Маска – это внешнее, хоть и данное как бы раз и навсегда. Известно, что актеры народной комедии исполняли свои характеры-маски всю жизнь и никогда не меняли свое сценическое амплуа. Что и говорить, это чрезвычайно утомительно, удручающе скучно – всю жизнь как представлять, так и видеть на сцене одно и то же, если бы не скрытый под маской огонь, живой человек, его душа, его живое бьющееся сердце. Маска маской, но внутренняя жизнь под этой маской всегда изменчивая, подвижная, неожиданная, увлекательная и всегда доходит да зрителя, если, конечно, она, эта внутренняя жизнь, есть. И зритель именно этой жизнью увлечен, а не только внешними трюками, какими бы забавными и изощренными они ни были, а на них куда как горазды были актеры итальянской комедии. Если сквозь маску не просвечивает подлинная человеческая жизнь, то это гибель любого театра.
Заметим, что когда мы говорим о масках, то имеем в виду совсем не обязательно маски, сработанные из кожи, шелка или папье-маше, скрывающие лицо или часть лица актера. Не все из актеров народной комедии появлялись на сцене в масках, например, так называемые влюбленные никогда не носили масок, закрывающих лицо, но со всем тем они все равно были масками – персонажами комедии; в данном случае слова «маска» и «персонаж» синонимы. Что же касается масок, которые надевали, чтобы быть неузнанными или якобы быть неузнанными (ведь порою прекрасно было известно, чьи черты скрывает маска, но их нарочно не показывали), то это тоже была своего рода игра, это был театр. Маски в Венеции восемнадцатого века были не только атрибутом актеров commedia del’arte.
Венеция славилась на весь мир своими карнавалами. В полюбившемся нам восемнадцатом веке они начинались в октябре, прерывались на Рождество, продолжались после праздника Епифании, то есть Богоявления, достигали кульминации на масленицу и заканчивались в так называемую Пепельную среду, когда головы верующих посыпались освященным пеплом, а на лбу пеплом же наносили знак креста. Карнавалы продолжались долгое время, длились иногда до шести месяцев в году, а то и больше и привлекали огромное количество народа. Сотни тысяч путешественников из самых разных стран мира приезжали на венецианский карнавал, да и сегодня приезжают, чтобы развлечься и отдохнуть на этом, теперь, к сожалению, несколько искусственном – слишком он рассчитан на туристов, – но по‐прежнему веселом десятидневном празднике.
На карнавале все люди равны, это его важнейший принцип.
На нем нет, например, богатых и бедных, аристократов и простых людей. Все различия, все грани стираются, все привычные социальные отношения переворачиваются, ставятся с ног на голову. В иные времена вельможа, чтобы участвовать в карнавале, надевал маску, переодевался, скажем, в сапожника, и к нему относились как к сапожнику, могли заказать пару сапог или туфель – это была бы, конечно, шутка, но в условиях карнавала к ней нужно отнестись всерьез. А к сапожнику, переодевшемуся в знатное лицо, не менее серьезно относились как к вельможе, оказывая ему всевозможные почести. Бывало, что королем карнавала избирали шута, как в знаменитой картине фламандского художника Якоба Йорданса «Бобовый король», и обращались к нему, как к суверену и судье, за милостью или требовали наказания, и он казнил и миловал – разумеется, все это было игрой, но в пределах карнавала это была игра всерьез.
Карнавал устанавливал свои законы и строго требовал их выполнения. Карнавал – это грандиозное театральное представление, в котором нет зрителей – они все его участники, они все действующие лица, они все персонажи – в соответствии с выбранными костюмом и маской.
О карнавале гениально написал великий русский ученый и философ М. Бахтин в книге «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Интересны полотна великих фламандских художников Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего, посвященные одному и тому же сюжету – карнавалу, огромной силы документы о подлинной народной жизни и духе Средневековья.
Обе картины называются «Битва Масленицы и Поста» и изображают последний день карнавала. Этот день назывался «жирный вторник», mardigras, за ним наступала та самая «пепельная среда», на латыни Dies Cinerut, день начала Великого поста, сорока дней покаяния. Эти картины, особенно Брейгеля, можно и нужно рассматривать долго-долго, они очень подробны – внимательно всматриваясь в них, как будто попадаешь в мир театрального представления – такое количество живых интереснейших человеческих типов изобразили художники. И эти поразительные занимательные людские типы, данные в движении, заставляют следить за собой как в театре или в кино, от них просто невозможно оторваться. Эти картины театральны и музыкальны – в полном смысле этих слов.
В художественном пространстве, которое незаметно втягивает нас в происходящее внутри него действо, снуют, беседуют, вопят, галдят, поют, преследуют друг друга, танцуют, дурачатся и создают особый музыкальный ритм многочисленные персонажи, и вдруг ты незаметно оказываешься одним из них. Вместе с ними попадаешь в атмосферу этой удивительной всеобщей игры, всеобщего театрального действа.
В этой картине живопись становится театром, театр музыкой, а музыка театром.
Тоже карнавал своего рода.
Но это вообще сила настоящего искусства – увлекать и вовлекать зрителя, слушателя в происходящее действие, делать из него и послушного, и активного участника художественного процесса. У основательных и невероятно подробных фламандцев эта сила велика. Эти картины – настоящий театр жизни – кажется, еще немного, и ты не только увидишь, но и услышишь его. Кстати, в левом нижнем углу картины Брейгеля мы видим персонажей, весьма отдаленно, но все же напоминающих наших хороших уже знакомцев – масок, как будто бы двух персонажей из commedia dell’arte – Арлекина и Коломбину, женщину с набеленным мукой лицом в ожерелье из скорлупы яиц и ее спутника с детской гитарой в руках. Впереди них бредет карлик в маске, схожей с маской Панталоне. В разных местах картины бродячие комедианты дают свои представления, и вся она написана художником так, что представляет собой огромную сцену с кулисами и задним планом. А на сцене идет захватывающее представление.
Брейгель писал свою картину, как будто с галерки смотрел на сцену.
Этот ракурс – гениальная художественная находка.
Конечно, картина великого Брейгеля – произведение философское, но это не мешает ей быть предельно, концентрированно реалистической. Это реализм особого рода. Это как раз реализм театра. В театре его иногда называют фантастическим реализмом – это определение Вахтангова; реализмом, отточенным до символа, как говорил об искусстве Художественного театра Немирович-Данченко. Мы об этом еще будем говорить подробнее, но вам надо всегда иметь в виду, что реализм сам по себе неизмеримо шире любых его определений. Пока же внимательней рассмотрите картину, она многое вам расскажет о мире и о человеке в нем. Кстати, как и одноименная картина Босха, она скажет, надеемся, что‐то новое о той страстной, духовно напряженной эпохе в истории человечества, какими были так называемые Средние века.
Одним из требований венецианского карнавала – а он начинает проводиться регулярно с одиннадцатого века – было требование, предписывающее обязательно надевать маски всем его участникам. Были времена, когда Синьория – верховный совет Венецианской республики – запрещала маски, но все равно их продолжали носить – они давали большую свободу поведения. Под маской все равны – так говорит Арбенин, главный герой драмы Лермонтова «Маскарад», и «если маскою черты утаены, то маску с чувств срывают смело», добавлял он. Да, это верно подмечено, карнавал был искренним, эмоции и чувства не скрывались, как это приходилось делать по тем или иным причинам в будничной жизни.
И вот по великолепным каналам, по ослепляющим от отраженных солнечных лучей днем, а ночью превращающихся в чернила, в которых колышутся огни фонарей, факелов, масляных плошек и смоляных бочек, водам лагуны, по проливу с красивым названием Джудекка, что говорит всего лишь о том, что на берегу канала когда‐то давным-давно проживали венецианские евреи, джуди, Giudei, на венецианском диалекте, сновали в два слоя лака иссиня-черные, как спина акулы, блестящие гондолы с местами для пассажиров, обитыми темным сукном. Гондолы скользили по каналам, рассекая воду своими высоко поднятыми (по ним определяли высоту мостов) носами с железными набалдашниками – ферро, как называли их в Венеции. Они были наполнены оживленными, смеющимися людьми в масках, впрочем, полагалось не более шести особ на одну гондолу. Только гондола Дожа, правителя Венеции, имела вдвое больше мест. На такой гондоле приплывает на совет Дож судить генерала Отелло в пьесе Шекспира «Отелло».
Когда Станиславский ставил спектакль по этой пьесе в Московском Художественном театре, он хотел, чтобы у зрителей создавалось впечатление скользящей по воде гондолы и тихого плеска воды от удара веслом. Он попросил постановочную часть сделать полые весла, в которые налили воду, от взмаха весла вода внутри переливалась, и появлялось ощущение плеска воды в канале. Такой вот театральный прием, довольно простой – как большинство театральных приемов. Вообще театр не любит большой сложности – кроме, разумеется, сложности человеческой жизни. Театр стремится показать жизнь во всей ее правде, глубине и объеме, во всех ее измерениях – прежде всего в измерении человеческого духа; любой театр, во все времена и во всех странах, у всех народов. А вот выразительные средства, к которым прибегает для этого театр, могут быть на удивление простыми.
Многие из плывущих в гондолах персонажей представляли собой героев уже немножко знакомой нам комедии дель арте и были похожи на грациозные фарфоровые фигурки, которые так внимательно изучал Пуаро и которые помогли нам начать наш разговор о театре.
Но случались в восемнадцатом веке в Венеции и такие времена, когда маски должны были надевать все – независимо от того, был ли карнавал или его не было. Такая вот возникла мода, разумеется, неспроста, ведь всякая мода всегда есть ответ на некие иногда не очень видимые процессы в общественной жизни. Она даже, и это очень интересно, угадывает их, предрекает и отражает по‐своему – именно это, кстати говоря, и роднит высокую моду с искусством. Все граждане Венеции, исключая, конечно, так называемый простой люд, носили маски, это был своего рода театр. Маска как бы обязывала к определенному стилю поведения, манере общения. Такого рода постоянный маскарад очень много значил в сложной и тонкой системе взаимоотношений граждан купеческой республики, которой, как вы знаете, была владычица морей Венеция. Обо всем этом можно прочитать в романе Фенимора Купера «Браво, или В Венеции» и фантастической повести Уилки Коллинза «Жёлтая маска».
О Венеции много написано и сказано. Скольких поэтов, драматургов, писателей, композиторов, художников, режиссеров кино и театра она вдохновила на замечательные произведения. Но, пожалуй, для нас всего интересней поэма замечательного русского поэта Аполлона Григорьева «Venezia la bella» – на фоне сказочно прекрасного города раскрывается в поэме драма русского человека.
- …И здесь, один, оторванный судьбой
- От тягостных вопросов, толков праздных,
- От дней, обычной текших чередой,
- От дружб святых и сходок безобразных,
- Я думы сердца, думы роковой
- Не заглушил в блистательных соблазнах
- Былых веков, встававших предо мной
- Громадами чудес разнообразных…
- Хоть накануне на хребте своем,
- На тихом, бирюзово-голубом,
- Меня адриатические волны
- Лелеяли… хоть изумленья полный
- Бродил я день – душою погружен
- В великолепно-мрачный пестрый сон…
Комедия дель арте и сегодня нередкий гость на сцене. В родной Италии она не только предмет старины, там существует целый институт, изучающий ее, есть и труппы, которые ее играют. Хотя это все‐таки только тень, только подобие той великой народной комедии, которая просуществовала три сотни лет, от пятнадцатого до конца восемнадцатого веков, и навсегда уступила свое место театру литературы, театру драматурга. Не потому, конечно, что современные актеры комедии дель арте менее талантливые, чем их далекие предшественники – нет, были в двадцатом веке и есть сейчас замечательные актеры комедии дель арте. Например, невозможно забыть спектакль великого итальянского режиссера Дж. Стрелера «Арлекин – слуга двух господ» по пьесе Гольдони, составивший эпоху в мировом театре. Этот спектакль, поставленный в 1947 году, имел несколько редакций, стал всемирно известным и идет до сих пор! Это кажется невероятным, но это так. И все благодаря не только режиссуре Стреллера, но и виртуозной игре двух актеров – сначала роль Арлекина играл Марчелло Моретти, а с 1963 года эту роль исполняет Ферруччо Солери. Несколько раз спектакль Стреллера приезжал в Россию с Ферруччо Солери, и все, кто его видел, не могут забыть тех чувств изумления и восхищения, которые вызывал у них этот замечательный актер.
Но все‐таки это исключение, подтверждающее правило.
Не следует забывать о зрителе – он вместе с режиссером, актерами соавтор спектакля! Наивные сценарии комедии масок были рассчитаны на зрителя своего времени; современного зрителя они вряд ли удовлетворят. Сдача позиций комедии дель арте началась где‐то чуть позже середины восемнадцатого века, и произошло это не сразу, постепенно и не безболезненно. Хорошо известна борьба двух великих деятелей итальянского и мирового театра – Карло Гоцци и Карло Гольдони.
Гоцци, яростный сторонник комедии дель арте, был непримиримым противником Гольдони, а Гольдони ратовал за новый театр, театр большой драматургии, в котором вместо маски, пусть и с самыми изощренными приемами актерской игры, был бы на сцене подлинный живой человек. Гольдони понимал, что импровизация в заранее обговоренных предлагаемых обстоятельствах сценария стала для театра уже недостаточной, даже тормозящей его развитие и сужающей его роль в общественной жизни Италии. Театру стала необходима точная, крепкая литературная основа – пьеса, драматургия, дающая образ живого человека. Именно так к этому времени давно обстояли дела в других странах, там появились великие драматурги. И Гольдони сделал это для Италии. Не надо забывать, что во времена Гольдони собственно Италии как государства еще не было, она была раздроблена на части, представляла собой россыпь небольших и не всегда находящихся в приязненных отношениях государств. Кроме того, в этих государствах говорили часто на разных диалектах итальянского языка, иногда непонятных – венецианский диалект далеко не всегда был понятен, скажем, на юге, а неаполитанский – на севере страны. Гольдони дал Италии национальный театр, он объединил Италию театром, намного раньше политического объединения страны, которое произошло только в последней трети следующего, девятнадцатого века. Он писал замечательные, порою гениальные пьесы, и хотя он в них использовал иногда традиционные персонажи комедии дель арте, это уже были не просто маски, а живые люди, иногда носящие имена прежних масок (да и только), но говорящие на языке, ставшем понятным всем. То есть он брал человека во всех, так сказать, его измерениях, в полноте его чувств и мыслей, во всей многогранности его жизни. Как малый мир, микрокосм, «человек есть мера всех вещей» – так утверждал древнегреческий философ Протагор, и эта старая, и нельзя сказать, что неправильная, на какое‐то время забытая мысль стала девизом времени.
Конечно, такой театр требовал другой техники актерского искусства и ставил совершенно новые задачи, прежде всего – задачу перевоплощения, основного в искусстве актера, а тут одной только маской не обойтись. И хотя в пьесах Гольдони, как мы говорили, еще действовали старинные маски, его театр уже в принципе иной – психология человека, его внутренний мир вставали на первое место. Таково было требование времени. В Италии это произошло в восемнадцатом веке по известным нам причинам, в Англии намного раньше – в конце шестнадцатого века уже творил великий Шекспир, во Франции семнадцатый век отмечен гениями Корнеля, Расина и Мольера, в Испании в шестнадцатом веке писал свои пьесы великий Лопе де Вега.
Россия – молодая страна, и в ней профессиональный театр возник в восемнадцатом веке, он вобрал в себя все лучшее, что было в европейском театре, и возник уже в общем как театр драматурга.
Хотя и Россия, как мы помним, знала народное актерство, скоморохов, а балаган, этот своеобразный вид народного русского театрального действия, жил еще очень долго, его простонародное, но благородное искусство оказало огромное влияние на театральных художников, режиссеров, драматургов, как это ни странно, в начале двадцатого века.
И среди спектаклей труппы первого профессионального русского театра, возглавляемой Фёдором Волковым, которые шли в переделанном под театральное помещение старом каменном амбаре на берегу Волги, были произведения св. Димитрия Ростовского, его литургические драмы, такие, как «Успенское действо», «Рождественское действо» (его еще называют «Ростовским действом»). Эти пьесы ростовского митрополита, очевидно, связаны еще крепкими нитями с народным театром. «Ростовское действо» св. Димитрия Ростовского – по существу его можно считать первой русской оперой – можно увидеть и сегодня – много лет этот спектакль идет в Московском камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского.
Разумеется, в разных странах сложный процесс слияния собственно театрального действа и литературной драмы, когда в театр пришел автор, писатель-драматург, и навсегда утвердился в нем, происходил по‐разному. Но во всех случаях было нечто общее. Стало очевидным, что для раскрытия на сцене психологии человека и всех его сложных отношений с жизнью, одной только маски, каким бы искусным ни был актер, эту маску представлявший, было явно недостаточно.
Народный театр commedia dell’arte блестяще развил актерскую технику, поставил собственно актерское искусство на очень большую высоту. Но это привело к тому, что сама по себе маска стала уже мешать актеру, ее стало недостаточно, чтобы выразить на сцене во всей полноте ту, по словам немецкого поэта Генриха Гейне, вселенную, что представляет собой человек. Гольдони утверждал народный театр, как он его понимал, в правдивом изображении человеческой жизни и сделал театр выразителем народных чаяний и надежд.
Но ведь и комедия дель арте тоже в свое время была народным театром? Да, но это время прошло, и она постепенно превратилась в прелестную забаву и не удовлетворяла потребностям нового времени, нового человека, нового мира, стремительно меняющегося и сбрасывающего с себя путы феодального общества. Этот мир пугал и был неприятен аристократу Гоцци, именно поэтому он в своих пьесах уходил в сказочную фантастику, а Гольдони сам был представителем этого нового мира. Борьба была ожесточенной; в какой‐то момент в ней победил Гоцци, и ему удалось вытеснить Гольдони с театральной сцены Венеции. Но все равно в этой борьбе не только двух незаурядных личностей, но двух эпох, старого и нового времени, в конечном итоге победил Гольдони, хотя эта победа далась ему очень нелегко, коль скоро он покинул родину – много лет он провел в изгнании. Он умер в Париже, тоскуя по Италии. Помните, как у Пушкина в пьесе «Каменный гость» одна из героинь, актриса Лаура, говорит: «Там, далеко на севере – в Париже…» Русскому уху это странно слышать, а героиня Пушкина испанка, да и для южан-итальянцев Париж – на севере, а стало быть, там непременно холодно. Что же говорить о России – для итальянцев это была страна снега, льда и мороза, в те времена они говорили о южном городе Одессе, прибавляя эпитет – «затертая во льдах».
Но и к нам в «полнощные», то есть северные, края заезжала итальянская комедия, правда, на закате своей жизни – труппы комедии дель арте впервые приехали в Россию в царствование Анны Иоанновны, играли при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Представления итальянцев оказали влияние на русское образованное общество того времени; видел их и наш русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков – один из создателей русского театра, называемый современниками отцом русского театра.
А великий Гольдони похоронен далеко-далеко от родной Венеции, где теперь на площади Кампо Сан Бартоломео стоит его памятник, на плечах и треуголке которого находят пристанище голуби, которых в Венеции великое множество. Не забыт и Гоцци – время все стирает, и хотя памятника в Венеции ему нет, пьесы или, как он их называл, фьябы для театра идут на сценах театров мира. На этих фьябах режиссеры оттачивают свое мастерство. Фьябы Гоцци – это фантастические пьесы-сказки, одинаково захватывающие и взрослых, и детей.
Комедия дель арте не исчезла совсем, это было бы просто невозможно. И дело не только в том, что до сих пор ее играют и часто, как мы убедились в этом выше, с большим успехом. Не только потому, что она послужила созданию таких великих, оказавших огромное влияние на мировой театр спектаклей, как «Принцесса Турандот» гениального Е. Вахтангова по сказке Гоцци. Или таких, ставших вехами в двадцатом столетии опер, как трагическая последняя опера великого итальянского композитора Дж. Пуччини «Турандот», замечательная опера С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» по сказке того же Гоцци.
Сохранился дух комедии дель арте – это прежде всего. С ней тесно связано художественное понятие театральности, то есть яркости, оригинальности, увлекательности сценической формы, отточенного актерского мастерства. Кроме того, а может быть, это и есть самое главное, что дала нам старинная комедия, искусство ее актеров оказало колоссальное влияние вообще на актерское искусство.
Комедия дель арте – абсолютное торжество актерского искусства.
Актер комедии дель арте – подвижный, ловкий, гибкий, сообразительный, остроумный импровизатор текста и действия, ведь ему самому, как мы убедились, приходилось сочинять текст, подавать реплики по ходу спектакля, он должен был уметь все. Танцевать, петь, жонглировать, делать акробатические трюки, фехтовать. Иными словами, обладать всем тем комплексом актерского мастерства, которое, собственно, и позволяет быть актером и без которого нельзя достигнуть тех высот, когда актер становится артистом, художником.
Все навыки актерского искусства, которые были выработаны и накоплены комедией дель арте, входили в фундамент любой театральной школы. Импровизация или импровизационное самочувствие актера стало одной из основ знаменитой системы Станиславского, об этом нам нужно будет обязательно поговорить. К этому надо добавить, что все персонажи комедии дель арте, в сущности, до сих пор живы – только существуют они под другими именами, иными обличьями, говорят на разных языках, в пьесах самых разных авторов, в театрах разных стран.
Три хрупкие грациозные трогательные фигурки – Арлекина, Пьеро и Коломбины, в тех или иных вариантах, маячат в воздухе театрального представления. Они являются главными героями практически всех пьес, конечно, появляясь в них в разных обличьях, иногда на первый взгляд совершенно неузнаваемых. Счастливый влюбленный Арлекин, несчастный Пьеро и Коломбина, вскружившая голову им обоим, но, кажется, по‐настоящему никого не способная полюбить. Она постоянно решает и взвешивает; пожалуй, она все же благосклонна удачливому и находчивому Арлекину, а над робким Пьеро смеется, иногда злобно, но, говоря откровенно, при этом никогда не лишает его надежды. Она, бессердечная, не хочет видеть, что за блеском Арлекина скрывается холодность, а за робостью Пьеро – горячее сердце. В этом вся она: очаровательная и расчетливая; что ж, таково ее амплуа. Чуть ниже мы поговорим о театральном значении этого слова, которое в переводе с французского означает «должность», «род занятий».
Рядом с ними на полке за стеклянной дверцей шкафа, которую с удовлетворением закрывает великий сыщик всех времен Эркюль Пуаро, стоят нежная Пьеретта, хитрый Пульчинелла и его, увы, неверная подружка. На самом деле персонажей в комедии дель арте было множество, более сотни, так сказать, на все случаи театральной жизни. Такое количество масок, конечно, давало комедии возможность разнообразить типы человеческих характеров и человеческих взаимоотношений. В чем‐то маски были родственны друг другу, а в чем‐то они разнились. Со временем их амплуа менялось, какие‐то черты характера утрачивались, что‐то приобреталось новое. Это понятно – существенно менялись условия жизни и взаимоотношения людей, соответственно более изощренной становилась актерская техника, и тем больше требовалось нюансов и оттенков, чтобы передать на импровизированной сцене все цвета жизни, пока, наконец, старинная комедия не переросла самое себя и не превратилась в тот театр, который мы знаем сегодня. Он остался все же больше, как памятник, а не как живое искусство.
В разных регионах Италии и в разных странах Европы персонажи назывались по‐разному. Пульчинелла – это, конечно, наш русский Петрушка, в Германии он Кашперль, Гансвурст, в Англии – Панч, во Франции – Полишинель, в Дании – господин Йоккель, в Голландии – Ян Клаассен и Ганс Пикельгеринг (в переводе – Ганс Копченая Селедка), в Турции – Карагёз (в переводе – черноглазый), в Польше – Кашпарек…
Пьеро – персонаж французского народного театра. Не сразу он приобрел тот образ печального влюбленного, к которому мы привыкли. Вообще эта троица – Пьеро, Арлекин и Коломбина – стала наиболее популярна из всех персонажей комедии; они как самостоятельные образы зажили своей жизнью в произведениях литературы, живописи, музыки, кино, эстрады.
Пронизана воздухом итальянской комедии масок гениальная фантасмагория немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Принцесса Брамбилла». В образе Пьеро выступал знаменитый русский артист эстрады Александр Вертинский; в поэтической комедии француза Эдмона Ростана «Два Пьеро, или Белый ужин» действуют Коломбина и, как видно из названия, два Пьеро, один из которых, на самом деле, конечно, Арлекин. Известны картина французского художника Антуана Ватто «Жиль в костюме Пьеро», так называемый двойной автопортрет Александра Яковлева и Василия Шухаева «Пьеро и Арлекин», картина Поля Сезанна «Арлекин и Пьеро», «Арлекин и дама» К. Сомова; гениальный музыкальный цикл австрийского композитора Арнольда Шенберга «Лунный Пьеро». Необыкновенно тонкая и, пожалуй, самая романтическая и вместе с тем глубоко человечная трактовка образа Пьеро дана в великом фильме французского режиссера Марселя Карне «Дети райка». История Пьеро, Арлекина и Коломбины нашла свое знаменитое воплощение в музыкальном театре в одной из самых знаменитых во всем мире опер – «Паяцы» Р. Леонкавалло. В музыкальной драме итальянского композитора старинная история взаимоотношений трех знаменитых масок предстала подлинной трагедией, в которой маски, как бы растворяясь на человеческом лице, открывают истинную сущность человеческих характеров, обнажают боль и трагедию человеческого сердца. В замечательном прологе оперы, вокальном монологе, в котором Паяц рассказывает о ремесле бродячих артистов, говорится о том, что театр и жизнь в их искусстве неразрывны. Ну и наконец песня, с которой начиналась слава нашей знаменитой певицы Аллы Пугачевой, называлась «Арлекино».
Трудно даже перечислить, какое количество художественных произведений, причем в самых разных искусствах, посвящено нашим героям, и в скольких из них просвечивают их образы. Чуть выше мы приводили в пример героев Гоголя – Ноздрёва и Чичикова. Но вот еще один пример из русской классической литературы. Вы, конечно, хорошо знаете великую комедию А. Грибоедова «Горе от ума». Вглядитесь пристальней, и вы увидите, что и в ней угадываются три знаменитых персонажа – в образах Софьи, Молчалина и Чацкого. Пьеро, Арлекин и Коломбина – их далекие предки. Если вы захотите, то сможете и в других героях комедии Грибоедова угадать иногда еле уловимые, а порой отчетливые черты старинных театральных масок-персонажей. Да вот взять хотя бы полковника Скалозуба – он дальний родственник все того же Капитана, а стало быть, состоит и в родстве с Ноздрёвым. Оба они как бы две интерпретации старинной маски. Грибоедов Капитана, так сказать, повысил в чине, сделав его полковником. А Гоголь просто-напросто выгнал его из полка. Лизонька, служанка в доме Фамусова и дальняя родственница Смеральдины из итальянской комедии, влюблена в буфетчика, как она называет его, Петрушу. Петруша – это так называемый внесценический персонаж, но какое же совпадение, вы подумайте – Петруша, Петрушка. Не был ли возлюбленный Лизоньки похож на Петрушку, если б появился нечаянно на сцене? Веселый, наверное, малый этот Лизонькин Петруша.
На русскую сцену Арлекина, Пьеро и Коломбину вывел впервые поэт Александр Блок. Они появились главными героями его знаменитой пьесы «Балаганчик». «Балаганчик» был гениально поставлен режиссером Вс. Мейерхольдом в декорациях Н. Сапунова в театре на Офицерской – так назывался театр великой русской актрисы В. Ф. Комиссаржевской – в 1906 году. Сам режиссер сыграл роль Пьеро. Есть знаменитый рисунок художника Н. П. Ульянова «Портрет Вс. Мейерхольда в костюме Пьеро». По этому портрету видно, что, конечно, образ Мейерхольда был мало похож на традиционную маску итальянской комедии, да и не следует понимать этот спектакль как попытку возродить на русской сцене старинную итальянскую комедию. Пьеса Блока была предельно современна и предельно иронична, эксцентрична, балаганчик был вполне русским изобретением, классическая тройчатка масок давала возможность чисто театральными приемами вскрыть, ужаснуться и осмеять болезненные явления эпохи. Современный театр, реалистический, психологический, дающий часто в то время как бы беспристрастную картину мира, и театр символистский, уводящий от реальной современной жизни, как казалось Блоку и Мейерхольду, этого сделать не могли. Отсюда и поворот к старинному театру, театру масок, к народному театральному действу – балагану. Через их художественные исторически выверенные приемы хотелось пробиться к сердцевине современных бед и несчастий. «Балаганчик» был поставлен в непростое время – спустя год после первой русской революции, в атмосфере общественных шатаний и духовного надлома эпохи. Следующий выход на русскую сцену Коломбины, Пьеро и Арлекина состоялся в спектакле-пантомиме «Шарф Коломбины», поставленном Вс. Мейерхольдом в Доме интермедий – был очень недолгое время такой театр в Санкт-Петербурге в начале двадцатого века – по пьесе австрийского писателя и драматурга А. Шницлера «Подвенечная фата Пьеретты».
В истории русского театра, актерского и режиссерского искусства двадцатого века этот спектакль является вехой. Под названием «Покрывало Пьеретты» пьеса-пантомима Шницлера была поставлена в Москве, в Свободном театре, режиссером А. Таировым, а роль Пьеретты исполнила молодая актриса А. Коонен. спектакль Таирова был совершенно другим, он был полемичным по отношению и к замыслу, и к собственно художественным исканиям Мейерхольда. От «Покрывала Пьеретты» берет свое начало знаменитый Камерный театр, театр выдающегося режиссера А. Таирова и великой русской трагической актрисы А. Коонен.
И другие маски итальянской комедии появлялись на русской сцене. Сначала в очень интересном, но не сделавшем большого события в театре спектакле Ф. Комиссаржевского «Принцесса Турандот» по одноименной пьесе, фьябе, Гоцци. И наконец, в одной из самых великих постановок двадцатого века – мы уже упоминали о ней и, конечно, не раз к ней еще вернемся, – гениальном спектакле Е. Вахтангова в Третьей студии МХТ, по той же пьесе Гоцци «Принцесса Турандот». Это спектакль, сделавший революцию в театре, в области сценической формы, в понимании актерского искусства. Вахтангов был одним из первых преподавателей системы Станиславского. Сам Станиславский считал, что никто не смог так понять суть его исканий и режиссерских, и педагогических, как Вахтангов. Вахтангов входит в число величайших русских режиссеров двадцатого века – Станиславский, Немирович-Данченко, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров.
Фарфоровые фигурки, взаимоотношения которых позволили Пуаро раскрыть запутанное дело и найти наконец преступника, дали нам возможность представить себе, что такое театр по своей сути, что прежде всего это великое искусство актера. Хитросплетения человеческих взаимоотношений, разнообразных ситуаций, положений, столкновение характеров, стремительное действие и острая борьба на сцене – весь этот пестрый и в то же время чрезвычайно упорядоченный калейдоскоп событий, печальных и смешных, трагических и забавных, фантастических и немыслимых, представляет собой объемный и, что важно, живой, на глазах зрителя возникающий образ мира.
Один из самых известных театров всех времен и народов, театр, в котором служил актером и которому поставлял пьесы великий драматург Вильям Шекспир, так и назывался – «Глобус». Среди героев комедии Шекспира «Как вам это понравится» есть очень интересный персонаж – некоторые исследователи творчества Шекспира считают его чуть ли не прообразом Гамлета – Жак-меланхолик, который чем‐то похож и на нашего старого знакомого грустного Пьеро. Жак-меланхолик произносит слова, ставшие поговоркой уже в его времена: «Весь мир – театр, и люди в нем актеры». В пьесе «Венецианский купец» один из ее героев, Антонио, произносит, обращаясь к собеседнику, похожие слова: «я мир считаю, чем он есть, мир – сцена, где у всякого есть роль, моя – грустна…» Интересно, что о мире как о театральном представлении больше всего говорят грустные герои. На фронтоне театра «Глобус» были начертаны слова: «Весь мир лицедействует», похожее высказывание находят у римского поэта и сенатора Петрония Арбитра, автора знаменитого романа «Сатирикон». Петроний был пессимистом и циником, он глубоко презирал общество своего времени, вконец разложившееся, пресмыкающееся перед сумасшедшим деспотом, императором Нероном, в таком отношении к действительности он был прав, и говоря, что весь мир лицедействует, он утверждал тем самым, что весь мир – лжет.
Что ж, наверное, в этом есть доля правды.
Но какое отношение имеет этот афоризм, эта скорбная, хоть и верная мысль к театральному искусству и искусству актера, в частности? Он имеет отношение к миру – который лицедействует, к людям – которые лгут, принимают разные личины, придумывают и играют, часто плохо, какие‐то роли, для того, чтобы скрыть свою подлинную внутреннюю жизнь, свои мысли и намерения. Мысль Петрония, в тех или иных вариантах (а их множество), подхваченная веками, – мысль грустная, ироничная, она говорит о фальши, царствующей в мире. А в театре, настоящем театре – лжи нет, напротив того, в нем правда жизни и правда о мире. Театр есть мир, он отражает жизнь, он – зеркало, прямое, вогнутое, выпуклое, но никогда не кривое, он – увеличительное стекло, как сказал Маяковский, и он дает различные, но предельно правдивые отражения жизни. И все эти отражения возможны только благодаря искусству актера.
Есть актеры; есть лицедеи.
Актер – живет на сцене; лицедей – притворяется, что живет.
Поблагодарим нашего героя великого сыщика Эркюля Пуаро и его фарфоровых друзей за то, что они дали нам возможность уяснить себе некоторые весьма важные для театра вещи. И прежде всего – это следующее.
Сущность театра, его природа, то, что, собственно, и делает его театром, – это всегда действие человека в совершенно определенных обстоятельствах, это цепочка событий, через которые проходит человек, как через череду испытаний: пример тому – юный принц Тамино в умнейшей опере Моцарта «Волшебная флейта». По ходу сквозного действия, то есть борьбы за поставленную цель, которую ведут персонажи спектакля, сталкиваясь друг с другом, рождается сложная система взаимоотношений, которая зависит от задач, встающих перед героями. И неважно, какой это театр – commedia dell’arte или современная драма.
Взаимоотношения людей и внутренний мир человека были в античной трагедии, из которой, как из зерна, вырос современный театр, такими же, как сегодня.
Для древнего грека мир был так же сложен, как наш современный мир для нас.
Душа человека не изменилась, а загадка человека осталась – именно это есть предмет исследования любого искусства, а искусства театра особенно.
Только в театре человек познает себя, так сказать, через себя самого, через образ живого человека, сию минуту живущего на сцене (это не дано другим искусствам), через перевоплощение в другой характер, оставаясь при этом самим собой. ведь актер – это живой человек, и в этом уникальность театра. Мы с вами, надеюсь, увидим, что все в театре существует только из‐за этого и только ради этого. Для этого существует весь сложный и многообразный театральный процесс, вся невероятная театральная махина – об этом мы поговорим далее.
Ну что ж – вперед, читатель, туда, в мир превращений и перевоплощений.
Корифейка третьего разряда и заговор против императора
В замечательном романе русского писателя Марка Алданова «Заговор», одном из тех вообще очень немногих русских исторических романов, которыми можно зачитываться, так захватывающе интересна бывает их фабула (при том что читатель, безусловно, может доверять автору даже в самых мелочах), речь идет о смутном, тревожном, ставшем по своим ужасным последствиям роковым для России времени царствования императора Павла Первого. О последних днях, часах, минутах этого загадочного, преданного ближайшими соратниками, оклеветанного, несправедливо осужденного современниками, неумно осмеянного потомками, но на самом деле столь же несчастного, сколь и благородного, русского государя. Он был рыцарем по характеру – великодушному, отзывчивому к чужим несчастьям; был также рыцарем по званию – обладал титулом великого магистра Мальтийского рыцарского ордена. Собственно, Павел спас этот старейший рыцарский орден, ведущий свое начало от крестовых походов, орден св. Иоанна Иерусалимского, от окончательной гибели и полного забвения; именно благодаря императору Павлу орден существует до сих пор и даже имеет статус независимого суверенного государства. Драма императора Павла Петровича началась, когда он был еще восьмилетним ребенком. Он был сыном Петра III, свергнутого и убитого, если не собственно по приказу – она такого приказа никогда не отдавала, – то по негласному желанию матери Павла, будущей императрицы Екатерины Великой. невысказанное желание очень легко угадали, очень быстро и очень неловко исполнили люди, устроившие государственный переворот 1762 года, предприятие, получившее в русской истории и литературе название «Петербургского действа». Драма Павла – это трагический, поистине шекспировский сюжет, – не случайно Павла прозвали русским Гамлетом. Он разыгрывался на российской и, разумеется, на мировой сцене, поскольку Россия в том, что потом так красиво назовут «европейским концертом держав», была довольно часто первой скрипкой, и никогда последней, все четыре года его неудачного, короткого, но по своим последствиям для всей русской истории исключительно важного царствования. Образ его стал легендарным еще при жизни, вынужденно бездейственной, лишь в последние четыре короткие года царствования оживленной поспешной лихорадочной деятельностью; жизни загадочной, с малыми радостями, немалыми печалями, полной тревог, мистических откровений, ужасных предчувствий, от малых лет предопределенной несчастному концу.
По Петербургу ходила легенда, кажется, им самим впервые рассказанная, что будто бы во время одной из вечерних прогулок показался ему призрак Петра Первого, его великого деда, и молвил внуку: «Бедный, бедный Павел!» Знать и высшие государственные чиновники раболепствовали перед Павлом и в силу этого ненавидели его; помещики его не любили, побаивались, опасаясь реформ крепостного права; недисциплинированные, распущенные и избалованные предыдущим царствованием офицеры гвардии, всегда в русской армии вызывавшие неприязнь у простых армейских, также ненавидели Павла. любили его крестьяне – он сделал для них как минимум две вещи, которые они не могли не оценить: разрешил крепостным крестьянам присягать, и они впервые увидели себя такими же подданными, как и представители других сословий; он сократил работу крестьян на помещика до трех дней в неделю, тем самым ограничив ярмо барщины, и за это они его благословили.
Герой романа «Заговор» – молодой человек по имени Юлий Штааль, офицер блестящего корпуса кавалергардов, основанного Павлом в 1799 году, стало быть, в то время еще обязательно и мальтийский рыцарь. Служить в кавалергардах было привилегией; молодой человек попал в корпус благодаря своему покровителю, выдающемуся русскому государственному деятелю времен Екатерины Великой и Павла Первого канцлеру А. А. Безбородко; посвятил же его в рыцари сам император. Тем не менее происхождения герой романа был, как сообщает автор, темного, не русского, как говорили раньше, инородец; был он сиротой, не помнящим своих родителей, и не знал о них ничего. Но он вырос в России, в России был воспитан, получил образование, и очень недурное, в Шкловском благородном училище графа Зорича (потом из него вышел Первый Московский кадетский корпус) и пришел бы в изумление и негодование, если бы кому‐нибудь из его друзей, которых, впрочем, у него было не очень много, или однополчан – в кавалергардах служили представители самых знатных российских семей – вдруг пришло бы в голову объявить его нерусским; никем иным, кроме как русским, он себя ощущать просто не мог, считал Россию своей родиной и любил ее, как полагается всем любить свое отечество. Может быть, даже немножко по‐иному – к его любви не могло не примешиваться еще и чувство благодарности.
Случилось так, что он неожиданно, поначалу против воли оказался причастным к разрастающемуся в Петербурге заговору против императора: скоро он примет в нем самое активное участие. О заговоре в Петербурге знали все. Знал о нем и Павел, и в заговоре участвовал его сын – будущий император Александр Первый. Во главе заговора стоял самый близкий к Павлу человек, граф Пален – он убедил императора, что все нити заговора в его руках; Павел поверил – и погиб. И, правда, о заговоре говорили почти открыто – это одна из самых непонятных до сих пор странностей, как его называют, дела 11 марта 1801 года.
Молодой человек отправляется на встречу со своими приятелями в Петербургский Каменный театр, или, как его еще тогда называли, Большой Каменный театр. Он не догадывается, что именно за кулисами этого театра назначают встречи самые ответственные участники заговора, его руководители, среди которых был и сын Павла – будущий император Александр I. Из названия театра видно, что театральные здания, сложенные из камня, были в то время большой редкостью, строили все больше деревянные, они часто горели, а о балаганах из досок, которые воздвигали на улицах и площадях Петербурга для народных увеселений, и говорить нечего, не избег этой участи, впрочем, и сам Каменный театр – и он горел и отстраивался.
Молодой человек спешил не на встречу заговорщиков, о которой он, конечно, даже и не подозревал – слишком мала была его роль в предстоящем деле, – но и не на спектакль, который в то время начинался по‐нашему очень рано – иногда в четыре часа дня и продолжался довольно долго (помимо основной пьесы всегда был дивертисмент, то есть выступление артистов разных жанров в начале вечера и водевиль в конце), шел он скорым шагом на репетицию, причем самую обыкновенную, рабочую, рядовую.
В отличие от руководителей заговора, тайная цель его посещения театра была вполне романтическая, он надеялся за кулисами театра увидеть знаменитую французскую актрису Шевалье, по которой петербургская публика, особенно молодая, сходила с ума и которая выступала на сцене Каменного театра. Молва приписывала ей в жизни роль не очень благовидную, многие считали ее, не без оснований, шпионкой Наполеона Бонапарта, в то время еще Первого консула Французской республики.
Да, в ту драматическую, неверную, изменчивую и изменническую эпоху определенная часть высшего петербуржского общества, к которой, льстя самому себе, причислял собственную весьма еще незначительную персону молодой человек и которая, по словам автора романа, включала в себя светскую «золотую молодежь» от семнадцати до семидесяти лет, имела обыкновение назначать встречи в театрах на репетициях. Может быть, как раз поэтому заговорщики считали театральные кулисы одним из самых безопасных мест для своих конспиративных свиданий, ведь за кулисами театра собиралась в общем‐то вполне безобидная в политическом смысле компания. При Екатерине Великой «золотая молодежь», в которую входили в том числе и офицеры гвардейских корпусов, шумела, бесчинствовала в открытую. На вещи подобного рода императрица, всем своим счастьем обязанная гвардии, возведшей ее на престол, то есть цвету русского дворянства, смотрела снисходительно, склонна была не замечать их. Когда же не замечать совсем уж было невозможно – так велики были «шалости» этой «золотой молодежи», то обычно, повздыхав, а бывало, что и поплакав, государыня прощала великосветским «шалунам» их проступки, впрочем, совсем не всегда безобидные, а иногда даже довольно безобразные. Совсем не так стало при ее сыне и преемнике Павле – он повсюду насаждал дисциплину, часто довольно жестокими методами. При нем великосветские хулиганы затаились, но продолжали свои подвиги исподтишка. Быть своими в мире театра означало для них иметь свободный вход за кулисы; присутствовать в качестве «знатоков» на репетициях было их привилегией, за которую они между собой отчаянно боролись. Представьте себе, что должны были чувствовать актеры на репетициях, когда в зале, а то и на самой сцене все время находились посторонние театру люди, да еще громко высказывающие свои не очень умные замечания.
Просто так за кулисы и тем более на репетицию, конечно, никого не пускали. Но что могли сделать актеры, когда даже дирекция театра заискивала перед богатыми и облеченными властью или близко стоящими к ней людьми. Во все века это была участь любого искусства, любого художника – так или иначе зависеть от кошелька или от людей власть имущих. Но всегда были таланты, которые не подчинялись этой власти – денег или административного влияния, выстаивали в борьбе с ними, давали тем самым пример остальным и вели их за собой. О некоторых из них сейчас и пойдет речь.
Восемнадцатый век был временем, когда в России, проросшей из Московского царства и очень быстро ставшей великой империей при Петре Первом, начала расцветать и в конце века расцвела вполне та своеобразная русская культура, которая неожиданно на глазах у изумленного мира произвела необыкновенные плоды. Она стала по‐настоящему великой в последующем столетии и, несмотря ни на что, остается таковой до сих пор. Высокие образцы европейской и мировой культуры были привиты к русскому древу; все это дало необыкновенные результаты, Россия очень быстро становится великой культурной державой; поэзия, живопись, литература, музыка и, наконец, театр становятся достоянием национальной культуры. В этом удивительном восемнадцатом веке отчетливо проявилось одно из необыкновенных свойств России – становиться матерью, а не мачехой приехавшим трудиться на ниве ее культуры иностранцам. Многие из европейцев, представителей самых разных наук, искусств и ремесел, с радостью работали в России – эта молодая страна давала им огромный простор для культурной, научной, творческой, военной деятельности. Были среди них итальянцы, греки, немцы, голландцы, французы, датчане, англичане, шотландцы, сербы, поляки, швейцарцы, кого только не было. И, что поразительно, все они становились русскими и любили Россию какой‐то особой любовью, свойственной, может быть, только иностранцам, прижившимся в России, или приемным детям, каковыми они, в сущности, как наш молодой человек, и являлись. Поначалу они не все понимали и не все принимали в российской жизни, в новом своем отечестве, многое их удивляло, даже, бывало, отталкивало, но как‐то очень быстро и незаметно они втягивались в русский быт, становились в нем своими, привязывались к новой родине навсегда. И дети их становились во всем уж русскими.
Пушкин в «Капитанской дочке» дает нам комический или, если угодно, трагикомический пример такого «обрусения» иностранца – показав в своей повести трогательно-смешную фигуру мосье Бопре, которого выписали из Москвы для обучения Петруши Гринёва вместе с годовым запасом вина и прованского масла. И даже вернувшись, что было далеко не всегда, на свою историческую родину, они не вполне могли перестать думать о России как о родной стране – так прикипали они к ней сердцем, а для нас оставались и остаются по сию пору деятелями русской культуры. Многие же из тех, кто оставался в России, стали и называть себя по‐русски – архитектор Бартоломео Растрелли стал Варфоломеем Варфоломеичем, а, например, итальянский и русский композитор Катерино Альбертович Кавос прозывался в народе Катериной Альбертовичем и нисколько этим не бывал удручен. Он написал одну из первых русских опер «Иван Сусанин». Опера Глинки, которую мы знаем под этим названием, на самом деле называлась «Жизнь за царя» и была написана спустя три десятка лет после Кавоса. Поначалу только имена звучали на русский манер, а потом и души становились русскими – таких примеров много.
На Васильевском острове или острову, как тогда произносили, жили преимущественно немцы. Не все они были деятелями русской культуры, но многие из них стали первоклассными русскими ремесленниками, купцами, врачами, их жизнь и быт чудесно описал в своем романе «Островитяне» Н. С. Лесков.
Возьмем, например, имена самых известных великих русских архитекторов восемнадцатого, начала девятнадцатого столетий, построивших фантастический Санкт-Петербург, город, которому в мире равных нет. Это будут имена Трезини и Земцова, Растрелли и Ухтомского, Старова и Кваренги, Воронихина, Захарова и Жана Тома де Томона, Стасова и Росси, Баженова, Бренна и Камерона, легко можно продолжить список дальше.
Большой Каменный театр в Петербурге был построен по проекту Антонио Ринальди. В России строили и лучше и, что типично российская черта, грандиознее, чем в Европе. Нет нигде в мире дворцов, подобных Зимнему дворцу в Петербурге, что уж говорить о дворцах летних, то есть на самом деле всего лишь летних дачах, таких, как Екатерининский дворец в Царском селе, как Петергоф с его каскадами фонтанов; а Павловск, а Александровский дворец – нет, ничего подобного в мире создано не было. Вот и Каменный театр был самым большим театром в Европе – во времена Штааля его зала вмещала две тысячи человек. Гораздо позже, после реконструкции, которая была осуществлена русским архитектором Альбертом Катериновичем Кавосом – да, да, сыном того самого композитора Кавоса – театр вмещал уже три тысячи зрителей. Потому его и называли Большой. Театр просуществовал сто два года, с 1784 по 1886 год, был разобран и перестроен под Санкт-Петербургскую консерваторию. Большой Каменный театр стал первым постоянным театральным зданием в Петербурге.
Когда наш молодой человек попал на сцену театра, то он прежде всего был поражен тем, что по сравнению с ней зрительный зал показался ему маленьким. Как и многие другие, он думал, что зрительская часть – фойе, зал, ярусы, кулуары в театральном здании и есть наибольшая его часть.
Впервые попав за кулисы, он увидел всю огромную, отлично слаженную работу большого количества людей, трудящихся над превращением сцены в художественно оформленное сценическое пространство для постановки спектакля.
Сначала он спустился под сцену – это помещение называется трюм, как на корабле. Он увидел огромные пустые пространства позади сцены; над ним куда‐то вверх уходили канаты; рядом крутились громадные зубчатые колеса, видимо, подъемные механизмы; поднявшись на сцену, он боялся оступиться и провалиться в какой‐нибудь открытый ненароком люк; наверху высоко над ним висела, как объяснил ему старый актер, «поддуга» (сейчас говорят и пишут почему‐то «падуга»), изображавшая «волшебные чертоги Амуровы», но в ту минуту показавшаяся молодому человеку просто мазней, оптический обман сцены – издалека красиво, вблизи и не поймешь ничего; вокруг него стояли огромные деревянные рамы; вдруг одна из них двинулась по щели в полу сцены, планшете, как говорят сейчас, и чуть не наехала на него.
Падуга – это холст, подвешенный под длинным брусом – штанкетой или, как раньше говорили, дугой – отсюда и старинное слово «поддуга». Этот холст с изображением, а иногда просто черного цвета закрывает от зрителя верхнюю часть механизмов сцены. Первая, видимая зрителем падуга, обычно красиво расписанная и постоянно висящая в виде поднятого занавеса на первом плане, называлась и называется сейчас Арлекином – именно эту фигуру из итальянской комедии масок часто изображали на ней – отсюда и ее название, сохранившееся до сей поры. Но ничего этого, конечно, молодой человек не знал – ведь он был всего лишь зрителем театра, видел сцену из глубины зрительного зала, а настоящую, напряженную, невидимую зрителю работу до сих пор себе не представлял. А когда увидел, естественно, мало что в ней понял.
На самом деле в таком театре, которым был в то время Большой Каменный театр, постановочная часть стояла для того времени очень высоко – с помощью театральной машинерии можно было добиваться необыкновенных сценических эффектов. Хотя основной принцип работы театрального механизма был сам по себе не такой уж и сложный – это был, да и остался до сих пор, прежде всего ворот, да, хорошо всем знакомый ворот, посредством которого и сегодня в деревне достают воду из колодца. Конечно, на современной сцене все вороты, блоки, шкивы и другие приспособления движутся в основном силой электричества, но в те времена все движение и все перемещение декораций вверх-вниз, направо-налево, вокруг своей оси и т. д. осуществлялось мускульной силой человека.
Совершенно ошеломленный и отчасти даже слегка напуганный увиденным, особенно непонятной Нептуновой машиной, молодой человек спешно покидает сцену и пробирается в театральный коридор. О предназначении Нептуновой машины он спросить не решился, да и нам спросить некого, может быть, на ней спускался на сцену бог Нептун, а потом при появлении его начинали бить фонтаны – вполне возможно, что натурально водяные. А может быть, фонтаны были не настоящие, а пиротехнические, во всяком случае фонтаны были бы вполне уместны – ведь Нептун все‐таки водное божество. Нептунова машина была установлена наверху под самым потолком сцены, который называется колосниками, поскольку они представляют собой решетку, как в топках или печах; решетчатая система колосников позволяет поднимать и опускать декорации на разных планах сцены. По колосникам можно ходить по специальным трапам, и это приходится делать работникам сцены, их называют – верховые, но делать это непривычному человеку страшновато, сквозь решетку далеко-далеко внизу видна сцена и на ней маленькие фигурки актеров, ступаешь осторожно, как будто того и гляди провалишься. Но, разумеется, вся эта конструкция сделана крепко и регулярно проверяется на прочность.
Театральная машинерия и сама сцена, между прочим, – объект повышенной опасности и требуют осторожности и внимания. Вот почему на сцене никогда не должно быть посторонних людей – особенно в тот момент, когда на ней идут перестановки картин, то есть смена декораций. Часто это происходит в темноте, называется чистой переменой, и незнающий человек может подвергнуться реальной опасности, провалиться в люк или получить удар опускающейся штанкетой – так называется механизм для подъема и спуска декораций. (Когда мы говорили о падуге, мы упомянули штанкету.) Сейчас она делается из металлической трубы, а иногда, по так называемой американской системе, из двух труб, намертво скрепленных перемычками, чтобы можно было увеличить вес подымаемых конструкций, но раньше она была просто деревянным брусом, склеенным из досок, потом еще схваченных металлическими скобами. Вот почему, когда бесшумно опускаются и поднимаются штанкеты, на сцене мы всегда слышим возгласы – «головы, головы!», лучше, конечно, не во время спектакля.
Наконец наш герой пробирается в коридор и видит в нем еще одно «чудо» – неподвижно сидящую на табурете женщину-великаншу – да, и такое показывали в театре перед спектаклем, чтобы развлечь публику. Вокруг нее столпились «зефиры» – артисты, изображающие в спектакле хор зефиров. Мимо легкой балетной походкой проходит на сцену хор стройных нимф. Среди них есть знакомая нашего молодого человека, но, погруженный в свои мысли, он не замечает ее, скромную корифейку третьего разряда, ведь его мысли заняты несравненной Шевалье.
Что такое – корифейка? Мы знаем слово «корифей» – оно означает человека, достигшего в своем деле выдающихся успехов. В театре Древней Греции корифей – руководитель хора, он выступал в качестве посредника между хором и главными действующими лицами. В балете звание корифеек или корифеев имели артистки и артисты кордебалета, занимавшие первые места в группе танцующих, танцевавшие впереди линии кордебалета, иногда исполнявшие даже небольшие соло; остальных называли просто фигурантами и фигурантками. Как видно, корифейки и, судя по всему, корифеи ценились согласно разряду – третий был самый низкий. Но само по себе назначение в корифейки для молоденькой балерины было совсем неплохим началом. Гораздо позже, в двадцатом веке, великая русская балерина Тамара Карсавина напишет в воспоминаниях о том, какую радость она испытала, когда прочла приказ о зачислении ее в труппу театра – речь идет о знаменитом на весь мир балете Мариинского театра – на должность корифейки.
Тут как будто бы возникает вопрос: если знакомая нашего молодого человека была корифейкой, то есть танцовщицей кордебалета, то почему она выступала в хоре нимф – ведь артисты хора поют? Ответ очень простой – артист все должен был уметь делать на сцене. Петь, танцевать, говорить. Театральных школ в нынешнем понимании тогда еще не было, артистов готовили из мальчиков и девочек при театре.
Набирали, бывало, из крепостных – и далеко не всегда они получали вольность от своих хозяев. Наш великий актер Михаил Семенович Щепкин был еще крепостным, когда поступил на сцену, и получил вольную только через двадцать с лишним лет, будучи уже знаменитым артистом, для которого драматурги специально писали пьесы! Вы подумайте – знаменитый актер и крепостной, которого можно было в любой момент по прихоти хозяина-помещика продать, и так двадцать с лишним лет! А скольким актерам крепостных театров так никогда и не удалось получить вольную. Сколько было талантов погублено в прямом смысле этого слова – запорото, доведено до самоубийства, сослано в дальние глухие углы. История русского крепостного театра, история русских крепостных художников – это особая история театра и искусства, пожалуй, единственная в мире.
Прежде всего набранных при театре детей учили танцевать, потом петь, а уж если с танцем и пением дело шло не очень, они поступали… в драматические артисты. Хотя, надо заметить, что самого понятия «артист драмы», как сегодня, тогда, в сущности, еще не было. Не существовало, так сказать, узкой специализации актера. Сегодня тоже актер должен уметь все. Мы знаем, например, что в мюзикле, очень популярном нынче жанре, не всегда, впрочем, правильно понимаемом (мы еще об этом скажем), артисты и поют, и танцуют, и говорят. Но в те времена артисты должны были обязательно уметь петь оперу, да еще в самые оперные времена, когда композиторы как нарочно изощрялись в вокальных трудностях, порою в ущерб и смыслу, и художественному вкусу, когда владеть вокальным голосом необходимо было в совершенстве – так сложны были партии, написанные композиторами. Вообще опера и балет стояли тогда в общественном мнении несколько выше собственно драматического театра.
Но вот репетиция начинается, на сцене наконец установлены декорации, представляющие волшебные чертоги Амуровы, «поддуги» или падуги изображают не очень, как замечает автор, удачно звездное небо, и все незваные гости театра рассаживаются кто в зале, а кто по углам сцены. Репетируют сочинение господина Богдановича «Радость Душеньки», лирическую комедию в одном акте, как значилось в афише спектакля: «Последуемую балетом», о чем сообщает Штаалю в романе старичок актер, играющий в спектакле роль бога Бахуса. Лирическая – это означало, что спектакль будет непременно с музыкой и пением. Что же касается великанши, которую с таким интересом разглядывали зефиры, то ее, вероятно, покажут зрителю перед спектаклем, в числе прочих любопытных и не очень любопытных номеров.
Автор «Душеньки» И. Ф. Богданович был оригинальной фигурой даже среди поэтов и драматургов последней четверти восемнадцатого века, персонажей, в общем‐то, беспокойных и склонных к творческой ревности к собратьям по поэтическому поприщу.
В те времена можно было быть поэтом, но называться поэтом было не совсем прилично – это означало не иметь никакого занятия и звания, а без звания в те времена человеку деваться было некуда: поэзия профессией не была и делом не считалась. Быть поэтом в России и не иметь никакого чина было просто опасно – об этом говорит трагическая судьба одного из наших самых первых литераторов, человека исключительно образованного, бесконечно много сделавшего для русской литературы, реформатора российского стихосложения, основоположника, в сущности, русского классицизма, великого труженика на литературном поприще поэта и философа Василия Тредиаковского. Он был жестоко избит кабинет-министром Анны Иоанновны Волынским за отказ писать стихи для свадьбы царских шутов в так называемом Ледяном доме.
Даже наш великий поэт Державин не очень‐то любил, когда его называли поэтом, пусть и великим. Гораздо больше ему нравилось звание сенатора или министра юстиции; он и был сенатором и министром.
Богданович тоже служил, сначала в Иностранной коллегии, секретарем посольства при дворе юного тогда саксонского курфюрста Фридриха-Августа III. Да, да, внука того самого Августа I Сильного, который получил от алхимика, ставшего гончаром, Иоганна Бёттгера фарфор вместо золота и был этому немало доволен. Внук стал с помощью Наполеона не просто курфюрстом, а саксонским королем Фридрихом-Августом I, впрочем, курфюрсты тогда уже никому не были нужны – императоры больше не избирались. Покинув двор будущего саксонского короля, Богданович служил в Российском государственном архиве. И всю жизнь писал стихи.
Между делом, как будто бы для забавы, он написал прелестную шутливую лирическую повесть в стихах «Душенька», которая принесла ему всероссийскую славу. Это было вольное переложение или, как тогда говорили, парафразис, поэмы французского поэта и баснописца Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», который в свою очередь позаимствовал сюжет, данный в виде вставной новеллы в знаменитом романе «Золотой осел» древнеримского писателя Апулея. Это о нем сказано в «Евгении Онегине» Пушкина в качестве одной из характеристик главного героя: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». Читать роман веселого Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» пушкинскому герою было куда занятней, чем изучать строгие речи умнейшего политического деятеля и оратора Древнего Рима периода падающей в пропасть республики. Но еще более занятным оказалось для современников читать повесть в стихах Богдановича, написанную простым, легким, изящным русским языком, языком, которого до сих пор еще в литературе не было, при этом весьма близким к разговорной речи. А это выгодно отличало автора «Душеньки» от многих других авторов поэтических произведений, неукоснительно следующих канонам, то есть правилам, классицизма, пришедшим к нам прежде всего из Франции и державшимся в своих одах – а это был в то время излюбленный поэтический жанр – несколько тяжеловесного стиля так называемой ученой поэзии, язык которой был еще очень привязан к церковнославянскому языку.
Психея в переводе с греческого означает «душа».
Богданович сделал, может быть, и сам того не ведая, абсолютно гениальную вещь – он перевел имя героини греческого мифа русским словом «душенька». И она предстала перед читателями больше прелестной русской девицей, чем изваянной из мрамора героиней древнегреческих сказаний. Поэма стала невероятно популярной, ею зачитывались все круги тогдашнего общества, поэта называли гениальным, что было, конечно, некоторым преувеличением, но все же, говоря откровенно, не таким уж и большим – среди его почитателей была сама императрица Екатерина Великая. Она и предложила автору написать пьесу для театра на основе его поэмы, что он с готовностью и сделал, назвав пьесу «Радость Душеньки». Вот на репетицию этой самой «Радости Душеньки» и пришли Юлий Штааль и его светские приятели.
Ну что ж, не будем уподобляться светским бездельникам, не пойдем с ними на репетицию – не будем мешать актерам, им и без нас трудно сосредоточиться на своих ролях, в присутствии посторонних и мало чего понимающих в работе театра личностей.
Самым большим событием этого занятного театрального дня, впрочем, не совсем оцененным Штаалем и его легкомысленными приятелями-повесами, была встреча с великим русским актером, а также театральным педагогом, режиссером, драматургом И. А. Дмитревским. Отметили они только, что старый актер выглядел настоящим вельможей, однако к внушительности примешивалось у него и изящество. «Ну прямо маркиз», – восхищенно говорит о нем один из приятелей Штааля. «Да помаркизестей любого маркиза будет», – справедливо возражает ему другой.
Пока идет репетиция, поговорим немного об этом во многих отношениях замечательном русском человеке и о русском театре того времени.
Иван Афанасьевич Дмитревский был, как и его старший товарищ Фёдор Григорьевич Волков основателем профессионального и, что очень важно, постоянно действующего государственного, по тем временам значит – императорского, русского театра.
И Фёдор Григорьевич Волков, и его младший товарищ Дмитревский представляли собой прекрасный тип того русского человека, который, если поставит перед собой благородную цель, то все сделает для того, чтобы ее достигнуть.
Фёдор Григорьевич Волков был необыкновенно одаренным человеком – актер, режиссер, драматург, переводчик, поэт, живописец, скульптор, музыкант, композитор и даже прекрасный резчик по дереву. Свидетельства этого его ремесла сохранились до сих пор.
Одной из достопримечательностей города Ярославля, которую и сегодня с гордостью показывают путешественникам, является церковь Николы Надеина, один из первых каменных храмов, возведенных на Руси после прекращения долгого времени Смуты. Церковь построена в 1620 году в честь св. Николая Чудотворца, епископа Миры Ликийской, города в малой Азии.
На Руси его прозвали Николаем Угодником Божиим и почитали повсеместно, считали чуть ли не самым главным святым, мужицким Богом называли. В самом деле, у нас к великому святому отношение особенно трогательное, почти детское, святителя чтут на Руси едва ли не превыше всех других святых, народом создана была легенда, что Никола мог бы Богом стать, да не захотел. Два праздника – Никола зимний, Холодный, Никола вешний, Травник; оба тесно связаны с русской крестьянской жизнью. Так получилось, что епископ из Малой Азии, чьи мощи были насильственно вывезены, а правильнее сказать, просто-напросто похищены в одиннадцатом веке итальянскими купцами из ограбленного ими монастыря города Миры и перевезены в итальянский город Бари, стал столь почитаемым на Руси, таким типично русским святым – может быть, это случилось потому, что невероятная доброта св. Николая – не случайно в западной традиции он покровитель детей – получила чистый отзвук в душе русского народа.
Строителем церкви был простой русский человек, ярославский купец Надея Светешников – отсюда и пошло название: церковь Николы Надеина. Спустя сто с лишним лет от основания храма, прихожанином его стал купеческий сын, будущий великий русский актер Фёдор Волков. Именно ему народная молва, как будто не без оснований, приписывает создание великолепного деревянного резного иконостаса. Что касается алтарной преграды, сооруженной в 1752 году, то она выполнена по рисункам и при участии Фёдора Волкова. Царские врата, то есть центральные двери, ведущие в алтарь, очень необычны – они представляют собой… театральную сцену, обрамленную драпировками.
Волкову было двадцать три года, а его товарищу Дмитревскому восемнадцать лет. Уже два года, как основал Волков театр в Ярославле в 1750 году. Неизвестно, как сложилась бы судьба молодого театра. Волков все свои средства, оставшиеся после того, как он отдал братьям в управление заводы, полученные им в наследство, потратил на театр, а это предприятие, во все времена весьма дорогостоящее и, увы, не всегда приносящее прибыль, было бы хоть рентабельным, чтобы можно было продолжать дело, – и то хорошо.
Вообще, надо сказать, что наш первый актер по натуре своей был бессребреником, даром, что купеческий сын. Для себя он ничего не хотел. Впоследствии отказался даже от ордена Андрея Первозванного, который намеревалась, было, дать ему императрица Екатерина Великая, многим ему обязанная лично. Говорят, что Волков, человек большого ума, сыграл весьма выдающуюся роль в перевороте 1762 года, в так называемом Петербургском действе, в результате которого Екатерина безо всяких на то законных прав и оснований взошла на русский трон. Просил он только денег для театра, а для себя лишь малого – жить без нужды и все время отдавать театру, то есть любимой работе. Как видим, христианская этика была для великого актера не чуждой; он не хотел для себя ничего лишнего, но и отлично понимал духовную опасность нищеты, а превыше всего ставил труд. Умер Волков рано – ему было всего тридцать четыре года, в 1763 году в Москве, смертельно захворав на представлении сочиненного и поставленного им грандиозного и первого в России массового театрализованного действа, вошедшего в историю под названием «Торжествующая Минерва», посвященного, само собой разумеется, Екатерине Великой.
Это очень печально, но где находится могила его – точно неизвестно; одно время считалось, что первого русского актера похоронили в Спасо-Андрониковом монастыре на реке Яузе, там как будто бы там была в советское время установлена памятная плита, конечно, без креста. По другой версии, похоронили первого русского актера в Златоустинском монастыре, одном из самых древних в Москве, но в советское время монастырь был уничтожен, просто стерт с лица земли. На месте собора поставлены были в тридцатых годах прошлого века конструктивистские жилые дома, в которых, словно в насмешку над прежней обителью и в благодарность разрушителям самого древнего московского монастыря, поселили граждан, лично причастных к уничтожению древней святыни.
Там или не там находится последнее пристанище великого человека, создателя русского театра, но памятник он воздвиг себе бессмертный и именно рукотворный – русский театр.
В России всегда много значил случай.
Представьте себе, вдруг – заметим, что это словечко «вдруг» много значит в литературе и особенно в театре – из Санкт-Петербурга в Ярославль, с государственными делами, совершенно с театром не связанными, проверял, наверное, что‐нибудь, инспектировал, разведывал, прибывает некий граф Игнатьев. И, пораженный, видит что‐то небывалое: в Ярославле – театр, какого не знала столица! Тотчас доносит в Петербург; оттуда приказ – немедленно доставить актеров Фёдора Волкова ко двору.
Высочайшие приказы в России выполнялись тотчас же.
И вот в январе 1752 года из Ярославля в Санкт-Петербург по снежной дороге, а стало быть, относительно быстро, двинулся обоз, в котором ехали представляться императрице Елизавете актеры волковского театра, везли с собой в новую жизнь надежды, семьи, нехитрый домашний скарб, а также театральный реквизит, костюмы и декорации. Только представьте себе эти необозримые ледяные пространства от Ярославля до Санкт-Петербурга, занесенные снегом поля, дремучие заснеженные леса, полные опасностей – дикие звери, волки в то время забегали зимой бывало в самый центр Петербурга… Что ж говорить об окрестностях – разбойники, холод и маленький обоз русского театра в этом снежном царстве.
Да, в этом обозе, пробираясь по вешкам сквозь пургу и метели, ехал в свое прекрасное будущее русский театр – во всем его скором величии!
Волковцы сыграли перед императрицей трагедию А. П. Сумарокова «Хорев». Ее Величество остались довольны. А еще более довольным был, наверное, автор трагедии Сумароков. Дело в том, что в ту эпоху создалась довольно странная ситуация – русские драматурги писали пьесы, трагедии, комедии, оперы, а они часто оставались только на бумаге – представлять их было некому. Вас не должно смущать в этом перечне слово «опера». Дело в том, что в восемнадцатом веке очень долго автором оперы принято было считать поэта, написавшего либретто, а не композитора, сочинившего музыку. тогда еще не существовало такого понятия, как музыкальная драматургия. Далеко не сразу стали писать имя композитора большими буквами, а либреттиста – мелким шрифтом внизу.
Был такой гениальный литератор, поэт, смелый человек и даже в какой‐то степени, что называли тогда во Франции chevalier d’industry, то есть авантюрист или, как говорили в те времена в России, – «волочильных дел мастер», со всем тем умнейший человек своего времени аббат Лоренцо да Понте. Он написал блистательные либретто к трем великим операм Моцарта: «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». Находясь в Америке, куда он сбежал из Европы, нищий, злой, он стоял у афиши, извещавшей о скором представлении оперы Моцарта, тыкал в нее тростью и кричал: «Это я! Я написал ему оперу!». Никто его гнева не понимал, но он был очень прав! Без его либретто, написанных великолепным языком, полных изумительных, в том числе фонетических красот, оперы Моцарта не были бы такими, какими мы их знаем.
Между прочим, это говорит еще и о том, что тексту, звучащему, спетому слову в опере всегда придавали большое значение, чего не скажешь о современном оперном театре.
Как бы то ни было, русские авторы редко видели свои произведения на сцене театра. Время от времени их ставили некоторые любительские коллективы, например, в театре Шляхетского корпуса – так называлось военное училище для дворян – в других местах, что вполне понятно, профессионального постоянного русского театра еще не было. Кроме того, должно было пройти время, чтобы русский театр встал на ноги и наконец потеснил немецкий, французский театры, существовавшие в Петербурге, а русские актеры, такие, как тот же Дмитревский, стали выразителями духа времени и кумирами публики всех слоев русского общества. Но ведь драматургу хочется увидеть свое творение на сцене и чтобы его увидела публика – для чего ж иного он писал. И вот теперь такая возможность представилась.
Указ императрицы Елизаветы или, как в те времена писали и произносили, Елисавет Петровны от 30 августа 1756 года гласил об учреждении русского профессионального театра.
Вот этот исторический указ, с небольшими сокращениями.
«Повелели Мы ныне учредить Русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головкинский каменный дом, что на Васильевском острову, близ Кадетского дома.
А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и Ярославцев в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число.
На содержание онаго театра определить по силе сего Нашего указа, считая от сего времени в год денежной суммы по 5000 рублей, которую отпускать из Статс конторы всегда в начале года по подписанию Нашего Указа. Для надзирания дома определяется из копиистов Лейб-Компании Алексей Дьяконов, которого пожаловали Мы Армейским подпорутчиком с жалованием из положенной на театр суммы по 250 рублей в год. Определить в оный дом, где учрежден театр, пристойный караул.
Дирекция того Русского театра поручается от Нас бригадиру Александру Сумарокову, которому из той же суммы определяется сверх его бригадирского оклада, рационных и деньщичьих денег в год по 1000 рублей… А какое жалованье, как актерам и актрисам, так и прочим при театре производить, о том ему – бригадиру Сумарокову от Двора дан реестр».
Так был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий театр».
Несладко ему пришлось.
Не было собственного помещения, в Головкинском доме русский театр просуществовал недолго. Надо сказать, что само по себе место было выбрано неудачно, вдали от центра столицы, и театр посещался плохо. Сама императрица в театр, конечно, не ездила, актеров привозили во дворец. Отсутствие собственного помещения для любого театрального коллектива – проблема огромная, трудно все время играть на разных сценах, или, как говорят сегодня, площадках, а именно так существовал русский театр долгое время. Жалованье русские актеры получали мизерное, театр – содержание малое; всего на русский театр правительство денег выделяло, как следует из Указа, пять тысяч рублей в год, из них еще надзиравшему над театром бывшему копиисту, лейб-компанскому подпоручику Дьяконову причиталось 250 рублей, да и «пристойному караулу» что‐то, наверное, перепадало. Караул – это дело ответственное, так что на сам театр уходило далеко не полных пять тысяч, не то что немецким и французским труппам – тем назначено было по двадцать пять тысяч в год. Сумароков, первый директор русского театра, слезно умолял правительство дать денег на театр; давали понемногу, неохотно и, как всегда, недостаточно.
Это старинная беда – экономить на отечественном искусстве.
Только в 1832 году русская драматическая труппа в Петербурге наконец обрела свое собственное помещение в здании, построенном по проекту архитектора Карла Ивановича Росси, которое стало украшением города. Новый театр получил название в честь супруги императора Николая Первого – Александринский.
В Москве же театральное здание специально для драматической труппы, отделившейся от оперной и балетной, было построено ранее, чем в Петербурге, в 1824 году, отсюда берет свое начало наш знаменитый Малый театр. Истоки этого великого театра, ставшего неотъемлемой частью русской культуры, этого доступного всем слоям общества образовательного учреждения, просветительского центра (современники называли его вторым университетом) лежат в театре Московского университета, открытом в том же памятном и достославном для истории русского театра 1756 году.
Университетский театр возглавлял Михаил Матвеевич Херасков, прекрасный русский поэт, автор знаменитой в восемнадцатом веке первой русской эпической поэмы «Россиада», драматических произведений, замечательных стихотворений.
На одно из них, возвышенное и трогательное, «Коль славен наш Господь в Сионе» написал музыку великий русский композитор Д. С. Бортнянский, и оно стало как раз в царствование императора Павла гимном Российской империи, а позже неофициальным российским гимном. Слова его знали все русские, после революции это был гимн русской эмиграции, долгих лет изгнания. Сегодня эту мелодию можно услышать в исполнении карильона – так называют музыкальную машину из колоколов, установленную на колокольне собора Петра и Павла Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
- Коль славен наш Господь в Сионе,
- Не может изъяснить язык.
- Велик Он в небесах на троне,
- В былинках на земли велик.
- Везде, Господь, везде Ты славен,
- Во дни, в нощи сияньем равен.
Одни только эти «былинки», в которых велик Господь, делают Хераскова гениальным поэтом, а этот образ навеян ему Библией – тогда эту книгу знали хорошо. И как же неприятно, что в некоторых изданиях этого стихотворения мы довольно часто находим не «былинки на земле», в каждой из которых, по словам поэта, велик Господь, а сталкиваемся с какими‐то совершенно немыслимыми «былинами на земле». Какое искажение, какое непонимание поэтической мысли автора! А вот с былинками мы снова встречаемся, правда, гораздо позже, в поэме «Иоанн Дамаскин» А. К. Толстого, прекрасного поэта и великолепного драматурга девятнадцатого века. Герой поэмы благословляет «и в поле каждую былинку» – нужно ли говорить, откуда здесь взялись «былинки». Вообще, надо понимать, что русские поэты – это не только великие Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Фет, Тютчев, то есть поэты девятнадцатого века, но и замечательные, а иногда и по‐настоящему великие, как Державин, поэты века восемнадцатого. Уже в восемнадцатом веке начала становиться великой русская поэзия, мы об этом часто забываем. В произведениях поэтов восемнадцатого века мы находим россыпь жемчужин родного языка, читать их – это значит заново узнавать родной язык, переживающий сегодня не самую лучшую пору.
Нужно сегодня взглянуть на поэтический восемнадцатый век любящим взором. Не следует, конечно, уподобляться Крутицкому из пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», «очень важному господину», как сказано о нем в списке действующих лиц комедии, который, кроме поэтов восемнадцатого века, никаких других знать не хотел, современную литературу ни во что не ставил и при каждом удобном и неудобном случае вспоминал Сумарокова и декламировал наизусть стихи Озерова из трагедии «Дмитрий Донской», осточертев всем своим, даже очень терпеливым слушателям. И вообще считал, что общество потому становится безнравственным, «что на театре больше трагедий не дают», что, кстати, отчасти верно – трагедии выводят на сцену героев, обладающих высокими чувствами и великими страстями, которых порою так не хватает современной эпохе. При внимательном рассмотрении литература русского классицизма, при всей своей иногда шероховатости и ходульности, бывает, просто ошеломляет богатством языка, его поэтической красотой; может быть, потому, что наш современный язык беден и невыразителен; мы разучились ценить слово и написанное, и произнесенное. Впрочем, каковы темы наших сегодняшних бесед, да и можно ли сейчас наши разговоры, часто урывками, назвать беседами, и какой уж тут классицизм…
«Беседа любителей русского слова» – так называлось литературное общество, недолго существовавшее в Петербурге в 1811–1816 годах, но сыгравшее заметную роль в истории нашей литературы. Деятельность его закончилась со смертью Державина, в доме которого проходили встречи участников общества; в истории литературы их принято называть «эпигонами классицизма», считать за приверженность к старине консерваторами. Возглавляли общество Г. Р. Державин и А. С. Шишков. Но к этому обществу примыкали И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, П. И. Катенин, В. Ф. Раевский и другие деятели, так сказать, декабристского толка, которых все‐таки консерваторами не назовешь. Над «Беседой» насмешничал, иногда очень зло, дурашливо воевал с ней «Арзамас», общество сторонников нового литературного направления, исходной точкой которого было творчество Н. М. Карамзина; в «Арзамасе» состояли Пушкин, Жуковский, Батюшков, Вяземский и другие литературные и общественные деятели. «Арзамас» просуществовал тоже недолго, его история закончилась вскорости после закрытия «Беседы». Борьба была недолгой и закончилась ко всеобщему удовольствию; в Российскую академию были избраны Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский, члены «Арзамаса». Рекомендовал их в российскую академию, между прочим, А. С. Шишков, руководитель «Беседы» – вот тебе и литературный враг! Перипетии литературной борьбы начала девятнадцатого века подробно описаны в замечательной книге Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы» – она читается как увлекательный роман.
Все это было давно и быльем поросло. Но создать сегодня что‐то похожее на «Беседу любителей русского слова» – только вдумайтесь в название, разве не кажется оно вам прекрасным? – было бы сегодня делом благодатным для отечественной словесности и современного русского языка. А там пусть приходит какой‐нибудь нынешний «Арзамас» – как учит история, литературные баталии такого рода только обогащают родной язык и литературу.
В 1825 году на месте старого так называемого Петровского театра, получившего свое название от улицы Петровка, на которой он находился, было воздвигнуто здание Большого театра, в котором разместились русские оперная и балетная труппы. На улицу Петровка, к счастью, до сих пор сохранившую свое старинное название, выходит его артистический подъезд.
Что же касается Большого Каменного театра в Санкт-Петербурге, в котором Штааль со своими светскими приятелями повстречал актера Дмитревского, не придавая, впрочем, этой встрече особого значения, то в его помещении играли спектакли не только русская, но и немецкая, и французская труппы. Правильнее было бы сказать – главным образом играли немецкая и французская труппы, а иногда и русская. Иностранные актеры пользовались в России бо`льшими привилегиями, чем русские артисты, и играли спектакли чаще них.
Дмитревский по праву унаследовал от своего старшего товарища звание первого актера российского театра. К тому времени, в котором происходит действие романа Алданова, он являлся «главным над российскими зрелищами наблюдателем» – это звание было не только почетным, оно означало, что в его подчинении были все театральные дела, без его ведома в театре не происходило ничего, он был знаменит, почитаем, любим всеми русскими людьми. Человек благородного нрава, вышедший из семьи дьякона ярославской церкви Димитрия Солунского, он воспитал себя человеком для своего времени исключительно образованным; преподавал в Смольном институте, где обучались и получали воспитание наследницы лучших русских фамилий, сразу три предмета: историю, географию и словесность. Трудно представить себе, чтобы кто‐нибудь из нынешних актеров, при всем к ним уважении, мог бы это сделать. Он был избран в Российскую академию наук – единственный из актеров, удостоенный такой чести. Одним из важнейших дел Дмитревского было основание им первой русской театральной школы. Это случилось в 1779 году – от этой даты ведет свое начало отечественное театральное образование.
Он начинал свое поприще очень рано, чуть ли не четырнадцати лет от роду. Тогда на театральной сцене с трудом допускали появление женщин, так что какое‐то время женские роли исполняли мужчины. Дмитревский был красив, благороден и представителен в старости, а в молодости и в Ярославле, и в Петербурге ему часто приходилось, благодаря своим редким внешним данным, играть женские роли. По отзывам современников, это получалось у него очень хорошо, а на самом деле это задача невероятно трудная, если подходить к ней серьезно и художественно, а не в шутку. Но актер создавал незабываемые женские образы в трагедиях, покоряя зрителей правдивостью своего исполнения. Рассказывают, что будто бы поэтому он стал называться Дмитревским.
Вот как это случилось.
Вообще в России в то время, в середине восемнадцатого века, когда началась артистическая карьера Дмитревского, все еще было принято подписываться отчеством; Иван, сын такого‐то, отчество выполняло функцию нынешней фамилии. Довольно часто фамилии выходили из семейного рода занятий – отец будущего артиста был дьяконом, стало быть, его фамилия или, как тогда говорили, фамильное прозвище была Дьяконов. Но были еще и родовые прозвища, идущие испокон веков, в семье Дмитревского таким прозвищем было Нарыковы. По преданию, однажды сама императрица Елизавета Петровна, женщина, о красоте которой в Европе ходили легенды, одевая юношу в костюм Оснельды, героини трагедии Сумарокова, решила, что он будет называться Дмитревским, потому что он будто бы был похож лицом на польского графа Дмитревского, который состоял при ее дворе и тоже был весьма хорош собой – императрица в мужской красоте знала толк. А по другой версии, фамилия была дана юному актеру потому, что во дворце на незначительной должности служил некто Дмитревский, никакой ни граф, даже и не дворянин вовсе, на которого юноша был похож, тоже, стало быть, был недурен. А может быть, и не было никакого графа и служащего, да и скорее всего не было. Все это досужие выдумки, а взял артист свою сценическую фамилию по церкви Димитрия Солунского, при которой дьяконом был его отец и в которой он мальчишкой пел на клиросе псалмы, что, кстати, очень полезно для голоса и слуха, так эта фамилия за ним и осталась.
