В разные годы. Внешнеполитические очерки
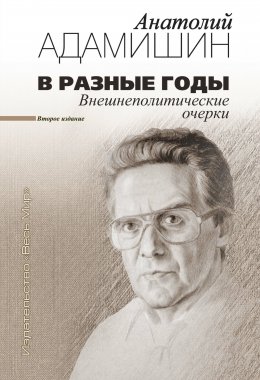
© Адамишин А.Л., 2024
© Издательство «Весь Мир», 2024
От автора
Эта книга – мемуарные очерки советской, а затем российской внешней и частично внутренней политики с середины 60-х до середины 90-х годов прошлого столетия. Они основаны в значительной части на дневниковых записях, которые я вел более-менее регулярно все эти годы. Для ориентации во времени привожу свой послужной список:
Итого: ровно, почти дата в дату, сорок лет. Плюс в 1997–1998 гг. – федеральный министр по делам СНГ.
Пролог
С младых ногтей
В первую крупную дипломатическую игру попал я скорее по случаю. Состоял он в том, что в 1960-е годы служба моя в Посольстве СССР в Италии шла под началом Семена Павловича Козырева. Повезло мне с ним чрезвычайно. Это был человек самородного ума – начал он свою трудовую деятельность водителем – быстрой смекалки и, главное, постоянной заряженности на работу. (По молодости лет это качество меня несколько раздражало, ибо оборачивалось постоянной «эксплуатацией».) К профессионализму Козырева добавлялась его природная интеллигентность, брань и грубость ему претили. Ко мне, как сказала на его похоронах в августе 1991 г. вдова, Татьяна Федоровна, он относился как к сыну. Чего еще желать?
Лет через тридцать я узнал из опубликованных партийных архивов, что Козырев занял мужественную позицию, когда у нас «наверху» решался вопрос, как реагировать на решение присудить Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну. (Здесь и далее я позволяю себе выделять курсивом собственные суждения, сделанные иногда много позже моих первоначальных записей об описываемых событиях и людях. Надеюсь это не будет мешать моим читателям.)
По-итальянски посол не говорил, французским, который был у него совсем неплохой, вне быта пользовался редко. Разговоры с иностранцами без свидетелей в то время не поощрялись, так что многие его контакты с миром шли через меня, переводчика. К тому же Семен Павлович, работавший с Молотовым и довольно близко знавший Сталина, не был склонен делиться своими размышлениями с окружающими. Но с кем-то посоветоваться нужно, а тут под рукой парень, который так или иначе в курсе разных дел и вроде не треплив. И посол все чаще как бы перепроверял на мне свои заключения и доклады в Москву. Со временем я вовсе стал писать некоторые не особо важные телеграммы, по-нашему «телеги». Поскольку к шифропереписке по причине низкого чина все шесть лет работы в посольстве я допущен не был, то сочинял на листочках, затем старший товарищ переписывал (все от руки!) на фирменную желтую бумагу. Постепенно я оказался не только в гуще событий, но и внутри дипломатической кухни. Терпеливо и целеустремленно натаскивал меня Семен Павлович.
Вообще-то, такова школа многих дебютантов и не только у нас. Молодого человека чаще всего распознавали именно в этих качествах – переводчика и помощника, а затем учили своим примером, своим опытом. Только тогда ты мог сказать, что получил образование, близкое к дипломатическому.
Беседы посла шли, как положено, с главными действующими лицами тогдашней итальянской политической сцены – президентами: Джованни Гронки, Марио Сеньи и Джузеппе Сарагатом, премьерами: Аминторе Фанфани, Альдо Моро, впоследствии похищенным и убитым «красными бригадами», Джулио Андреотти, Эмилио Коломбо. Деятели эти, разумеется, сильно отличались по человеческим качествам друг от друга, но со всеми Козырев сумел наладить контакт, иногда доверительный. Так я учился уменью расположить к себе, совершенно необходимому дипломату.
С такой, без преувеличения, исторической личностью, как лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, Козырева связывали не просто тесные отношения, требующиеся по службе, но и личная дружба.
Повезло мне не только с послом, но и со страной. То был период бурного экономического роста, знаменитого «итальянского чуда», приподнятого настроения, веселых и жизнерадостных людей. После тягот фашизма и войны итальянцы стали выходить на широкую дорогу, сами удивляясь, как быстро они начали шагать. Они любили тогда повторять историю о шмеле, который не должен бы летать по законам аэродинамики: слишком у него короткие крылья и крупное тело, но он летает, посрамляя теорию. Точно так же по всем канонам не должна развиваться итальянская экономика, но она процветает, конфузя теоретиков. Страна находилась на ничем не омраченном подъеме. Экстремистские вылазки пришли позже.
Мудрый Козырев прекрасно использовал вновь появившееся у итальянцев чувство национальной гордости. Многие из них видели в отношениях с СССР возможность ослабить чрезмерную зависимость от атлантических союзников, прежде всего, экономическую. Именно при Козыреве знаменитыми сделками на итальянские трубы для советского газа и строительством автомобильного завода в городе Тольятти была пробита брешь в блокаде Советского Союза.
Развитие экономического сотрудничества вело к оживлению политических контактов, это вам подтвердят все учебники политологии. Но контекст оказался и более широкий. Тогда была предпринята одна из первых попыток ввести в цивилизованные рамки противостояние двух блоков: НАТО и Варшавского договора. Италия попала в НАТО без большого желания, ее втянула туда логика холодной войны, вину за развязывание которой несут, видимо, в равной мере Трумэн и Сталин. Итальянское правительство твердо стояло на стороне США и НАТО, но, подталкиваемое деловыми кругами, отнюдь не занимало крайние позиции. Речь скорее шла о нюансах внешнеполитической ориентации, тем не менее и за них внутри страны вспыхивала борьба. Итальянцы не раз позволяли себе действия, на которые атлантисты смотрели косо. Не случайно первым из глав западных государств официальный визит в Москву совершил президент Италии Джованни Гронки. В ходе его было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве с Италией, первое, как и экономические сделки, в последовавшем потом длинном ряду таких документов со странами Запада.
Подобно сквозной теме Станиславского итальянцы остались приверженцами такого подхода во все годы холодной войны. В настоящее время ситуация изменилась. Итальянское правительство в отношении России следует крайне недружественной линии Запада. Вместе с тем, как рассказал мне недавно вернувшийся из Рима посол С. Разов, в общественном мнении страны широко разлито недовольство подобным курсом, и оно выходит на поверхность в форме разного рода опросов, публичных выступлений, бесед.
…Какие же страсти кипели вокруг визита Гронки! Усилиями правых он пару раз откладывался, что, в свою очередь, вызывало раздражение Москвы. Козырев даже ходил к больному президенту, чтобы убедить Центр, что болезнь не дипломатическая. В феврале 1960 г. визит все же состоялся. Это был своего рода прорыв. Пальмиро Тольятти, с которым Козырев советовался, когда еще только возникла идея визита, с самого начала занял твердую позицию «за». Не страдая политической ревностью, он дальновидно советовал нам идти на сближение с левыми демохристианами (Фанфани, Гронки, Моро). Их «смелость» объясняется, говорил Тольятти, также той поддержкой, которой они пользуются у Иоанна XXIII, папы-реформатора. Именно он, пытаясь снять накал противоречий между католиками и коммунистами, выдвинул тезис, что бороться надо с идеями, а не с носителями этих идей; с последними вполне можно иметь дело. У итальянской компартии появился тогда план потеснить правых и привести к власти левоцентристское правительство демохристиан с последующим участием социалистов и внешней поддержкой коммунистов. Это была бы мирная эволюция, а не революционный захват власти. Отсюда пошел пресловутый «еврокоммунизм».
Отношениям с СССР в этом контексте отводилось особое место. Левые в Христианско-демократической партии (ХДП) надеялись показать, что именно они – даже в рамках атлантической солидарности – лучше всего строят экономическое сотрудничество с СССР. Остро нуждавшаяся в газе и нефти Италия получала от торговли с нами немалую выгоду, как, естественно, и мы. Не только двусторонние связи с Италией были на кону, но и то, что позже было названо отношения Восток–Запад. Для ХДП, в течение десятилетий находившейся у руля управления, благословение Святого престола и на отношения с СССР, и на разрядку было условием (латынь тут к месту) non plus ultra. Козырев это хорошо понимал. Именно поэтому он пошел – по наущению премьера А. Фанфани – на первые в послевоенной истории прямые контакты с Ватиканом.
Своим связным в этом строго конфиденциальном деле посол сделал меня. Моим визави с той стороны был монсиньор Виллебрандс, здоровый и симпатичный голландец: белобрысые волосики вокруг порядочной плеши, холеные белые руки. Встречались мы с ним раз десять, причем всегда на нейтральной территории. Чаще всего это происходило за чашечкой кофе в барах поблизости от собора Святого Петра, и даже мой неопытный взгляд замечал постоянную скрытую слежку. Нашей задачей было подготовить закрытую встречу между послом и представителем Ватикана.
В один прекрасный день, а именно 6 февраля 1963 г., получаю, наконец, от голландца сообщение: встретиться с Козыревым поручено кардиналу Агостино Беа, он ждет его у себя на дому, в монастыре «Колледжо Бразилиано» на окраине Рима. Выезжать просят сразу же. Докладываю послу, он готов ехать, но в посольстве, как назло, нет ни одного водителя. Хотя первые в моей жизни водительские права я получил в Риме сравнительно недавно, предлагаю свои услуги. Семен Павлович скрепя сердце соглашается. И вот я погнал по уже тогда довольно забитым улицам. Посол мужественно молчал на заднем сиденье. Лишь когда мы несолоно хлебавши вернулись назад в прохладную безопасность посольского двора, Семен Павлович квалифицировал мое водительское мастерство: «Еще и машину Адамишин водит хреново».
Высокий прелат дал нам от ворот поворот. Смысл был таков: проявляет Советский Союз инициативу, хочет иметь дипломатические отношения со Святым престолом, пусть заплатит за это должную цену. Какую? Послабление для церкви внутри СССР. Потом поговорим и об официальных связях. Не может быть, чтобы Ватикан не отдавал себе отчет, что на такие кондиции мы не пойдем. Но, наверно, у них была своя дискуссия, и верх взяла партия ватиканских ортодоксов типа нашего «Великого инквизитора» Суслова. Постоянно перебиравший четки и улыбавшийся старый Агостино (запомнилась его жилая комната, вполне мирская, стояла даже модная радиола «Грюндиг», включенная во время всего разговора) с улыбкой же дезавуировал итальянского премьера. Тот ведь говорил как раз о желании Ватикана и не упоминал ни о каких условиях. Но когда Козырев сказал об этом, кардинал отрезал: Фанфани не выступал и не мог выступать от имени Святого престола. Да, письмо от него в Госсекретариат Ватикана поступило, но он лишь передал пожелания советской стороны. Беа пошел дальше: Ватикан, мол, имеет хорошую информацию о внутренней жизни России и думает, что руководство СССР, лично Хрущев будут готовы обсудить религиозные вопросы.
Попав фактически в ловушку – на него давили именем высшего советского руководителя – Козырев показал себя молодцом. Жили мы без отношений с Ватиканом столько-то лет, поживем еще, коли вы не готовы, таков был его ответ Беа. Докладывая в Москву, Козырев, несмотря на ватиканские намеки на Хрущева, предложил на дальнейшие уступки не идти. Дело в том, что мы еще до начала всей этой истории пошли им навстречу: выпустили западноукраинского кардинала-католика И. Слипого, сидевшего у нас со сталинских времен. В тогдашнем советском руководстве, и без того на идею отношений с Ватиканом смотрели без энтузиазма, а тут еще что-то платить. Так что первая попытка не удалась.
Установление дипломатических отношений с Ватиканом затянулось на два десятилетия, пока не пришла перестройка. Но кое-какой лед многолетнего отчуждения был сломан: уже в марте 1963 г. личный посланец Хрущева, его зять Алексей Иванович Аджубей, встретился со Святым отцом. Благо, он мог это сделать как журналист, главный редактор «Известий». Об этой встрече я также договаривался с Виллебрандсом, и на этот раз он впервые пришел к нам в посольство, где не отказался и от рюмки водки. В памяти осталось, как уверенно Аджубей держал себя.
Произвела также впечатление внимательность Алексея Ивановича к окружающим – ценное качество для политика. Он нашел слова даже для той работы, до которой высокопоставленные гости обычно не снисходили: «Для точного перевода необходимо, чтобы переводчик был интеллектом не ниже говорящих». Мы с ним поддерживали дружеский контакт и после снятия Хрущева, когда оба они оказались в опале.
Почему левые христианские демократы в Италии – к вышеупомянутым добавлю мэра Флоренции Джорджо Ла Пира – подталкивали нас к сближению с Ватиканом? При молчаливой поддержке коммунистов они задумали выстроить некий треугольник в пользу разрядки: СССР, США, Ватикан. Улучшение наших отношений с Ватиканом рассматривалось как необходимая первая стадия этого замысла. Такой треугольник возник бы как результат встречи в Риме главы советского правительства с президентом-католиком Кеннеди под эгидой папы-миролюбца.
Эти амбициозные планы учитывали, что советско-американская встреча на высшем уровне, состоявшаяся в июне 1961 г. в Вене, оказалась малорезультативной. Помню, как сокрушался посол по поводу ее оценки, данной Громыко на партактиве МИДа: «Если попытаться образно выразиться, то это была встреча гиганта и пигмея». Семен Павлович сетовал: нельзя так недооценивать классового противника. Убедились мы в справедливости его слов на следующий год, когда разразился Кубинский кризис.
После того как прошла «кубинская гроза», левые демохристиане в Италии посчитали, что обстоятельства благоприятствуют осуществлению их планов, и начали подталкивать нас к контактам с Ватиканом. Не берусь судить, но возможно, что ватиканские ортодоксы, «прочитав» идею левых, сорвали ее или, во всяком случае, сильно затормозили. Треугольник, задуманный ради смягчения международной напряженности, так и не построился. В 1963 г. умрет Иоанн XXIII, потом убьют Кеннеди и, наконец, в 1964 году отстранят от власти Хрущева.
Но ватиканский сюжет остался. В апреле 1966 г. – потребовалось еще три года – состоялась «частная», но от этого не менее историческая встреча между министром Громыко и понтификом Павлом VI. Беседа продолжалась сорок пять минут. Если вычесть перевод, он шел через меня и отца-иезуита Джузеппе Ольсера, ректора русского колледжа в Риме, то почти вдвое меньше. По содержанию она была довольно общей, как и предыдущая беседа Аджубея. Важен, однако, сам факт встречи. Святой престол как бы благословлял взаимодействие с Советским Союзом на поприще мира. Инициативу в организации встречи проявили мы, и это был, безусловно, грамотный и далеко идущий шаг советского руководства.
До сих пор храню медальку, врученную мне папой после беседы с Громыко. С тех пор их накопилось, наверное, около десятка: контакты и диалог с Ватиканом продолжились и при отсутствии дипотношений.
Поддержание связей с руководством католической церкви, даже если они носили эпизодический характер и не шли дальше совместных прокламаций в пользу мира, можно, безусловно, отнести в актив внешней политики Брежнева–Громыко.
Как это делалось в годы Брежнева и Громыко
Мы в фортеции живем…
Солдатская песня. (Эпиграф к главе III повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)
Очерк первый, вступительный
Оптимистичное поколение «застоя»
Октябрь 1964 г. Мне тридцать лет, я второй секретарь Посольства СССР в Риме, сопровождаю посла Козырева в поездке в Милан, деловой центр Италии. Выходим из гостиницы, слышим голоса мальчишек, продающих газеты: «Посмотрите, что наделали эти русские!» Новость действительно сенсационная: Хрущев уходит на пенсию.
«Какая там пенсия? Но все равно хорошо, что ушел», – не сдерживает своей реакции посол.
В те годы наружу выпирали многочисленные огрехи хрущевского правления. Для непосвященных, т.е. подавляющего большинства, оставались за кадром истинные причины его вынужденной отставки: попытка приструнить бюрократическую номенклатуру – главное зло советского строя, борьба за власть внутри узкого руководящего круга.
К непосвященным должен отнести и себя, причем не только в отношении этих событий, но вообще в том, что тогда происходило в стране. Да и кому было меня просвещать? Отец погиб на фронте, мать, наверняка что-то знавшая, молчала: неосторожное слово в сталинские времена могло оказаться последним. По жизни, если можно так выразиться, меня вел комсомол, куда вступил в 1948 г., едва мне исполнилось четырнадцать лет. Первые знания, переворачивавшие прежние представления, были связаны как раз с ХХ съездом, разоблачением Хрущевым Сталина.
Чтобы понять подоплеку внутренней и международной политики, пришлось годами собирать сведения по крупицам: беседуя со сведущими людьми, читая воспоминания, роясь в архивах, открывшихся, увы, ненадолго. Преимущество мемуаров в том и состоит, что пишешь о событиях давних лет, опираясь на знания, накопленные всею жизнью. Важно лишь не подгонять прошлое под нынешние представления и, по Киплингу, веря своей правде, знать, что правда не одна.
Итак, смена власти в Стране Советов. В кои веки она не вызвана смертью прежнего вождя. Хрущев смещен своими же товарищами из партийно-государственного руководства. Заглавную роль в «дворцовом перевороте» сыграл Л. Брежнев. Это с определенностью следует из архивов, открытых в перестройку. Именно ему Хрущев долгое время покровительствовал. За год до своей «отставки» он поручил Брежневу исполнять обязанности (деля их с Н. Подгорным) неформального второго лица в партии.
Внешне процедура обставлена сравнительно легитимно. Заявление об уходе на пенсию Никита Сергеевич подписывает на заседании Президиума ЦК КПСС. Правда, до этого состоялось еще одно, в отсутствие Хрущева. Оно-то все и решило. Но он оставляет свой пост живым и невредимым, что также считает важным результатом своей реформаторской деятельности.
Следующие три вождя – Брежнев, Андропов, Черненко – «восстановят справедливость»: покинут свой пост только со смертью.
«Последнее слово» Хрущева было достойным: «Не прошу милости – вопрос решен. Я сказал т. Микояну – бороться не буду. Радуюсь: наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете меня говном, а я не могу возразить»[1].
На вершине пирамиды теперь двое: Л. Брежнев, Первый секретарь ЦК КПСС, и А. Косыгин, Председатель Совета Министров. Так они поделили посты, которые занимал Хрущев. Вскоре к ним присоединится Н. Подгорный в качестве Председателя Президиума Верховного Совета. Со временем Брежнев отстранит их обоих, но пока что упор делается на преимущества коллективного руководства.
Primus inter pares, первый среди равных, естественно, Леонид Ильич. Узнай он, что его ждут долгие восемнадцать лет правления, наверняка порадовался бы. И ужаснулся бы, узнав, что эти годы впервые в советской истории назовут застойными. Не подозревает он и о собственном финале: соратники будут несколько лет, несмотря на уговоры, держать у власти больного генсека.
Но сейчас Брежнев здоров, крепок и полон энергии. Он прекрасно ориентируется в партийных хитросплетениях, сплотил вокруг себя секретарей обкомов, неплохо знает народное хозяйство и, что особенно важно, оборонный комплекс. Его уважают военные, люто невзлюбившие Хрущева за миллионное сокращение армии в попытке облегчить бремя расходов на оборону.
Хуже с внешней политикой, но тут Брежнев рассчитывает на надежную опору. Громыко уже семь лет как министр иностранных дел. Он останется на этом посту еще двадцать один год.
Первые несколько лет «тройка» работала более-менее на равных. Затем сама логика системы утвердила Брежнева как непререкаемого верховного руководителя: он устраивал все звенья партийной номенклатуры.
Внутри страны дела шли поначалу неплохо. Сказались результаты нововведений и значительных капиталовложений в «гражданку» при Хрущеве: строительство пятиэтажек (при массовой ликвидации коммуналок), нарезание по 6 соток садовых участков, освоение целины. Главное же, динамике роста способствовала начатая Косыгиным реформа. К тому же подскочили цены на экспортируемую нефть, пошел поток товаров из социалистических стран. Люди почувствовали, что поднимается экономика и растет их благосостояние.
На нас, мелких птахах в МИДе, перемены отражались больше в бытовом плане. Многие мои товарищи именно в эти годы, вернувшись, как и я, из загранкомандировки, купили кооперативные квартиры по сравнительно доступным ценам.
Молодость – великий анестезиолог. Тяжелые и даже глубоко драматические события, такие как Кубинский кризис, когда мир балансировал на грани войны, не вызывали отчаяния. Вспоминаю, что постоянным ощущением был оптимизм, уверенность в том, что справимся с трудностями, времени-то навалом. Казалось, перед страной открывается лучшее будущее.
Для меня, как и для многих моих друзей, эти надежды сбылись не скоро, только с приходом перестройки, но сбылись.
Работа в министерстве после возвращения из Италии мне представлялась захватывающе интересной. Прежде всего потому, что, как и в случае с Козыревым, повезло с руководителем, Анатолием Гавриловичем Ковалевым, человеком талантливым, щедрым на идеи. Он тогда руководил тем, что я считал своей «альма-матер», – Первым Европейским отделом МИДа. (В МИДе той поры было пять европейских отделов, три первых занимались капстранами, два – соцстранами. Международный отдел ЦК КПСС имел специальное подразделение, ведавшее соцстранами). Через какое-то время Ковалев отрядил меня в так называемый «мозговой центр», Управление по планированию внешнеполитических мероприятий, а затем я в тридцать девять лет от роду вовсе стал заведовать одним из мидовских подразделений. По тогдашним меркам, это было что-то похожее на чиновничий рекорд: прошла пора сталинских репрессий, выдвиженцы, пришедшие тогда в министерство в молодом возрасте, старели, но оставались на местах. Правда, Управление, куда я был назначен, доживало спокойно свой век. Так что особого риска не было. Моя задача была вдохнуть в него жизнь. Нам было поручено «вести» Общеевропейское совещание. Оно, Управление, еще несколько лет продержалось, затем его расформировали.
Мир, разделенный на две системы, был многослойным, и наиболее жаркие схватки шли наверху. Чем выше поднимался я по служебной лестнице, тем плотнее встраивался в боевые порядки МИДа, тем очевиднее становилась пагубность некоторых базисных постулатов системы, ранее не замечаемая за бравурными лозунгами.
Внешнюю политику, как выразился в разговоре со мной один из выдающихся наших дипломатов, Валентин Михайлович Фалин, Брежнев «подарил Громыко», определяя ее общую миротворческую направленность. На первых этапах она была довольно результативной. Из достижений выделю исторический Договор о нераспространении ядерного оружия (1968); Договор с США о противоракетной обороне (ПРО) и ОСВ-1 – временное Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (1972); ряд частичных мер в области разоружения, включая договоренности не размещать ядерное оружие в космосе (1967) и на дне морей и океанов (1971), а также Конвенцию о запрещении бактериологического оружия (1972).
После Московского договора о прекращении ядерных испытаний в трех сферах, заключенного еще при Хрущеве, в 1974 г. удалось договориться с США об ограничении мощности подземных ядерных взрывов.
В 1972 г. были подписаны Основы взаимоотношений между СССР и США, чему мы придавали особое значение, ибо считали, что этот документ закрепляет равенство двух великих держав. К сожалению, было оно далеко не полным.
По инициативе советской стороны в 1973 г. было подписано Соглашение с США о предотвращении ядерной войны, тоже скорее декларативное, чем практическое, ибо оно не предусматривало механизма осуществления. Но мы считали, что оно подкрепляет генеральный курс Советского Союза избежать войны с США.
На встрече Брежнева с Дж. Фордом во Владивостоке (ноябрь 1974 г.) были согласованы, а затем зафиксированы основные параметры будущего соглашения об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. В улучшенном виде оно было подписано Брежневым и Картером через пять лет в Вене. В нем сохранилась главная «философия» подхода: принципы равенства, одинаковой безопасности, ядерного паритета. В реальной жизни дела обстояли сложнее и по сумме компонентов не в нашу пользу.
На фоне мер в области контроля над вооружениями, центральной проблемы для обеих государств, заметно улучшились наши отношения с США, охватив сферы торговли, культуры, образования, охраны окружаюшей среды. С приходом к власти администрации Никсона регулярными стали его встречи с Брежневым. Кульминацией явился совместный космический полет «Союз»– «Аполлон», правда, уже после того как Никсон ушел в отставку, чтобы избежать импичмента. Многие помнят, с каким воодушевлением люди восприняли восстановление, как нам казалось, дружеских связей с Америкой. Появившиеся сдвоенные троллейбусы в Москве стали звать «Союз–Аполлон». (А символом ухудшения стало заколачивание киосков «Пепси-кола» в 1979 г.)
В какой-то мере мы помогли американцам выйти из войны во Вьетнаме, посредничая на разных этапах – и с разным успехом – между ними и Демократической Республикой Вьетнамом (ДРВ).
Г. Киссинджер и здесь внес вклад в теорию международных отношений формулой «пристойный интервал» (англ. – decent interval), посоветовав Никсону так вести дело, чтобы после ухода американцев Сайгон мог продержаться год или два. Потом уже никого в США не будет волновать его судьба. Примерно так повели себя американцы в Ираке, затем в Афганистане.
Закончилась война на условиях Ханоя, который мы поддерживали с самого начала. Отрицательный эффект: победа коммунистов-северян вызвала прилив уверенности в действенности курса на «немедленный и твердый отпор империалистической агрессии, где бы она ни происходила». Поскольку мы везде видели американские происки, подлинные или воображаемые, такой курс привел, в конце концов, к Афганистану.
Постоянное внимание уделялось, используя принятый тогда термин, социалистическому содружеству государств, а также коммунистическим и левым партиям. Для Брежнева первое направление являлось приоритетным, и связи, в общем, наладились дружественные. Ситуация изменилась после событий в Чехословакии в 1968 г.
До этого авторитет Советского Союза держался довольно высоко. На него работали память о вкладе в разгром фашизма; активные действия по окончательной ликвидации колониализма; неоспоримые достижения социализма в ряде областей. «Железный занавес» эффективно задерживал информационный поток, поэтому отрицательные стороны нашей жизни знали за рубежом немногие.
К середине 1960-х зацементировались швы Берлинской стены, возведенной властями ГДР с нашего благословления, зажили раны Карибского кризиса. На «Западном фронте» намечались позитивные перемены. В памятном 1966 г. в Москву приезжал де Голль с действительно прорывным визитом. Роман с Францией завязывался всерьез и надолго. Помню, как стояла на ушах мидовская «Первая Европа». Старалась не отставать от Франции и «моя» Италия.
В отделе шло постоянное полушутливое соперничество между «французами», которые чувствовали себя главными, и всеми остальными. Борясь с галльским засильем, я напускал на них Пушкина. Александр Сергеевич, как известно, бдительно следил, чтобы Россию не обижали, а поскольку нередко это пытались делать французы, то им в ответ и доставалось по первое число.
В целом, несмотря на холодную войну, на Европейском континенте удалось наладить сотрудничество, прежде всего, экономическое. К деголлевской Франции и к Италии присоединилась ФРГ канцлера Вилли Брандта. Европа, откуда к нам меньше чем за тридцать лет пришли две мировые войны, всегда имела для нас особое значение. На базе улучшившихся двусторонних отношений и общей атмосферы мы не только «замахнулись» на такую крупную инициативу, как созыв Общеевропейского совещания, но и сумели успешно ее реализовать.
Однако продолжение хрущевской «оттепели» брежневской разрядкой не затрагивало ядра советской политики: заряженности на глобальную конфронтацию с Западом до «победного конца» при отсутствии сомнений в том, что социализм в конечном счете возьмет верх над капитализмом. Уже на первые годы нарождавшейся разрядки пришлась такая акция, как подавление Пражской весны 1968 г., имевшая тяжелые последствия как для внешней, так и для внутренней политики СССР. Дальше пошло-поехало: холодная война по всем азимутам с США и их союзниками, к чему добавлялись соперничество с Китаем, гонка вооружений, серьезно подстегнутая грубой ошибкой с размещением наших ракет СС-20, Афганистан. До ядерного конфликта дело не дошло, но к концу брежневского «застоя» разрядка окончательно выдохлась. Свой, и немалый вклад, разумеется, внесла и «богоизбранная» Америка. Наша страна жила на горах оружия и в разобранном состоянии по многим параметрам, как правило, скрытым от глаз.
Но начнем мы с позитива.
Очерк второй
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
Идея совещания. Так и не смог я с достоверностью определить, кому принадлежит отцовство. Нечто подобное высказывал Молотов еще в 1954 г. Это вполне соответствовало нашему образу мышления: партийное собрание, проецированное вовне.
Могу засвидетельствовать: предложение созвать Общеевропейское совещание – новое или воскресшее – озвучил на Западе Громыко. Произошло это в Риме в апреле 1966 г. в ходе бесед с итальянскими руководителями, которые я переводил.
Итальянцы довольно неожиданно с ходу поддержали наше предложение, вызвав неподдельную радость советской делегации. Во время заключительной пресс-конференции министр произвел впечатление также тем, что высоко отозвался об итальянских художниках эпохи Возрождения. «Мы приехали в Италию, – пошутил он, – также для того, чтобы посоветоваться с ними, высокими выразителями гуманности».
Итальянская поддержка была, однако, с подвохом. В нашу формулу «Совещание по безопасности в Европе» искушенные потомки Древнего Рима предложили добавить: «и сотрудничеству». Как можно было возразить? Но это внесло в повестку дня гуманитарную «третью корзину», о которую впоследствии спотыкалось советское руководство.
Согласились мы и на участие в совещании США, хотя поначалу хотели обойтись без них. Без США весь проект, скорее всего, умер бы, не родившись. Как-никак они были страной, подписавшей после войны Ялтинские и Потсдамские соглашения. Чтобы американцы не очень выделялись среди европейцев, добавили Канаду.
В таком несколько трансформированном виде советская идея стала совместной инициативой государств – участников Варшавского договора. Ее главной, хотя и не декларируемой целью было закрыть германский вопрос. Это означало, прежде всего, узаконить новые границы Советского Союза, Польши и Чехословакии, а также границу между ФРГ и ГДР, остававшиеся без должного юридического оформления.
Тем самым, встав твердой ногой на Эльбе, мы закрепляли политические и территориальные итоги Второй мировой войны и послевоенного развития. Говоря нашим языком, эти итоги означали продвижение далеко на Запад позиций социализма в Европе. Поскольку стало очевидно, что дальше двинуть их вряд ли удастся, требовалось ввести в узаконенные рамки положение, выгодное для Советского Союза. С тех пор в расколотой надвое Европе мы начали играть на удержание. Пассивная, оборонительная тактика, как правило, чревата проигрышем. В конце концов, так оно и случилось.
Подготовка созыва. Несмотря на всю неотразимость идеи «европейцы – за один стол», нельзя сказать, что шла она легко. Были и скепсис, и упреки в пропаганде, и прямое неприятие. Не раз казалось, что фиаско неминуемо. Но мы проявили упорство, и шаг за шагом предложение набирало поддержку. Для этого использовался весь арсенал двусторонних средств, включая встречи на высшем уровне. Чуть ли не последними, в 1972 г., свое положительное отношение выразили США. То был рассвет брежневско-никсоновской разрядки: сделки, как правило, заключались по принципу do ut des (лат. – даю, чтобы ты дал).
Немалую роль сыграла общественность: в поддержку общеевропейского форума выступили не только компартии, но и массовые демократические организации Западной Европы.
Всего же «обработка» будущих участников заняла шесть с половиной лет. На них пришлась интервенция ряда государств Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию, отбросившая подготовку назад. Но были и мощные ускорители: прежде всего, Московский договор между СССР и ФРГ от 12 августа 1970 г. Он провозглашал исключительно мирное разрешение споров между двумя смертельными врагами во Второй мировой войне. Еще более важно, что договор объявлял нерушимыми границы всех государств в Европе, в том числе послевоенные. Полдела было сделано в двустороннем порядке. Плюс к Московскому, это обеспечили договоры ФРГ с Польшей, ГДР и Чехословакией, а также соглашение по Западному Берлину. Теперь требовалось отобразить новые реалии в многостороннем порядке.
Европейцы за одним столом. В ноябре 1972 г. в Хельсинки – отныне столица Финляндии станет синонимом общеевропейского процесса – начались консультации на уровне послов тридцати пяти стран. Их работа тянулась до июня следующего года. В результате в начале июля в том же Хельсинки собрались министры иностранных дел. Советскую делегацию возглавлял Громыко, в ее состав включили и меня, постоянно занимавшегося этой тематикой. Удалось побывать на ассамблее, которую в Европе не видали со времен Венского конгресса, «светлого праздника всех дипломатий», как писал о нем Герцен.
То был первый этап Совещания, он получился удачным: министры дали поручение разработать и положить на бумагу договоренности о том, как жить в Европе дальше. В наши миролюбивые декларации все еще верили даже после событий в Чехословакии в 1968 г., которые министр иностранных дел Франции Мишель Дебре охарактеризовал как «дорожный инцидент».
Второй этап начался 18 сентября 1973 г. и растянулся на почти два года – к делу подошли ответственно – до 21 июля 1975-го. Практически все государства Европы (33, кроме отказавшейся участвовать Албании, в 1990-х она вернулась), а также Соединенные Штаты Америки и Канаду представляли 375 делегатов.
Состоялось круглым счетом 2500 заседаний координационного комитета, различных комиссий и подкомиссий, специальных рабочих групп. Было рассмотрено около 4700 проектов и предложений. Титанический труд!
Подготовленные в ходе второго этапа документы образовали Заключительный акт Совещания. Он писался тридцатью пятью перьями, в том числе ватиканским. Святой престол принял участие в крупном международном «слете» впервые с 1824 г. В итоге среди подписантов Акта фигурировали два высокопоставленных служителя церкви, восемь коммунистов, восемь социал-демократов, семнадцать членов других партий.
При подготовке итогового документа, как когда-то в польском сейме, достаточно было одного несогласного, чтобы обсуждаемое положение не проходило. Знаменитый консенсус, впервые примененный в таком масштабе, высшая ступень демократии.
В Акте, как в Библии, было все: от принципов взаимоотношений государств до довольно детальных росписей конкретных вопросов сотрудничества в экономике, культуре, по правам человека. Была там и военная тематика, и так называемая follow-up – договоренность, как совместно следить за тем, чтобы процесс продвигался дальше. Наряду с консенсусом такой мониторинг являлся новым словом в дипломатической практике. Увесистый и содержательный получился «кирпич». Его название – Заключительный акт – было выбрано со значением. Восходило оно опять-таки к Венскому конгрессу 1815 г.
Как это делалось в МИДе. В Женеве советскую делегацию возглавлял замминистра Ковалев, считавшийся, и справедливо, «разрядочником». Ответственным в Центре Громыко назначил другого замминистра, Земскова, по воззрениям – антипода Ковалева. (Система сдержек и противовесов в миниатюре, придуманная, говорят, еще Монтескьё.)
У Игоря Николаевича Земскова было немало хороших качеств, в первую очередь, истовость в работе. Он и сгорел из-за этого раньше срока. Бывало, жду в предбаннике его кабинета. Работники секретариата понимают, что вопрос у меня срочный, но могут утешить только тем, что их шеф выполняет «особое поручение» министра. Наконец, Земсков появляется, без задержки зовет к себе, начинаю свой судорожный доклад. Он прерывает: «Минутку, Анатолий Леонидович». Достает из сейфа бутылку виски. Измученный ожиданием, не отказываюсь, и дело идет скорее.
В качестве недавно назначенного начальника Управления по общим международным проблемам я отвечал за СБСЕ на рабочем уровне. По-русски, мальчик за все. И действительно, почти все, касавшееся женевского этапа Совещания, прошло через мои руки. В каком-то смысле и ноги, ибо часто приходилось носиться бегом с Гоголевского бульвара, где размещалось управление, на Смоленскую площадь в главное здание МИДа, и обратно. Самым трудным было обеспечить одобрение либеральных блесток, шедших от Ковалева, но так, чтобы ортодоксальный комар носа не подточил.
Ковалев собрал в Женеве сильную команду, часто лучшее, что могли дать различные ведомства. Стены его кабинета были сплошь завешаны разграфленными полотнищами бумаги: туда заносились куски будущего шедевра. Заседали в «бункере»: так прозвали мрачное здание, где надолго засели за один стол европейцы.
Два месяца проработал там и я, живя в советском представительстве при женевском отделении ООН и питаясь сухомяткой, привезенной из Москвы (привет от Владимира Высоцкого). Командировочные давали мизерные, а из «загранки» полагалось привезти «сувениры».
Споры шли не только вокруг абзацев и предложений, но и отдельных слов. Обсуждаем в своем кругу очередной из десяти принципов межгосударственных отношений, а там встречается формула: «Все народы всегда имеют право…» Спрашиваю осторожного Ковалева: «Что здесь-то Вас смущает?» – «Слово “всегда”». – «Анатолий Гаврилович, ведь даже в песне Лебедева-Кумача поется: “Человек всегда имеет право…”». Глава делегации успокаивается, он постоянно ведет мысленный диалог с Москвой. Получить ее «добро» – дело не менее, если не более сложное, чем договориться с тридцатью четырьмя партнерами. (Потом я проверил: словечко «всегда» осталось!)
Из-за чего загорелся сыр-бор в Женеве? Советский Союз и, с разной степенью убежденности, наши союзники по Варшавскому договору добивались, чтобы был утвержден в непререкаемом виде принцип нерушимости границ. До сих пор такое понятие не встречалось в многосторонней международной практике. Эта формула включала в себя многое. Ее одобрение означало, что территориальное (мы подразумевали – и политическое) устройство в Европе не может быть измененю. Тем самым закреплялся раскол Германии, а с ним вхождение ГДР в социалистический лагерь. Игра на удержание в действии.
Немцы, и не только в ФРГ, прекрасно понимали смысл происходящего. Согласование принципа нерушимости границ вызвало жесткие споры. Отвергать его с порога, разумеется, не получалось. Сама мысль о территориальных притязаниях была ненавистна Европе, прошедшей через кровопролитную войну. Но и хоронить мечту о воссоединении было выше немецких сил, сколько бы ни говорилось об отсутствии реваншизма.
Выход нашли в так называемой «мирной оговорке», т.е. возможности изменения границ между государствами по их полюбовной договоренности.
С любой точки зрения это невозможно было оспаривать. Для пущей важности, однако, оговорку отделили от принципа нерушимости и включили в принцип суверенитета. Рассуждали так: кто же даст ФРГ такое согласие? ГДР – никогда, СССР – тем более, да и такие влиятельные страны, как Франция и Англия, будут не в восторге. Мало кто предвидел, что ГДР свободным волеизъявлением своих граждан сама отдаст себя в аншлюс. Никто не мог предположить и того, что произойдет с Советским Союзом через какие-то полтора десятка лет.
Идя навстречу нам в закреплении территориальных реальностей в Европе, Запад рассчитывал на встречные уступки в области прав человека. Не потому, что готов был копья ломать ради того, чтобы мы жили в более демократическом государстве. Определяющими являлись, как всегда, собственные интересы. Западные стратеги пытались хоть как-то размягчить советскую авторитарную систему, ибо считали ее, наравне с коммунистической идеологией, основной причиной экспансионистских устремлений СССР. Следовательно, угрозой своей безопасности, причем зловещей в силу полной закрытости принятия решений.
Таким образом, задачка сводилась к довольно простому уравнению: границы – vis-а1-vis права человека. Ваше большее спокойствие – за наше. Подход советского руководства был также прост: взять левую часть уравнения и не давать правую, заплатить за закрепление итогов войны возможно меньшую гуманитарную цену.
Два подхода в одном государстве. Брошенный на общеевропейскую «делянку», я довольно быстро увидел, что есть смельчаки, чья внутренняя позиция отличается от официальной. Они исходили из того, что нашему обществу выгодна и вторая часть уравнения. Включение в общеевропейские договоренности положений о правах человека могло бы способствовать давно назревшим демократическим переменам. При умелом ведении переговоров мы можем получить двойной выигрыш: и границы, и импульс к демократизации.
Водораздел насчет того, что утверждение гуманитарных принципов не есть уступка Западу, ибо нужно нам самим, проходил не между ведомствами, а внутри них. В массе своей чиновничий класс оставался выучеником Сталина, но повсюду, включая КГБ, аппарат ЦК КПСС или МИДа, имелась своя «свободолюбивая» ячейка, одновременно выступавшая за разрядку. Спустя много лет Ковалев рассказывал мне, что, готовя Заключительный акт, зачастую находил больше понимания на верхних этажах КГБ (его тогда возглавлял генерал армии Андропов), чем в МИДе.
Узок был круг этих «детей ХХ съезда», да и от народа были они не близко, но справедливо считали, что разделяют чаяния наиболее развитой части советского общества. Некоторые находились на постах, которые позволяли реально влиять на политику. Это и было аппаратное диссидентство. Ничем, кроме единомыслия, оно связано не было, никаких организаторских рамок не существовало. Выйти с подобными идеями на открытую трибуну исключалось полностью.
Бывший посол Великобритании в Москве Р. Брейтвейт пишет: «Мужчины и женщины, одинаково понимавшие причины невзгод своей страны, продолжали свои интеллектуальные искания на всем протяжении брежневской эры во всех уголках и закоулках правящего аппарата: в профессиональных журналах, в элитарных экономических и политических научно-исследовательских институтах, даже в аппарате Центрального Комитета самой Коммунистической партии»[2].
В этом отразилось растущее расхождение между интересами страны и политикой руководства. Противоречие было столь очевидно, что определенный раскол произошел внутри властной группировки в широкой трактовке этого термина.
Подчеркну, что в беседах с американскими и западноевропейскими руководителями Леонид Ильич постоянно поднимал тему Совещания, подталкивая к скорейшему завершению, причем на высшем уровне. В конечном итоге Заключительный акт вобрал в себя обе части уравнения. Как же он с его солидным гуманитарным довеском прошел номенклатурные жернова? Ведь до перестройки было еще далеко, а только с ней словосочетание «права человека» стало писаться без кавычек и без приставки «так называемые». Наиболее рациональное объяснение – Общеевропейскому совещанию с самого начала покровительствовал Брежнев. Во всех его ключевых выступлениях на международные темы люди, их готовившие, не забывали приподнять эту инициативу.
Брежнев, Косыгин, а за ними некоторые их сподвижники не боялись подпускать к себе способных помощников. Интеллигентов, по меткому выражению, высшей советской пробы. А те, что не без таланта, чаще всего были прогрессивно настроенные люди. Такие как А. Блатов, Г. Арбатов, А. Александров-Агентов, Н. Иноземцев, В. Загладин, Г. Шахназаров, А. Бовин, А. Черняев, Н. Шишлин, Б. Бацанов, Ф. Бурлацкий. Называю тех, кого запечатлела память, наверняка были и другие.
Тринадцатого января 1980 г. я записал разговор (после недавнего ввода наших войск в Афганистан он был откровенным) с опытнейшим Львом Исааковичем Менделевичем, одним из моих наставников в МИДе: «Многие руководители окружают себя такими помощниками, на фоне которых они сами хорошо выглядят. Потом из этой плеяды выходят новые руководители – естественный отбор наоборот. Громыко натура весьма противоречивая. Умеет находить и заставлять работать на себя талантливых людей. Хотя всю жизнь окружал себя и людьми другой категории, чтобы не сказать хуже, типа Макарова (старший помощник министра, его в министерстве звали “Васька-темный”. – А.). Но тут уже действует принцип личной преданности, да и жизнь заставляет нуждаться в помощниках на разные обстоятельства. И неизвестно, какой категории люди растут быстрее».
По самому строгому критерию в МИДе было немало высокопрофессиональных специалистов. Назову наиболее мне памятных: Добрынин, Корниенко, Ковалев, Фалин, тот же Менделевич, Воронцов. Они, в свою очередь, подбирали под себя способную молодежь. В итоге в МИДе работал мощный генератор идей. Громыко больше сводил свою роль к отбору предложений и согласованию их наверху.
Названные и не названные мною люди знали себе цену, могли на равных говорить с начальством, не робели резать правду-матку (и, кстати, были безукоризненно корректны в обращении с теми, кто стоял ниже на служебной лестнице). Иные наши руководители поощряли свободу высказываний. Но только в стенах кремлевских кабинетов или правительственных дач. Вне их «ведите себя по правилам», такое напутствие давал Андропов.
Мне выпала удача близко узнать этих людей на так называемых «дачных посиделках». Там группы речевиков, по-старинному стряпчих, готовили выступления советских руководителей. Постепенно я стал довольно часто привлекаться к этой работе, что сильно расширяло познание нашей действительности, особенно тех ее сторон, что были скрыты от посторонних глаз. На дачах были созданы все условия для работы. Прекрасная в любое время года подмосковная природа. Вкусная еда, сопровождаемая для желающих, а таких к вечеру становилось большинство, богатым выбором напитков, некоторые я видел впервые в жизни. Симпатичное женское окружение – квалифицированнейшие стенографистки-машинистки, сестры-хозяйки, труженицы общепита. «Поди кисло», как говаривал незабвенный друг молодости Генка Терехов.
Затаив дыхание, ловил я крамольные речи, удивлялся смелым дискуссиям. У каждого имелось свое мнение, спорили до хрипоты. В высоких канцеляриях реформаторы были в явном меньшинстве, но свое служебное положение они использовали сполна, пытаясь изнутри внести демократические начала. К сожалению, многие покинули этот мир, ничего не рассказав о своей, без преувеличения, благородной миссии. В нравственном смысле они были как бы верхушкой айсберга, скрытого в водах догматического мышления. А сам айсберг представляли те близкие по духу люди, которые собирались на своих кухнях по всему Союзу, оптимистичное поколение «застоя». Они не выставляли напоказ свои ценности, но следовали им: работать на благо Родины, искать правду, ибо тонула она в постоянной, ежедневной лжи, приближать перемены, верить, что они придут.
Фронтовика Брежнева справедливо прельщала возможность не только подвести черту под итогами войны, но и на будущее поставить большой конфликт в Европе вне закона. Тем самым надежно войти в историю.
А без такого противовеса, как права человека, Запад не согласился бы, убеждали Генсека его помощники, и это было чистой правдой. Степан Васильевич Червоненко, посол во Франции, рассказывая мне о своей беседе с Леонидом Ильичом накануне отъезда в Париж, выделил фразу, которая вырвалась у Брежнева: «Если состоится Хельсинки, то и умирать можно».
Давний соратник и друг, Андрей Грачев, высказал интересное предположение: не двигало ли Брежневым также осознанное или неосознанное покаяние за Чехословакию 1968 г. Мы увидим ниже, что Брежнев долго сопротивлялся вводу войск, сокрушивших Пражскую весну. А решения СБСЕ могли трактоваться как запрещающие на будущее подобного рода акции.
Третий этап Совещания – принятие Заключительного акта – обещало стать подлинным апофеозом и стало им. Церемония подписания состоялась в Хельсинки 1 августа 1975 г. Политбюро, Президиум Верховного Совета, Совет Министров в совместном документе дали высочайшую оценку результатам Общеевропейского совещания. Они того стоили, ибо предметно доказывали: прорыв в отношениях между Востоком и Западом возможен, мирное сосуществование капитализма и социализма переводится на основу, устраивающую обе системы. Открывались новые возможности для улучшения отношений с западноевропейскими государствами. К сожалению, жизнь документа оказалась такой же непростой, как его появление на свет.
Как и что выполнять. Все сколько-нибудь существенные новинки, принятые на Совещании, в первую очередь, в гуманитарной области, Громыко предварительно, как мы говорили, «пропускал через инстанцию», т.е. получал одобрение ЦК КПСС. А подпись Леонида Ильича под Заключительным актом должна была вообще снять все вопросы. Должна была, но не сняла.
Хранители сложившихся десятилетиями порядков, а тем пуще идеологической чистоты в советском руководстве, никоим образом не поминая Леонида Ильича, да и Громыко не называя по имени, сосредоточили огонь на МИДе. Неприятности начались, когда улеглась эйфория и помощники показали Суслову и ему подобным «избранные места» Заключительного акта. Оказалось, что среди десяти принципов, которыми должны отныне руководствоваться в своих взаимоотношениях государства, фигурирует такой, как «уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений».
Более того, в документе обнаружились конкретные договоренности по облегчению доступа к информации, воссоединению семей, возможности жениться или выходить замуж за иностранцев, приглашению наблюдателей на военные маневры. Выходит, все это не является более нашим внутренним делом? Оговорки, которыми эти пассажи были обставлены предусмотрительным Ковалевым, всерьез не принимались. Из-за изжоги по поводу прав человека не очень радовались значительным потенциальным преимуществам, которые давала «вторая корзина»: экономика, наука и техника, охрана окружающей среды. К последней проблеме, столь разросшейся в будущем, международное внимание было привлечено в Заключительном акте впервые.
«Третьей корзиной», упрекали МИД ортодоксы, вы заплатили за то, что в реальной жизни и так имеем: нерушимые границы, существование ГДР. Запад же получил лазейки для вмешательства во внутренние дела СССР.
Последовали и некоторые оргвыводы. Главу делегации в Женеве Ковалева «прокатили» на выборах в один из органов ЦК – Ревизионную комиссию. Точнее, не включили в список тех, кого благополучно выбрал XXV съезд партии. Напомню, что членство в высших партийных органах очень высоко ценилось, да и привилегии были немалые.
Ковалев пишет в своих мемуарах (я прочел их в рукописи), что несколько лет спустя Андропов доверительно сказал ему: «Вычеркнул тебя Громыко». Если это так, то он, дав возможность Ковалеву довести до конца дело, которое поощрял Генсек, после этого сыграл и на поле «сусловцев». Но в написании знаменитой Программы мира, принятой XXV съездом, Ковалев активно участвовал. Равно как и служил все последующие годы верой и правдой министру, который советовался с ним по наиболее важным вопросам.
Но как все-таки выходить из положения с неподходящими пассажами? Очень просто: спустить на тормозах. Анатолий Федорович Добрынин, колосс нашей дипломатической службы, считает, что такая линия была определена с подачи Громыко еще до подписания Заключительного акта. Он убедил товарищей по Политбюро, что выполнение гуманитарных договоренностей в любом случае остается в руках советской стороны. «Мы хозяева в собственном доме»[3]. Тем более что эти положения, как и все другие в Акте, носят не обязующий, а морально-политический характер. Как после партсобрания, поговорили и разошлись.
По части прав человека Громыко был настроен вполне определенно. Слушая его, когда он давал отпор тем западным деятелям, которые решались затронуть эту тему, создавалось полное впечатление, что Андрей Андреевич говорил убежденно. Он мог с непритворным удивлением спросить у американского госсекретаря Шульца, ратовавшего за советского гражданина, которого не выпускали из СССР: «Так ли это важно, чтобы мистер такой-то мог или не мог покинуть свою страну? Это десяти-, если не сторазрядный вопрос». В сентябре 1977-го, беседуя с «умником» Картером насчет прав человека, Громыко прочел ему настоящую нотацию, как если бы нашей подписи два года назад в Хельсинки вовсе не существовало.
Подобному настрою Громыко не изменил. Когда 27 октября 1986 г., уже в перестройку, на Политбюро обсуждался вопрос о работе с интеллигенцией, Андрей Андреевич вставил свое слово: «Некоторые писатели пытаются смаковать репрессии… Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы»[4]. (Осип Мандельштам погиб в 1938 г. в ГУЛАГе, и даже его тело не было найдено.)
Одновременно мы клялись с высокой трибуны XXV съезда КПСС в верности всем положениям Заключительного акта. Ему вообще поначалу была придана беспрецедентная «паблисити». Весь Акт, без купюр, был опубликован в «Известиях» миллионными тиражами. Более того, десять принципов взаимоотношений между государствами, закрепленные в Заключительном акте, целиком вошли в новую Конституцию СССР (1977). Но были там высокопарные фразы: «Начался всемирно исторический поворот человечества от капитализма к социализму».
По свидетельству коллеги и друга Юрия Кашлева, съевшего пуд соли на Общеевропейском совещании, инициатива включения принципов СБСЕ в конституцию исходила от Ковалева.
В качестве «оправдания» тех, кто прибег к приему: «подпишем, но не сделаем», скажу, что придуман он был много раньше. В свое время СССР подписал практически все основополагающие документы в области прав человека. Наше руководство этим весьма козыряло, особенно на фоне США. Те не спешили что-то подписывать, пока не были уверены, что получат пользу от выполнения.
В ходе работы в Женеве прецеденты в гуманитарной области сыграли на руку Ковалеву: как можно было отказываться от внесения в Заключительный акт положений, почти дословно взятых из тех международных соглашений, которыми мы уже обязались руководствоваться?
Во внутренней же жизни СССР вопреки либеральным стараниям и надеждам мало что изменилось. Некоторые отдушины типа воссоединения близких родственников были открыты, но не больше. В целом матрица страны закрытой осталась в неприкосновенности.
Крамольные разделы сознательно клались под сукно, а то и отыгрывались назад из того, что было уже сделано в соответствии с Заключительным актом. К примеру, сразу после его принятия приостановили, хотя и выборочно, глушение зарубежных радиопередач. Очень скоро, однако, этот затратный механизм – работало более двадцати станций глушения – был восстановлен. Полностью глушение прекратили лишь в 1988 г. при Горбачеве.
В свою очередь, американские правые резко критиковали президента Джеральда Форда, подписавшего Заключительный акт, за «новую Ялту», увековечивание раскола Европы.
А вот в европейском межгосударственном общении климат улучшился. Так, по горячим следам окончательно договорились между собой насчет Триеста Италия и Югославия. Пошли в гору двусторонние связи, в том числе в новых формах, согласованных в Хельсинки. Оживились контакты между рядовыми гражданами. Несколько смягчившаяся атмосфера способствовала сотрудничеству в экономической и культурной областях. С рядом западноевропейских государств были подписаны долгосрочные соглашения о поставках советского природного газа.
Белград, 1976–1977 гг. Первая встреча стран – участниц Совещания, созванная в целях проверки исполнения хельсинкских договоренностей, свелась к топтанию на месте. Нашу делегацию во главе с Юлием Михайловичем Воронцовым постоянно обвиняли в отступлении от Заключительного акта. Особенно отличался в этом отношении американец Макс Кампельман, не устававший заявлять, что «с Советами нельзя иметь дело». С помощью нехитрой пропагандистской передержки Акт подавали для широкой публики как содержавший одну только «третью корзину». Запад тогда, до Югославии, трудно было обвинять в нарушении принципа нерушимости границ, в то время как нас клевали за невыполнение вполне конкретных обязательств в гуманитарной области.
Ни Воронцов в Белграде, ни мы с Ковалевым в Москве не смогли убедить министра пойти на компромисс. В этих обстоятельствах ничья в острой дуэли была не самым плохим результатом. Могли вообще остаться без общеевропейского процесса, не в последнюю очередь по причине жестких указаний из Москвы, как сказал мне Воронцов, вернувшись из Белграда. (Подобная оценка содержится и в его недавно опубликованных воспоминаниях.) Подоплека происходившего стала для меня проясняться в ходе следующей встречи СБСЕ.
Как понимать разрядку? Локальные трудности в столице Югославии вписывались в более широкий политический контекст. На словах за разрядку выступали вроде и Восток, и Запад. Но насчет того, что это означает в реальной жизни, различия возникли кардинальные. До сих пор между историками и политиками идет спор, кто как понимал разрядку. Американцы считают, что для советских руководителей эпохи Брежнева она означала лишь управление холодной войной с тем, чтобы не перейти в горячую. Думаю, это не совсем верно. Международная политика Леонида Ильича была нацелена на долговременное сотрудничество с США, не говоря уже о Западной Европе. Точнее, хотела этого, но на наших условиях. Даже введя войска в Афганистан, мы пытались сохранить какой-то минимум конструктивных отношений с американцами. Но тут уж они закусили удила.
Наша доктрина «мирного сожительства» содержала серьезные изъятия. Сохранение статус-кво в Европе, где его обеспечивали не столько хельсинкские заповеди, сколько армии, стоящие друг напротив друга, милости просим. Нормализация связей с США – то же самое.
Огромный же массив развивающихся стран оставался вне разрядки. На отношения «между угнетателями и угнетенными» принцип мирного сосуществования не распространялся по определению. Если представляются возможности расширить зону влияния социалистического лагеря, то не воспользоваться этим есть предательство дела социализма и национально-освободительного движения.
Таким образом, противостояние двух общественных систем переносилось в «третий мир», где, по господствовавшей в США в 1970-е точке зрения, мы их переигрывали. Особо нас попрекали Анголой, которую мы якобы прихватили вместе с кубинцами всего через несколько месяцев после подписания Заключительного акта. Действительность, как будет показано во второй части, была сложнее, но суть дела особо не меняла, ибо появившееся в Анголе правительство считалось «нашим». Ставили в упрек также наши и кубинские действия в Эфиопии, Йемене, Мозамбике, Никарагуа, где СССР поддерживал «прогрессивные» режимы или течения. Противоположная сторона тоже, естественно, не дремала, у нас был к ней свой список претензий. В вооруженные региональные конфликты оказались опосредованно вовлечены обе сверхдержавы, какое уж это мирное сосуществование. Хорошо еще, что между СССР и США действовала (после тяжелого опыта Кореи и Вьетнама) молчаливая договоренность не доводить дело до прямого военного столкновения.
Разрядка, как мы ее понимали, отторгала так называемую идеологическую конвергенцию. Хорошие отношения с Францией мы называли константой и действительно дорожили ими. Помню, сколько сил приложили мы в Первом Европейском отделе, готовя в октябре 1975 г., т.е. на волне Хельсинки, визит в Москву французского президента Жискар д’Эстена. Стоило ему, однако, высказать вполне здравое предположение, что коммунистическая и западная идеология могут вобрать в себя позитивные черты обоих мировоззрений, как он получил публичную отповедь. «Француз политграмоты не знает», – прокомментировал Брежнев среди своих.
Уязвимость разрядки проистекала и от того, что при любой погоде в советской номенклатуре существовали обширные сегменты, которым она была не по душе: военные, утверждавшие, что «разрядка – это не наше слово», ВПК, идеологи-догматики, наконец, те недовольные (используя их выражение) «бардаком в стране», которые причину его видели также и в либеральных послаблениях, на которые мы идем в угоду Западу. Кардинально отличающиеся друг от друга политические и социальные институты СССР и США, менталитет и культура руководителей, так сказать, системная несовместимость серьезно затрудняли нахождение между ними общего языка и тем самым более согласованных действий даже тогда, когда было желание договориться.
Справедливо упомянуть еще одно обстоятельство: на этот рубеж приходится ухудшение здоровья Леонида Ильича. Контроль за внешней политикой все более уходил из его рук. Полновластными фигурами становятся Громыко, Андропов, Устинов. Афганская эпопея, начавшись в декабре 1979-го, окончательно добила разрядку и там, где она еще оставалась. Начался период, который позже был назван «вторым изданием» холодной войны. Он продолжался вплоть до перестройки.
Академик Арбатов высказал однажды мысль, что «будь Брежнев здоров, мы, возможно, удержались бы от ввода войск в Афганистан»[5]. Вот что означает система, позволяющая безграничное, до смерти лидера, пребывание у власти.
Добавлю к этому: сторонники разрядки еще потому так цеплялись за нее, что рост напряженности вовне сразу же сказывался завинчиванием гаек внутри.
Мадрид. Вторая встреча в русле Заключительного акта, проходившая в столице Испании, была похожа на стычку, затянувшуюся на три года, с 1980 по 1983-й. Еще бы, ее фоном стали Афганистан, ракеты средней дальности (РСД) в Европе, военное положение в Польше, бойкот Московской олимпиады, гибель южнокорейского «Боинга». Все это едва не поставило крест на общеевропейском процессе. Спас его Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. В этом смысле он как бы продолжил линию своего предшественника.
Рассказываю о том, в чем участвовал. Глава советской делегации в Мадриде – Леонид Федорович Ильичев, ранее секретарь ЦК, а ныне заместитель Громыко. Человек явно небесталанный, но взглядов отнюдь не разрядочных. С американцами – их делегацию опять возглавляет «ястреб» Кампельман – действует острием против острия. Дело может кончиться тем, что будет принят формальный итоговый документ подобно белградскому, либо же запишут, как предлагают США, что договориться не удалось. Потери грозят не только символические. Может сорваться созыв конференции по мерам доверия и разоружению в Европе. Это была инициатива, с которой выступил Советский Союз. Она стоила немалых трудов сторонникам разрядки, боровшимся с ее угасанием. Затем мы подключили Францию и в тандеме с ней несколько лет ратовали за конференцию. И теперь все может пойти прахом.
На рабочем уровне я по-прежнему отвечаю в МИДе за хельсинкский процесс и, близко варясь в этой каше, вижу, что Громыко с самого начала не был настроен на успех Мадрида. Ныне он откровенно топит его. Подспудная логика все та же: политические плюсы в виде нерушимости границ в кармане, а от гуманитарных минусов надо избавляться. Они особо вылезали на встречах, подобных Мадридской и ее предшественницы – Белградской. Громыко любил повторять: «Вырезать дно этой самой “третьей корзины”».
Привожу дословно высказывания министра: «В гуманитарных делах дошли до грани, дальше отступать некуда; платить за конференцию по военной разрядке уступками по “третьей корзине” не будем, ибо не приходится рассчитывать на ее плодотворную работу при нынешней политике США и НАТО, более того, она может быть использована как ширма для размещения американских ракет».
Повлиять на Громыко не в состоянии ни телеграммы Ковалева, сменившего Ильичева в Мадриде, ни тем более я, всё еще на хозяйстве ОБСЕ в МИДе. Остается последнее: звоню по вертушке Блатову, помощнику Андропова. Сперва Анатолий Иванович драматизма не чувствует, ибо выясняется, что полной информацией не владеет: Генсеку депеши из Мадрида направляются выборочно (распоряжение на выпуск телеграмм из МИДа дает министр). Схватывает тем не менее мгновенно. На следующий день Блатов мне перезванивает, говорит по своему обыкновению иносказательно: «Тревожный сигнал возымел действие». Это уже стало понятно по поведению Громыко: разворот на 180 градусов.
Теперь он, вызвав замминистров Ильичева, Комплектова и меня, завотделом, дает другие указания: «Как бы сманеврировать, чтобы и документ сохранить, и принципами не поступиться», «кое-кого (из диссидентов. – А.) можем отпустить в качестве одностороннего нашего жеста», «на будущей конференции по военной разрядке против нас никакого решения не может быть принято», «Запад пошел на определенные уступки, второстепенные моменты роли не играют». Словом, сама конструктивность. Мои старшие коллеги, с удовольствием выполнявшие прежние жесткие установки, не верят своим ушам, на Ильичева жалко смотреть. Зато радуемся мы, «голуби», включая доброго друга Толю Слюсаря. Пометил потом для себя, что первый замминистра Корниенко сохранял на всем протяжении Мадрида достойную позицию, верно слушаясь Громыко, но давая и мне возможность пробовать альтернативные варианты, которые «до сигнала» безжалостно отметались.
В свою очередь, предупрежденный Ковалев провоцирует кризис в Мадриде, просится в Москву и окончательно обговаривает с министром финальные развязки. Мадрид избегает провальной участи, принимается решение о вышеназванной конференции, она открывается в январе 1984 г. в Стокгольме и через два года, уже в перестройку, успешно заканчивается.
Это был один из редких случаев, когда «либеральная засада» принесла успех. Внести серьезные коррективы во внешнюю политику было не под силу, оставалось пытаться минимизировать ущерб.
Не то чтобы Громыко был меньше, чем Андропов, настроен на то, чтобы не закрывать просветы в отношениях с Западом. Но разговоры в руководстве насчет «промашек» по части прав человека задевали его как главу внешнеполитического ведомства. Генсек Андропов был в этом смысле «чист». Однажды он наставлял нас, небольшую группу, писавшую проект его выступления: «С друзьями (так мы именовали союзников по Варшавскому договору. – А.) права человека не трогайте. У себя мы послаблений давать не можем, но их тащить к нашим позициям не надо».
Прочитав через тридцать лет мемуары Ковалева, узнал, что Андропов настраивал его на то, чтобы довести Мадридскую встречу до успешного завершения. Ему был нужен хоть один заметный внешнеполитический результат на фоне одной только конфронтационной перебранки. Анатолий Гаврилович так пересказывает высказывания Андропова: «Лет через пятнадцать-двадцать мы сможем себе позволить то, что позволяет себе Запад: большую свободу мнений, информированности, разнообразия в обществе, в искусстве. Но это только лет через пятнадцать-двадцать, когда удастся поднять жизненный уровень населения».
Перестройка Горбачева нацелилась на большую свободу значительно раньше и добилась, как мы увидим в последующих главах, существенных результатов. Я любил говорить, что в истории России было лишь два периода свободы. Первый, с большой натяжкой, с февраля (скорее даже с июля) по октябрь 1917 г., до тех пор, пока большевики не разогнали Временное правительство А. Керенского. И перестройка, исчисляемая несколькими годами и шедшая уже к закату, когда ее добила Беловежская пуща Ельцина.
Получив напутствие от Генсека, что во все времена было для Громыко решающим, он с легкостью отказался от жесткости.
Дух Хельсинки являлся своеобразным барометром разрядки: идет общеевропейский процесс – есть смягчение напряженности, не идет – жди плохих новостей. Нападали на него с разных сторон, в том числе и с нашей, и, в конечном счете, выхолостили.
Особо следует выделить многомесячные бомбардировки США и НАТО Югославии с целью отторгнуть ее «историческую родину» – Косово в пользу албанцев. Принцип нерушимости границ был нарушен вопиющим образом. Обвиняя нас в связи с присоединением Крыма в нарушении принципов Заключительного акта, якобы впервые со времени его принятия, представители стран НАТО раздраженно и даже агрессивно реагируют, когда им напоминаешь, что они начали первыми.
О времена, о нравы, говорили древние римляне. Как же они изменились с той поры, когда европейцы, сев за один стол, определили нормы поведения на международной арене.
Очерк третий
Пражская весна
Официальная «История внешней политики СССР (1945–1985)» под редакцией А. Громыко и Б. Пономарева одним из главных достижений периода 1964–1971 гг. считает «совместное обеспечение завоеваний социализма в Чехословакии усилиями братских стран»[6]. За этой благообразной формулой скрывается вооруженное подавление попытки реформировать неработающую социалистическую модель. В ЧССР реформы воспринимались и как стремление выйти из-под чрезмерной зависимости от СССР. Ни то, ни другое не подходило советскому руководству.
Для Брежнева настало первое серьезное испытание. Верный своему миролюбивому образу, он до последнего отказывался пойти на «крайние меры» – термин, который был тогда в ходу применительно к Чехословакии. Именно из-за этого лихорадочные поиски политического решения продлились довольно долго. Но генсеку в Политбюро и около противостояли деятели, настроенные более жестко. Не меньшее значение имело и то, что Брежнев не был еще до конца уверен в прочности своего кресла. (В Политбюро входила группа лиц: А. Шелепин, Н. Подгорный, А. Кириленко, на стопроцентную поддержку которых трудно было рассчитывать.) Кроме того, генсека подзуживали союзники по Варшавскому договору, такие как В. Гомулка, Э. Хонеккер, Т. Живков, а также некоторые деятели внутри самой Чехословакии. Апрельский и июльский пленумы ЦК КПСС были настроены решительно: «Социалистическую Чехословакию не отдадим». Проявление «слабины» в этих условиях делало положение Леонида Ильича уязвимым.
В пользу вооруженной интервенции активно выступили Громыко и Андропов, те же деятели, что в следующем десятилетии настояли вместе с Устиновым на вводе войск в Афганистан. Просматривается определенная преемственность: в 1956 г. Андропов, тогда посол в Будапеште, настойчиво предлагал применить силу в Венгрии.
На заседание Политбюро 2 июля 1968 г. были вызваны посол в Праге С. Червоненко и главный редактор «Правды» М. Зимянин, специально направленный в ЧССР для выяснения обстановки. Их «мягкотелые» соображения, как подтвердил мне много лет спустя Степан Васильевич, не встретили поддержки большинства участников, хотя Брежнев пытался сохранить осторожную позицию.
Мы много лет по роду службы близко соприкасались с Червоненко, и думаю, что подружились, взгляды наши совпадали. Врезался в память и другой его рассказ: в бытность послом в Китае он неоднократно шел на то, чтобы не выполнять «волевые» указания Центра, не боясь класть партбилет на стол. Речь шла о передаче КНР атомных и ракетных технологий.
В апреле 1981 г. Громыко направил меня как заведующего Отделом, отвечающего за Францию, в Париж, чтобы передать его выговор Степану Васильевичу (в то время послу). Вернувшись, доложил, что Червоненко поступил правильно. На этот раз выговор – за то, что не отмежевался от посла, – схлопотал и я.
«Сторонником жестких и скорых действий, – пишет на основе архивных данных Рудольф Пихоя, – был Громыко». «Теперь уже очевидно, – цитирует его Пихоя, – что нам не обойтись без вооруженного вмешательства»[7].
Громыко успокоил и насчет возможной реакции Запада: «Думаю, что сейчас международная обстановка такова, что крайние меры не могут вызвать обострения, большой войны не будет… Но если мы действительно упустим Чехословакию, то соблазн великий для других»[8]. В конце концов и Брежнев пришел к заключению: «Если мы потеряем Чехословакию, я уйду с поста Генерального секретаря».
В памяти осталась напряженная обстановка, царившая тогда в МИДе. Мой непосредственный начальник Игорь Матвеевич Ежов по-товарищески делился информацией о том, как метались от политического решения к военному и наоборот. В министерстве были отменены отпуска даже для тех, кто вроде не имел никакого отношения к ЧССР. После вторжения половина МИДа разъехалась по санаториям и домам отдыха: заговорили танки, стихла дипломатия. Зарубежные обозреватели впоследствии подметили, что это была единственная военная акция от имени Варшавского договора в целом.
Громыко оказался прав: «крайние меры» не привели к войне. Да и жесткой реакции со стороны США и НАТО не последовало. Тогда еще действовала парадигма: две великие державы «у себя» делают то, что считают нужным. (Любители империалистических заговоров могли и в этом случае увидеть происки Вашингтона: дав понять, что «проглотят» нашу акцию в Чехословакии, американцы подтолкнули нас к ней.)
На дистанции, однако, сработала бомба замедленного действия. Ввод в Чехословакию войск СССР и его союзников по Варшавскому договору стал критической точкой невозврата на целом ряде направлений. Чехи справедливо называли «оккупацией» последующее пребывание в течение 20 лет на их территории советских войск.
Был нанесен тяжелый удар по международному престижу СССР, по мировому социализму в целом. Начался отход от КПСС коммунистических и левых сил, включая такую мощную в Западной Европе силу, как итальянская компартия. Стали загоняться внутрь проблемы и противоречия в странах Восточной Европы, взорвавшиеся через два десятка лет.
Но самый большой урон понесло советское общество. Была свернута экономическая реформа Косыгина, поскольку в рыночных новшествах чехов и словаков увидели угрозу социалистическому строю. В замыслах косыгинских реформаторов предусматривался второй этап: за экономической либерализацией должны были последовать некоторые политические послабления.. И здесь «нововведения» чехословацких деятелей: отказ от цензуры, свобода печати, собраний и ассоциаций, возможность поездок на Запад – были сочтены вредоносными. Надежды на демократизацию советского общества оказались перечеркнуты, возобладали догматические методы управления, усилилось подавление инакомыслия. Прав академик Георгий Арбатов, отмечая, что застой начался с «наведения порядка» в собственном доме после сокрушения сторонников реформ и демократии в Чехословакии[9].
Советское руководство все больше загоняло себя в угол логикой холодной войны. Через десять лет случилась афганская трагедия, через двадцать от нас ушла не только Чехословакия, но и вся Восточная Европа. Пытаясь силой удержать всё, всё и потеряли.
Не хочу создавать впечатление, что в момент событий я видел, что совершается ошибка. Сомнения, разумеется, были, но еще сохранялась вера, что наверху знают, что делают, довлел авторитет министра, а главное, еще сильны во мне были стереотипы насчет борьбы с империализмом, необходимости отстаивать позиции социализма и т.д. Да и объективной информации не хватало. Прозрение не было скорым. Сегодня, вспоминая прошлое, приходит мысль: не будь событий в Чехословакии, мы начали бы перестройку на полтора-два десятилетия раньше. Тем самым, возможно, спасли бы трансформированный Союз.
Очерк четвертый
Афганистан
О вводе войск я узнал утром следующего дня из сообщений по радио. Пройдя через кованные белым металлом массивные двери МИДа, увидел по лицам, что эта новость потрясла не только меня. Но на все мои расспросы осторожный Анатолий Гаврилович Ковалев ответил одной фразой: «Я этого не понимаю». Спустя тридцать шесть лет могу повторить эти слова.
Почему два года мы говорили «нет» просьбам афганского руководства? Политбюро, не раз единогласно принимало решения, которые прямо предусматривали отказ от ввода войск. Аргументация в этом случае была убедительной, как это следует из выступления Громыко на заседании Политбюро 17 марта 1979 г.: «Наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против афганского народа прежде всего, и в него надо будет стрелять» (цитируется по архивным материалам). В декабре же 1979 г. Политбюро единодушно, если не считать Косыгина, проголосовало за противоположную позицию? Впрочем, при чем тут Политбюро? Иные его члены узнали о случившемся из газет, а постановление подписали задним числом.
Помощник двух генсеков, Анатолий Иванович Блатов, человек, к которому сохраняю благоговейное отношение, в давнишнем аккуратном разговоре со мной стал выделять троицу: Юрия Владимировича Андропова, главу КГБ, Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны, Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел, По Блатову, в последние недели 1979 г. они несколько раз приходили к Брежневу с радикальными предложениями по Афганистану. Тот все отказывался, говорил, что это самоубийство. Еще совсем недавно генсек сказал тогдашнему афганскому руководителю Тараки, отвечая на его просьбу «помочь войсками»: «Этого делать не следует, это сыграло бы на руку врагам и вашим, и нашим». Но однажды, когда, по словам Блатова, ослабевший Брежнев особенно неважно себя чувствовал, он махнул рукой: делайте, черт с вами.
Возможно, добавлял Блатов, рассуждали так: сменим неуправляемого Амина, поставим Кармаля, припугнем моджахедов, наведем порядок и через короткое время уйдем. Заодно и кое-какое оружие опробуем. Останется разгон и для Олимпийских игр в 1980 г., и для очередного съезда КПСС, намеченного на весну 1981-го.
Главную опасность по обыкновению видели в происках США. При немолодых руководителях, видимо, посчитали, что американцы, беря реванш за поражение в Иране, могут прибрать к рукам Афганистан. Последствия такого поворота для безопасности СССР представлялись самыми серьезными. Не только это. Космодром в Байконуре был единственным. (Помечу, что средний возраст членов Политбюро немного не доходил тогда до 70 лет, причем шло по нарастающей: при Сталине этот показатель был 55 лет; Брежнев стал Генсеком в 56 лет, Андропов – в 68, Черненко – в 73 года.) Свою роль сыграл идеологический фактор. Молодые военные, свергнувшие короля Дауда, о своих планах, кстати, они нас не уведомили, провозгласили своей целью социалистические преобразования. Это сразу подняло ранг страны в наших глазах, ею начал активно заниматься Международный отдел ЦК. Подстегнуло, возможно, и то, что, по нашим подсчетам, к концу 1970-х мы не в пример кубинскому кризису более-менее сравнялись с США по военному, прежде всего ядерному арсеналу.
Коллега по МИДу Олег Гриневский считает, что алармистские настроения – мы можем потерять Афганистан, и вакуум заполнят американцы – подогревались некоторыми работниками разведывательных ведомств. Сообщений, на которые ссылается Олег, я не видел, но это утверждают другие авторы, в частности, генерал А. Ляховский и такие знающие люди, как посол А. Добрынин и первый замминистра иностранных дел Г. Корниенко[10]. Могу удостоверить, что телеграммы КГБ советское руководство рассматривало как наиболее соответствующие действительности. Мне не раз приходилось слышать: «Они знают». А вот точка зрения исследователей Горбачев-Фонда: «Амин, как и Тараки, заверял в дружбе с Советским Союзом. Но его заподозрили в том, что он готовится “перекинуться” к американцам. Так ли это или речь шла о провокации спецслужб, установить до сих пор не удалось»[11]. Из книги А. Добрынина следует, что госссекретарь США Вэнс уверял его: Амин – не американский агент.
Сегодня, после того как открылись архивы, после того как написали книги или дали интервью непосредственные участники «афганского котла», представляется, что американцы могли подпортить нам кровь, но входить в Афганистан не думали. Руководитель ЦРУ в то время адмирал С. Тернер говорил мне при встрече на одном из симпозиумов,, что они даже не рассматривали возможность вооруженного вмешательства, считая, что это неподъемно и не сулит больших выгод. Их черед пришел позднее, когда они повторили все наши ошибки в Афганистане[12].
Претензии к Амину, агенту ЦРУ или нет, были серьезные: режим, который он установил в стране, был кровавой диктатурой. В Москве не могли ему простить убийство в октябре 1979 г. предшественника и «друга» Тараки, только что вернувшегося из СССР. По восточному обычаю его задушили подушками. Это был переломный момент. Брежнев тяжело переживал случившееся, считая, что он дал Тараки личные гарантии безопасности и просил Амина не трогать его.
Были люди в наше время. Мужество тогда проявили немногие, но все-таки проявили. Один из них – начальник Генерального штаба ВС маршал Н. Огарков. По служебным делам я неоднократно встречался с ним. Он производил сильное впечатление знанием предмета, здравым умом, интеллигентностью в духе лучших традиций русского офицера. Оказалось также – об этих внутренних перипетиях я узнал позже, – что он обладал еще редким чувством ответственности. Не раз Огарков пытался предотвратить роковое решение, и Косыгин поддерживал его. Не побоялся Николай Васильевич пойти на рожон, когда его вызвали на узкое заседание Политбюро, но там ему просто заткнули рот.
А. Ляховский в своем капитальном труде «Трагедия и доблесть Афгана»[13]описывает это следующим образом: «Проблему надо решать политическим путем, не уповая на силовые методы… мы можем втянуться в боевые действия в сложной стране, не зная как следует обстановку… восстановим против себя весь восточный исламизм, – говорил Огарков, – и политически проиграем во всем мире». Но его резко оборвал Андропов: «Занимайтесь военным делом! А политикой займемся мы, партия, Леонид Ильич!» И далее: «Вас пригласили не для того, чтобы выслушивать ваше мнение, а чтобы записывали указания Политбюро и организовывали их выполнение». На сторону главы КГБ встал министр обороны Устинов, несмотря на возражения его Генерального штаба.
Огарков оказался совершенно прав: на Генеральной Ассамблее ООН, где мы обычно собирали большинство голосов, по Афганистану против нас проголосовали 104 страны и только 17 «за». Позже я вычитал, что Огарков глубоко «копал» историю, в особенности провал в 1929 г. попытки Сталина военным путем восстановить на троне дружественного нам Амманулы-хана[14].
А что Громыко? Когда мы с бывшими коллегами по МИДу возвращаемся к афганской трагедии, они в один голос утверждают, что наш министр до самого конца был против. Его первый заместитель Корниенко в своих воспоминаниях уверяет, что «не Громыко сказал “а” в пользу такого решения (о вводе войск. – А.), скорее его“ дожали” вместе Андропов и Устинов». Георгий Маркович добавляет, что он пришел к этому заключению после разговоров с самим Громыко. Иными словами, поверил ему на слово. И признается, что не раз задавался вопросом:
«Не лучше ли было в самом начале уйти в отставку, не быть причастным к выполнению решения, которое представлялось мне со всех точек зрения неправильным и просто неразумным. Однозначного ответа на этот вопрос я так и не нашел»[15].
Мог ли авторитетнейший министр иностранных дел не допустить вторжения? Не рискну ответить положительно на такой вопрос, скорее, думаю, мог. Известно, что Брежнев проявлял колебания. На протоколе о решении Политбюро по «А» – Афганистану – не стоит подпись Косыгина. Не мог не знать Андрей Андреевич и того, что возражают старшие военачальники. Из перелопаченных мною материалов не явствует, что со стороны Громыко последовали какие-либо возражения. Его подпись на протоколе в числе первых.
И здесь одно из двух: либо Громыко не просчитал последствия такой серьезной акции, как ввод войск в Афганистан. И в этом случае речь идет о профессиональной ошибке, о которой пишет Георгий Маркович Корниенко: «Определенно был допущен серьезный просчет, особенно непростительный для Громыко»[16]. Либо же министр иностранных дел, «дожав» себя, счел более важным сохранить единство правящей тройки и свое место в ней. То есть выбрал себя.
Как мы увидим дальше, не пойдет Громыко против «своих» и при ключевом обсуждении проблемы ракет средней дальности в Европе. Он отмолчится.
Не Политбюро in corpore, а три-четыре человека сочли себя вправе решать от имени огромной страны и ставить ее перед свершившимся фактом.
Серьезной экспертизы, насколько можно судить, проведено не было, об обсуждении за пределами узкого круга и говорить нечего. Один из мидовских старожилов, посол Юрий Назаркин вспоминает: «Когда эта троица (названная выше. – А.) договаривалась между собой, обговорив решение с генсеком (обычно в неофициальном порядке, скажем, на охоте), ни у кого из членов Политбюро не возникало желания идти против»[17].
«Троица» и дальше продолжила заправлять международными, да и внутренними делами Советского Союза. Положение Громыко в ней поколеблено не было, скорее, упрочилось. Иная судьба постигла Косыгина: вскоре он был довольно бесцеремонно отправлен в отставку, а в октябре 1980 г. умер.
«Побочный эффект» круговой поруки – девятилетняя война.
«Страсти» по Афганистану. Необходимо было объяснить такой неординарный шаг, как ввод войск в соседнюю, причем дружественно к нам настроенную страну. В МИДе это сделал министр на экстренном заседании коллегии вечером 28 декабря 1979 г. Созывалась она как узкая: за длинным столом человек двадцать пять, не больше. Стулья вдоль стен могут вместить еще человек тридцать, но они пусты. До этого на коллегии Афганистан вообще ни разу не обсуждался.
Здесь стоит отметить, что коллегия призвана была играть в МИДе ту роль, что совет директоров в корпорации. Разница была лишь в том, что наша, формально принимая свои постановления, фактически ничего не решала. Более того, и обсуждение-то крайне редко походило на дискуссию. Дополнительную накачку, кое-какую информацию мы получали, но не более того.
К примеру, министр подытоживает заседание от 18 декабря 1982 г., посвященное отношениям с Западной Германией: «Вопрос этот поставлен не для принятия решений, они уже приняты и доведены до вашего сведения. Но кое-что для обогащения наших знаний добавить удалось». В июле 1982 г. наш посол во Вьетнаме Б.Н. Чаплин рассказал мне: «Перед коллегией зашел к Громыко – есть серьезные вопросы, которые надо решать. Тот: ты их не поднимай, ничего мы на коллегии не решим. Ну, ладно, на коллегии действительно не решим, но ведь никто не хочет их решать». А вызвали Чаплина из Ханоя специально на коллегию по Вьетнаму.
Так вот, придвигаю к себе неказистый блокнотик из тех, что лежали на столе: делать пометки не возбранялось. Он хранится у меня до сих пор.
Министр говорит о том, что мы приветствовали апрельскую революцию 1978 года, и с тех пор дела с Афганистаном как с государством ведем очень хорошо. Беда в том, что единство в афганском руководстве, несмотря на все наши призывы, быстро стало трещать по всем швам. Что это за революция, которая поднимает топор не на врагов, а на своих?
Революцию, а вернее, дворцовый переворот (впоследствии это признал в беседе с Шеварднадзе Наджибулла) осуществили без нашего ведома молодые офицеры-марксисты. Но поскольку они объявили себя сторонниками социализма, мы оказали им полную поддержку, все больше вовлекаясь во внутренние афганские дела. От авантюрных действий «революционеров» и пошли в наши неприятности в Афганистане.
Плохо отозвавшись об Амине с его патологической настойчивостью к репрессиям, Громыко отмечает, что нашлись силы, которые произвели изменения в руководстве. Во главе него теперь Камаль Бабрак. Образовано правительство, которое стоит на позициях антиимпериализма, дружбы с СССР.
В своем стиле запрятанной иронии Андрей Андреевич добавляет: «Вы, видимо, понимаете, что не случайно определенное совпадение во внутренних коллизиях и то, что мы именно сейчас откликнулись на просьбы афганского руководства о помощи в отражении внешней агрессии». (Амин неоднократно просил нас об этом. Там легче было войти и устранить его – охраняли его наши люди.) Но тут же подчеркивает: «Перемены произвели сами афганцы, они же принимают решения о судьбе того или иного деятеля». (Читай: Амина, который уже убит нашими спецназовцами, но об этом ни слова.)
Отметив, что вошедшие в Кабул воинские части небольшие, но впечатление производят, и ничего не сказав, как долго они там задержатся, Громыко переходит к оценочной части:
– у нас есть основание выразить большое удовлетворение подобным оборотом событий;
– мы имеем дело с такими западными партнерами на международной арене, которые уважают только силу. Мягкость, даже под видом разрядки, может дать временные преимущества, но в перспективе советские позиции будут расшатываться. Это – не наша политика;
– не раз проходили через острые периоды – в 1948, 1956, 1968 гг. – они подтверждают правильность и нынешнего вывода, к которому пришел ЦК. (Какой ЦК? Ни аппарат Центрального Комитета КПСС, который часто называли ЦК, ни члены собственно Центрального Комитета партии еще ничего не знают, разъяснения им будут даны постфактум.);
– враждебная реакция на наши действия ничуть не должна умалять значения принятых решений, линия наша не оборонительная, не оправдывающаяся.
Смотрите, как выкручивают руки на юге Африки, в Латинской Америке, как шантажируют в связи с Договором ОСВ-2. Им что же, все разрешается? Как бы стремясь показать не такую уж неординарность происшедшего, Громыко добавляет пару фраз о венских переговорах по сокращению вооруженных сил в Европе, об Иране и других актуальных тогда проблемах. Обсуждения не было. Выслушали, встали и разошлись, не глядя друг другу в глаза.
Лето 1985 г., в МИДе нежданно-негаданно появляется новый шеф, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе. Он знакомится со своей епархией, устраивая своеобразный экзамен каждому поодиночке. В одно из вечерних бдений очередь доходит до меня. Война в Афганистане в разгаре, и он спрашивает о моем отношении к ней. Горячо повествую, какой ошибкой был ввод войск, что уходить оттуда надо как можно скорее. Добавляю: это сейчас я такой красноречивый, а на коллегии в декабре 1979 г. убрал язык в одно место. «А что смогли бы сделать, Вас просто бы раздавили», – утешил меня Шеварднадзе.
Высказаться откровенно можно было с двумя-тремя верными товарищами. Чаще свои чувства доверял дневнику. Так, 1 января 1980 г. записал: «Не о Новом годе пойдет речь – за пару дней до него ввели войска в Афганистан. На редкость неудачное решение!» В отличие от Чехословакии десятью годами ранее на этот раз мне стало ясно сразу же: совершена ошибка.
О чем они думают, видимо, друг перед другом упражняются в твердости? Мол, мускулы показываем. На деле же это – акт слабости, отчаяния. Гори он синим огнем, Афганистан, на кой ввязываться в совершенно проигрышную ситуацию? Со времен Крымской войны 1856 г. не были мы в такой замазке, все кругом враги, союзники слабые и малонадежные. Если уж в афганском руководстве такие …удаки, что не могут управлять страной, то не научим мы их ничему с нашей дырявой экономикой, слабой организацией, неумением вести политические дела. Тем более, что ввязываемся мы, судя по всему, в гражданскую войну, хотя и питаемую извне».
Запись 22 марта: «Приезжал ко мне адмирал Тимур Гайдар (отец будущего премьер-министра. – А.), он просто места не находит от горя. Спросил его: как же так, воюют наши ребята в Афганистане, и ни слова об этом не пишется. А ведь гибнут люди. Отвечает: “Будет через какое-то время материал в “Правде”, но опять-таки эзоповым языком. Туго нам там приходится, местность знаем плохо, иногда даже географических карт не хватает. Если американцы всерьез начнут снабжать нужным оружием, особенно минами и ракетами против вертолетов, то совсем плохо придется. Несчастнейшее было решение входить туда. Надо бы скорее выбираться, а то хвост застрял в Афганистане, нос – в Польше, а посередине – бардак с экономикой».
Ключевой пункт закрытого письма членам КПСС гласил: «На волне патриотических настроений, охвативших довольно широкие массы афганского населения в связи с вводом советских войск, осуществленным в строгом соответствии с положениями советско-афганского договора 1978 г., оппозиционные Х. Амину силы в ночь с 27 на 28 декабря с.г. организовали вооруженное выступление, которое завершилось свержением режима Х. Амина».
Записка в ЦК, утверждающая эту информацию, была подписана той же тройкой – Андроповым, Громыко, Устиновым плюс Пономаревым, заведующим Международным отделом ЦК. Теми, кто не мог не знать, как было на самом деле. Первоначальная ложь потащила за собой последующие. Необъявленная афганская война в течение многих лет была покрыта плотной завесой. Шли жестокие бои, гибли наши ребята, а корреспонденции с фронта можно было увидеть разве что в зарубежных изданиях, подлежащих даже в МИДе специальному хранению.
Дневниковая запись 6 января 1982 г.: «Видел в “Геральд трибюн” фотографии наших ребят, 18–19 лет, взятых в плен в Афганистане. Гибнут парни, а за что, во имя чего? И ведь молчок полный на этот счет, будто ничего не происходит. Буквально плакать хочется, а старички играют в юбилеи и награждеия».
А теперь догадайтесь, кому принадлежат такие слова: «Что это за руководство в советском государстве, которое на языке обмана разговаривало с народом»? Ответ: члену Политбюро ЦК КПСС А. Громыко. Произнес он их на заседании ПБ 23 апреля 1987 г., уже при генсеке Горбачеве[18]. Говорилось это об обмане в другой области, финансовой, что вряд ли меняет суть дела.
Если сознательно дезинформировали своих, то что говорить о классовом противнике. Американский президент Картер, для которого случившееся было полной неожиданностью (даже ЦРУ не верило, что СССР решится на такие действия), запросил разъяснений по прямой линии связи Белый дом – Кремль. И получил ответ: «Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности является и содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз что-то предпринял для свержения правительства Афганистана… Должен со всей определенностью подчеркнуть, что изменения в афганском руководстве произведены самими афганцами, и только ими. Спросите об этом у афганского правительства… Должен далее ясно заявить Вам, что советские воинские контингенты не предпринимали никаких военных действий против афганской стороны, и мы, разумеется, не намерены предпринимать их». Подпись – Л. Брежнев[19].
Даже в МИДе правду надо было узнавать по частям, понимая, что очень многое не договаривается. Приходилось выкручиваться. Помню, что к новогоднему застолью я явился впритык к полуночи. Посол Франции А. Фроман-Мёрис вытряхивал из меня душу до позднего вечера, ссылаясь на «особые отношения» между нашими двумя странами (мы, в самом деле, информировали французов пусть за несколько часов до ввода войск, но все же раньше других). Он задавал вопросы, на которые у меня ответа не было. Подтекст был, в конечном счете, очевиден: как вы все-таки решились на столь безумное предприятие, и чего вы в сущности хотите. Именно эта иррациональность, кроме всего прочего, ставилась нам в строку: зачем русским входить в Афганистан, он и так был у них в кармане.
Дал я послу на свой страх и риск такое объяснение: наша акция – не экспансионистская, не агрессивная. Мы хотим защитить свои позиции в Афганистане от американских посягательств. Идти куда-то дальше, к Индийскому океану и прочее – не в наших целях. Вроде попал: министр разослал запись беседы «по большой разметке», т.е. членам Политбюро. Потом узнал, что оказался в хорошей компании: наш посол в США, многоопытный Добрынин, на прямой вопрос госсекретаря Сайруса Вэнса: «Правда ли, что вы хотите войти в Пакистан и Иран?» – твердо ответил: «Нет». У него в Вашингтоне, думаю, информации было еще меньше, чем у меня в Москве. Уже в «нулевые» Анатолий Федорович рассказал мне, что Центр и в этот раз крайне скупо информировал его. Посылать туда запросы было все равно как в черную дыру. Французский же посол мне почти поверил, добавив, однако: «Ваша главная задача была убрать Амина». Тогда это показалось мне натяжкой: зачем ради устранения одного лидера и привода к власти другого вводить войска. У нас и так было там два батальона. Спустя десяток лет Леонид Владимирович Шебаршин, глава внешней разведки КГБ, сказал мне, что таково и его представление. Войска же были нужны, чтобы нейтрализовать афганскую армию. Официально его должность называлась «начальник Первого главного управления, заместитель председателя КГБ». Мы с ним довольно близко общались как по работе, так и потом, когда оба отошли от служебной деятельности.
Французы – не зря мы их все же обхаживали – поначалу хотели нам помочь. Они пытались не допустить принятия санкций против Советского Союза, аргументируя тем, что конфликт локальный, международную, а тем более европейскую разрядку не затрагивает. Не СССР, мол, дестабилизировал обстановку, а ее дестабилизация заставила русских вмешаться. Нас же они просили ясно показать, что мы, как и декларировали, не собираемся оставаться в Афганистане навечно, просили сообщить календарь вывода «ограниченного контингента», отвести на худой конец какие-то части от Кабула.
В Первом Европейском отделе МИДа мы гордились тем, что в разгар экономической и политической блокады, объявленной Советскому Союзу за Афганистан, в Варшаве в мае 1980-го все же состоялась встреча французского президента Жискар д’Эстена и Брежнева для «сверки часов». Американцы были весьма недовольны этой французской вылазкой. Видя, однако, что ничего в нашей позиции по Афганистану не меняется, французы подравнялись под общую линию Запада. Помню, Дюфурк, высокий чиновник МИД Франции, убеждал меня так: «Надо бы вам набраться мужества де Голля и уйти из Афганистана, как он ушел из Алжира».
Из разговора с Блатовым узнал, что Гельмут Шмидт (он посетил Москву в июне 1980 г.) тоже не успокаивается, предлагает нам убрать хотя бы две дивизии ВДВ из Афганистана, тогда, мол, будет яснее, что не пойдете дальше. А у нас штатное расписание. Устинов резко против того, чтобы его нарушать. Военные и политические решения шли разными путями.
Помечу, что и в тех условиях нам все же удавалось использовать трения между США и западноевропейскими. Ныне американцы практически подмяли своих союзников под себя. Блок санкций сейчас единый.Правда, им помогают наши бывшие союзники, что лишний раз показывает, какими они были союзниками. Особенно скверно ведут себя прибалты.
Когда наши солдаты при свете дня входили в Афганистан, их, вычитал я у Варенникова, встречали цветами: до сих пор от нас видели только добро. Поначалу мы и не думали вовлекаться в боевые действия. Идея была встать гарнизонами в центрах наиболее опасных провинций и «не отвечать на провокации». Но логика войны брала верх: раз поставили своего, его надо защищать. Бабрак Кармаль со товарищи вновь и вновь требовали проведения военных операций. К осени 1980-го наши части оказались втянутыми в полномасштабные боевые действия.
Ошиблись мы и в том, что не будем воевать, и в том, что скоро уйдем, и в международной реакции. Как я упомянул, первое время думали, что удастся сохранить кое-что из многопланового сотрудничества с США, оставшегося после брежневской разрядки. Затем утешали себя тем, что Афганистан лишь предлог, а не причина для антисоветизма и вытекающих из него враждебных действий.
Первые международные последствия. Слабовольный Картер, умеющий только разглагольствовать о правах человека, из либерального «полуголубя» превратился в «ястреба». К тому же он посчитал, что русские, налгав ему, оскорбили его лично. Картер заявил тогда, что за два с половиной дня он узнал о «советских» больше, чем за все предыдущее время, и в корне изменил о них мнение. Теперь его действия определялись традиционной американской манерой – наказать. Не мог он не учитывать и близкие президентские выборы. В США полетели «разрядочные» головы, такие как «слишком интеллигентный» госсекретарь Вэнс, подавший в отставку в апреле 1980 г.
Такие головы были в США при всех президентах, формируя довольно устойчивую, скажем условно, «партию мира». Равным образом постоянно существовала и чаще брала верх «партия войны» – наиболее консервативная, шовинистическая часть правящих кругов США. Однотонная краска для характеристики сложной структуры американского истеблишмента не подходит. Сейчас, однако, добавлю в 2024 г., черный цвет покрывает почти всю палитру.
Парадом стал командовать Бжезинский, «небезызвестный враг Советского Союза», как он представился мне по-русски в Вашингтоне спустя много лет.
Когда запахло жареным, пошли разговоры – все ли, мол, МИД (sic!) рассчитал относительно Афганистана, учитывалось ли, что может не быть Олимпийских игр? 27 марта 1980 г. пометил слова моего министра: «Нет в Советском Союзе человека, который не ненавидел бы Картера. Каждый поймет, что если сорвется Олимпиада, то виноват будет он». Испанец Антонио Самаранч, ставший после того, как отслужил послом в Москве, президентом Международного Олимпийского комитета, был среди тех, кто помешал срыву. Игры, хотя и урезанные, но не забываемые всеми, кто их видел, состоялись.
Быстро появились меры пожестче: из сената был отозван Договор об ОСВ-2, который так и остался без ратификации. Правда, ряд экспертов утверждает, что Договор был обречен и без Афганистана: он не устраивал правых в США. Картер отменил любые переговоры и визиты в Союз, прекратил деятельность более десяти совместных групп. Ввел эмбарго на поставку 17 миллионов тонн зерна, в частности, кормового для скота, под которые были оборудованы новые животноводческие фермы. Помню, как на это жаловался мне министр иностранных дел Литовской ССР Виктор Михайлович Зенкявичюс.
Американская администрация, подхлестываемая республиканской оппозицией, использовала предоставленный шанс, как сейчас говорят, по полной программе.
Началась усиленная поставка оружия Пакистану, а через него моджахедам. Американцы не были бы американцами, если бы не переложили финансовые расходы на Саудовскую Аравию. США активно сколачивали антисоветский альянс из разношерстных мусульманских стран, впервые в послевоенной истории обратив против нас исламский фундаментализм и снизив давление на себя. Им удалось на какое-то время найти общий язык с Ираном. Его руководители затряслись, ведь у них был, как у Афганистана, договор с СССР.
Обхаживали американцы Китай, с которым мы и без того были почти два десятилетия на ножах. Уже в начале января 1980 г. Картер послал своего министра обороны Брауна в Пекин. Там была достигнута договоренность о координации действий, предпринимаемых каждой стороной против СССР в Афганистане. С тех пор, по выражению Громыко, «США и Китай шли локоть к локтю». Китайцы позволили США использовать Центр на северо-востоке Китая для слежения за запуском наших ракет, в лагерях на китайской территории готовились моджахеды. США стали поставлять Китаю военную технику.
Отмыться от либеральных слабостей, да еще от неудачи с освобождением американских заложников, захваченных в посольстве США в Тегеране, Картеру не удалось. Выборы в ноябре 1980 г. он проиграл с треском. А ведь при всей его эксцентричности с ним можно было поладить. Как выразился Ковалев: наплевали проповеднику в лицо, а потом при Рейгане, которому сами облегчили избрание, вспоминали добрым словом. Мое впечатление, что именно после Афганистана политикам в Вашингтоне стало окончательно ясно: с виду несокрушимый Советский Союз не столь уж неуязвим. Его руководители способны на поступки, близкие к самострелу. Администрация Рейгана приложила удвоенные усилия по изматыванию СССР всеми доступными средствами.
Поиски выхода. Осознание того, что нельзя было ввязываться в войну в Афганистане, пришло к нашим руководителям довольно скоро. В МИДе я почувствовал это по признакам скорее косвенным, но несомненным. Записал в дневнике: «Почти точно известно, что в марте 1980 г. Андропов и Устинов слетали в Афганистан и, вернувшись, доложили Политбюро, что к маю все будет окончено и можно будет возвращаться к политике разрядки».
Вхожий в высшие сферы академик Чазов свидетельствует: «Андропов, понявший свою ошибку, метался и нервничал». «Устинов же всегда оставался невозмутимым и, видимо, убежденным в своей правоте»[20]. Брежнев, по словам его помощника, упрекнул однажды инициаторов вторжения: «Ну и втянули вы меня в историю»[21].
Что же касается Громыко, то он как-то воскликнул при мне: «Это что, мы должны признать на весь мир, что совершили ошибку, а Жискар д’Эстен останется на белом коне?» Французский президент вызывал раздражение тем, что говорил с нами по афганским делам открытым текстом. Антисоветскую позицию Франции министр объяснял с классовых позиций неприятием социальных перемен в Афганистане.
Подчеркну, что хорошо повело себя наше посольство в Кабуле: оно давало реалистические оценки. Даже насчет декабрьских событий посольские ребята не стали врать. Хотя и для них была обязательной фальшивая версия, ушли за обтекаемые, но узнаваемые формулировки. Из их сообщений была видна такая революция, которую и защищать-то не стоило. Моджахеды оживились тогда, когда почувствовали слабость власти, перегибы, недовольство людей, отсутствие поддержки в массах, плачевные дела с экономикой. До марта 1979 г., до гератского мятежа, не было широких антиправительственных выступлений.
Особенно поразило меня, что до посольских доходило то, о чем говорили между собой афганские руководители: «Войну затеяли Советы, пусть они и воюют». Только вот была ли в коня корм посольская информация? А. Пузанов как-то пожаловался мне, что когда он вернулся в Москву после семи лет работы послом в Кабуле, никто из руководства с ним даже не встретился. А ведь посла фактически выставил ненавистный нам Амин.
Осенью 1981 г. по инициативе МИДа – и добавлю – к его чести (хорошо, что не ушел в отставку Корниенко) были организованы непрямые переговоры под эгидой ООН между Афганистаном и Пакистаном как главным спонсором моджахедов. Идея была также в том, чтобы в какой-то степени уменьшить негативное воздействие США. Но говорить можно было сколь угодно долго, ибо не решался центральный вопрос о сроках вывода советских войск.
С нашей стороны требовались более решительные шаги, и можно определенно сказать, что на них был готов Андропов. При первой же встрече с Кармалем в новом качестве генсека он сказал: «Через полгода мы уйдем, готовьтесь», – повергнув того в ужас. Но правление Андропова оказалось непродолжительным. Необходимо отметить, что позитивным действиям с нашей стороны препятствовала жесткая позиция США: уходите, и никаких условий. Американцев устраивало, чтобы мы завязли в Афганистане.
При Черненко оставались двое из трех инициаторов – Устинов и Громыко. Но ничего реального для прекращения Афганской войны сделано не было. Как пишет А. Ляховский, «ситуацию заморозили», хотя военные все настойчивее ставили вопрос о выводе войск[22].
По большому счету Афганистан так ничему и не научил. Важнейшие решения по-прежнему принимались «ограниченным контингентом» руководителей непрозрачно и келейно. Механизм, который помогал бы не допускать ошибок или найти пути их исправления, авторитарной системе был чужд. Практику исправления ошибок не выработали. О каком-то общественном обсуждении международных проблем можно было только мечтать. Партийно-номенклатурный порядок подчиненности остался столь же жесток по отношению к тем, кто осмеливался сказать свое слово. Потребовались годы, смерть трех генсеков и приход к власти Горбачева, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Кто знает, сколько бы еще продолжалась война, если бы не Михаил Сергеевич.
Если заняться софистикой, то единственный плюс ввода войск вАфганистан состоит в том, что не применили силу на следующий год в Польше. Больше мы «интернациональный долг», во всяком случае жизнями наших солдат, уже не платили. Думаю, что и чехословацкая травма сыграла сдерживающую роль, по крайней мере, это относится к Брежневу. Твердую позицию против силового вмешательства заняли Андропов и Устинов. Да и как было открывать второй после Афганистана фронт?
Не развивая польскую тему, приведу несколько дневниковых записей.
30 марта 1981 г.: «В Польше, кажется, дело идет к развязке, если только контра не захочет потянуть еще, чтобы не дать нам повода вмешаться. А мы вроде его ищем. Настроение такое, что вот-вот вступим в игру мы. Все понимают, насколько это трагично, но перевешивает довод: “Мы не можем терять Польшу, не можем расписаться в неудаче исторического эксперимента”. Тают последние надежды, что мы удержимся от драки. А вдруг все-таки… Как-то сказал Ковалеву, что при любых обстоятельствах нельзя влезать в Польшу, не стоит она русской крови. Он: “Попробуйте это там посоветовать (кивок глазами на прямой телефон министра), только я вам очень не рекомендую”».
Много лет спустя узнал из рассекреченных материалов, что в Вашингтоне после прихода Рейгана всерьез рассматривали планы вторжения на Кубу и искали предлоги для этого. Одним из наиболее котируемых был бы ответ на наше военное вмешательство в Польше[23].
Выручил Ярузельский. Через год радостная запись: «Наводят порядок в Польше, все мы радуемся, прежде всего, тому, что самим не пришлось. Случилось все-таки второе “чудо на Висле”: поляки сами справились. Крик на Западе колоссальный. Что плохо – коммунисты, прежде всего итальянские, расплевываются с нами: конец, мол, эпохе, начатой в 1917 г. Резкие, но, в общем-то справедливые упреки в наш адрес: отрыв партии от народа, власть принадлежит не трудящимся, а бюрократической верхушке, закостеневшие догмы вместо творческой идеологии, постоянные и существенные ограничения свобод, завал экономики, аполитичность молодежи и даже утечка мозгов интеллигенции. И еще черт его знает, чем все в Польше обернется. Ведутся же у нас разговоры насчет того, что Ярузельский – гнилой оппортунист».
Представление о том, как мы видели ситуацию в Польше, дают оценки, сделанные Громыко на коллегии МИДа в декабре 1981 г.: «Принятые в отношении “Солидарности”, ее контрреволюционного ядра крутые меры осуществляются успешнее, чем можно было ожидать. Контрреволюции в Польше основательно подрезаны крылья. Скоро может зазвучать похоронный звон по контрреволюционному крылу “Солидарности”, которое готовилось вырвать власть из рук ПОРП. (Польская объединенная рабочая партия, оппозиция в Польше называла ее «партией воров».) Отсюда такой вой на Западе, но он не свернет польское руководство. Метод, который применен, дает шанс и больше, чем шанс, сохранить социализм в Польше. Альтернатива – гибель социализма. Нам говорят: не могло ведь польское руководство предпринять эти акции без СССР. Мы отвечаем: это польское национальное решение, не советское. Никто не вправе указывать Польше, какое решение принимать. Положение в Польше с каждым днем нормализуется. Армия, МВД, ГБ показали себя блестяще. Забастовки широкой не получилось, очаги погашены за единичными случаями. Почти бескровная операция, если есть жертвы, то не по причине военных властей. Можем с большой степенью уверенности смотреть вперед, но для выправления потребуются не месяцы, а несколько лет. Экономика расстроена крайне, нам приходится оказывать помощь, наш народ это понимает. Польша в долгах, как в шелках в силу неправильной, антинародной практики бывшего руководства. Но она была и остается надежным звеном Варшавского договора».
В информации партактива ухудшение ситуации в Польше объяснялось также тем, что прежнее руководство не прислушивалось к нашим советам. Главной же причиной называлось вмешательство извне. Это долгосрочная традиция: списывать свои промахи на иностранные происки. Не то чтобы их не было. Но они не достигают успеха, если ты проводишь разумную политику и в стране мир и согласие.
Пометил потом у себя в дневнике: «Социалистическими странами, политикой в отношении них, глубинными проблемами никто не занимается и не хочет. Отсюда сверхоптимистические оценки на грани самообмана. Зато возимся с Гренадой – прекрасный повод разоблачить американский империализм».
Еврейский анекдот. Позволю себе закончить афганскую тему не на драматической ноте.
Регулярно в годовщину или близко к ней ввода наших войск в Афганистан в Первый Европейский отдел приходили западноевропейские послы с демаршами. Как-то 13 января запросились сразу двое – посол Бельгии и временный поверенный в делах Голландии. Опять жду напряженного разговора. Но с первых же слов облегчение: есть просьба, говорят они, одного яхтсмена, живущего в Голландии, но бельгийца по гражданству, поэтому пришли вдвоем. Этим летом он хотел бы совершить проплыв в Ленинград, и мы очень просим, чтобы его туда пустили. Отвечаю: «Уважаемые господа, можете быть уверены, что сделаю все возможное для удовлетворения вашей просьбы. Сегодня у нас Новый год по православному календарю. Поскольку в праздник к месту всякие истории, расскажу один анекдот. Речь идет о еврейском мальчике, у которого старый папа, больная мама, масса братиков и сестричек, но он настолько прилежный, что еще ходит в хедер. На одном из занятий учитель его спрашивает:“Рабинович, сколько ножек у таракана?” Тот печально смотрит на него: “Господин учитель, мне бы Ваши заботы”». Голландец, побыстрее на реакцию, уже под столом от смеха. Бельгиец, более официальный, спрашивает: «Господин директор, эта история имеет какое-то отношение к нашей просьбе?» – «Нет, ни малейшего, сделаю все, чтобы ее выполнить. Но просто сегодня старый Новый год, и я допустил некую вольность».
Афганистан «догнал» меня в перестройку, об этом во второй части.
Очерк пятый
Его величество паритет
Гонка вооружений, понуждавшая экономику страны работать на пределе возможностей, вызывала тревожные вопросы у многих в МИДе и за его пределами. Вот высказывание из, казалось бы, неожиданного источника. Председатель КГБ В. Крючков, полемизируя с теми, кто противился заключению с США договора об ОСВ, утверждая, будто он дает американцам двойное преимущество над СССР, заявил: «Без договора гонка стратегических вооружений будет продолжена, мы в ней все равно американцев не догоним, а лишь еще больше измотаем свою экономику». Эти слова приводит посол и давний товарищ Юрий Назаркин, вплотную работавший на разоруженческой ниве. Он же отмечает, что, начав рулить от Горбачева, Крючков изменил свою позицию, и его представители на переговорах стали тормозить их[24].
Я поддерживал постоянный контакт с коллегами того мидовского подразделения, которое занималось разоружением. Благо оно находилось на одном этаже, десятом, для точности, что и «Первая Европа». Нехитрая вроде стратегия янки, говорили мы между собой: заставить нас все время их догонять, все больше и больше тратя на оружие, а ведь загнали в колею, из которой не дают выбраться.
На первый план выходят ракеты средней дальности (РСД). Начну с цитаты: «Установка СС-20 была грубой ошибкой в нашей европейской политике»[25]. Автор – Громыко, еще член Политбюро ЦК КПСС, но уже не министр иностранных дел. Сказано на заседании Политбюро 8 октября 1986 г., в перестроечное время. (Что называется с ног на голову, но мало кто это знает.)
В самом деле, перипетии с ракетами средней дальности поставили под реальный удар безопасность страны.
Родное название ракеты СС-20 – «Пионер». Но так как длительное время само это название было засекречено, то привилась западная аббревиатура (СС означает всего-навсего surface-surface, поверхность-поверхность).
С конца 1950-х годов были у нас нацелены на Западную Европу ракеты средней дальности Р-12 и Р-14 (или СС-4, СС-5). (Кстати, того же класса, что вместе с ядерными боезарядами были завезены на Кубу. Р-14 не доплыли в силу начавшегося конфликта и морской блокады острова, но Р-12 были установлены.) Потом их увезли обратно. Пришел срок их замены. С 1977 г. началось широкое развертывание этих самых «Пионеров», но уже мобильных, т.е. менее уязвимых, чем стационарные, и о трех ядерных головах вместо одной на прежних ракетах. В Вашингтонском космическом музее я видел один образец в подлинную величину рядом с небольшим «Першингом-2», сердце радовалось.
Меняли мы ракета на ракету, т.е. зарядов прибавлялось в три раза, да еще и старые убирать не спешили. Введено было новое оружие скрытно: в ту пору сама мысль обговорить нечто подобное с Западом казалась кощунственной. Собственному народу также, разумеется, ничего не сказали. «Пионеры», по нашим расчетам, позволяли нейтрализовать угрозу со стороны американских ядерных сил передового базирования.
Когда шило вышло наружу, нас обвинили в том, что оружие это направлено не только на американские объекты, но и на крупные цели, т.е. города. Послы стран, которые курировал Первый Европейский отдел, говорили мне, что СС-20 – это главная угроза для западноевропейцев. «Нам приходится жить в постоянной опасности мгновенного уничтожения».
Подобные стенания мы бы, наверное, стерпели – судьба ядерных заложников одна у всех. Но американцы поймали нас, что называется, на противоходе. Они получили хороший предлог для установки в Западной Европе своих «Першингов-2». Это были первые высокоточные ядерные ракеты с самонаведением на конечном участке подлета и к тому же с боеголовками, способными проникать глубоко под землю для повышения разрушительного эффекта. Другими словами, они могли не только нанести первый удар по пунктам управления и пусковым установкам советских ракет, но и поразить бункер, заранее приготовленный для особо важных персон.
Еще один крайне неприятный момент: наши «Пионеры» до США не доставали, а «Першинги» били бы по Союзу практически в упор, подлетное время с западноевропейских баз сокращалось до минимума. На стороне США были те стратегические преимущества, которые им давал военный союз с Западной Европой, непотопляемым авианосцем.
Об этих грозных характеристиках, практически о ядерном пистолете, приставленном к виску, заговорили вполголоса и только между собой и только тогда, когда размещение «Першингов» стало явью. На публику подобные разговоры не распространялись.
Николай Федорович Червов, начальник Договорно-правового управления Генштаба, сказал мне как-то: «Методом обезглавливания – уничтожив гражданское и военное руководство и систему сообщений, контролирующую запуск советского ядерного оружия, США могут выиграть войну. В прицеле будет находиться не только Кремль, но и каждое здание в Кремле». Когда я рассказал об этом Ковалеву, он, редкий случай, вышел из себя из-за того, что руководству такое не докладывается. «За программу СС-20, которая мало что прибавила, получили смертельную опасность почище китайской. Но попробуйте об этом сказать».
Строго исходя из принципа равенства, американцы не были правы. Если суммировать все то, что имел Атлантический союз, т.е. не только средства передового базирования США (включая ракеты «Першинг-1», которые появились лет на десять раньше СС-20), но и ядерное оружие Франции и Англии, то преимущество было на стороне НАТО. Мы требовали зачета французских и английских ядерных вооружений, тем более что они учитывались в военных планах НАТО: не все ли равно, от чьей ракеты или бомбы умирать. Далее, американская авианосная авиация (более тысячи самолетов) многократно превосходила нашу. Прибавьте базы, которыми СССР был окружен со всех сторон. Оружие тактического класса на море и в воздухе американцы тщательно оберегали от ограничений. Правда, СССР превосходил НАТО по общему числу тактических ядерных средств, но ни одно из них не достигало США, в то время как их аналогичное оружие в значительной своей части могло поразить советскую территорию. В конечном счете, кроме арифметики, была еще экономика и политика. Существовала разница в материальных возможностях: наверстать отставание от США на море и в воздухе мы были не в состоянии. Американцы же претендовали, по сути, на то, чтобы иметь в Европе столько же ракет наземного базирования, сколько и СССР.
Правда, как это часто бывает, вышла на свет лет через десять, уже после подписания советско-американского договора по РСД. Успокаивая тех в Западной Европе, кто волновался насчет ядерного «разъединения» с США в силу уничтожения «Першингов-2» и крылатых ракет, госсекретарь США Шульц объявил о наличии 4 тысяч американских тактических ядерных зарядов (на самолетах, ракетах и в виде артиллерийских снарядов), остающихся в Европе и после выполнения договора[26].
Как бы мы ни уверяли, что ядерный потенциал французов и англичан есть своего рода бонус поверх американского, ни те ни другие не давали его трогать. Каждый раз, когда мы пытались завести с французами разговор на этот предмет, нам отвечали (цитирую президента Миттерана): «Вы можете засчитывать все что угодно или не засчитывать все что угодно, но я никогда не соглашусь на зачет французских ракет в общую сумму НАТО». И дальше: «Предположим, вы договоритесь с США о полном нуле. Франции что, придется отказаться от своих сил устрашения? Да ни в коем случае. И вообще, не трогайте нас с разоружением, пока вы, СССР и США не снизите свои уровни, в сотни раз превышающие наши». Примерно в том же духе отнекивались англичане, упирая на то, что это чисто двусторонний, советско-американский вопрос.
Действия НАТО были поданы так, что не американцы навязали западным европейцам новое оружие, а те попросили их об этом в связи с «двадцатками». Бывший итальянский посол в Москве С. Романо, служивший в то время в НАТО, убеждал меня в 2013 г., будто они буквально упрашивали Картера «не разрывать ядерную пуповину между США и Европой». Старый мой друг Серджо, возможно, не лукавит, но существовали ведь и Пентагон, и американский военно-промышленный комплекс, которых уговаривать не приходилось. Так что нажим со стороны США явно был.
Разместить на своей территории «Першинги» взялась ФРГ, единственная из западноевропейских стран. Только после этого другие «желающие» согласились принять «Томагавки» – крылатые ракеты. Тоже для нас не подарок с учетом сложностей их перехвата.
Был ли возможен компромисс? Летом 1979 г. до меня дошли смутные сведения (и я пометил их в своем дневнике), что канцлер ФРГ, социал-демократ Шмидт, предупреждал нас: остановитесь с размещением СС-20. По крайней мере, скажите, что не выйдете за рамки того количества зарядов, что было раньше. Иными словами, подсказывал некий вариант договоренности, который – кто знает? – позволил бы избежать дальнейшей раскрутки. Удостоверился я в этом много позже (такова непробиваемая даже для своих секретность!), прочитав воспоминания двух наших выдающихся дипломатов – А. Добрынина и Г. Корниенко.
Сегодня нет смысла излагать детали предложенного компромисса. Важно, что Косыгин, которому поведал свои идеи Шмидт – он специально остановился в Москве по пути в Японию, и Алексей Николаевич ездил в аэропорт беседовать с ним, – счел необходимым доложить о них на Политбюро. Закончил он полувопросом: может быть, стоит подумать над таким вариантом?
Добрынин пишет дальше: «Устинов сразу же категорически отверг возможность какой-либо корректировки осуществляемых уже планов широкого развертывания ракет СС-20. Громыко отмолчался, не желая спорить по этим вопросам с Устиновым. Он знал также, что Брежнев, как правило, не очень охотно принимал предложения Косыгина. Короче, возможность продолжения такого диалога с Западом в эти критические месяцы была упущена»[27].
Приглашенный на заседание Политбюро Корниенко, первый заместитель Громыко, взяв слово, сказал, что предложение Шмидта представляет реальный шанс найти приемлемый для нас компромисс. Брежнев снова смотрит на Громыко. Тот молчит и на этот раз. (Вспомним Афганистан!) Георгий Маркович же нарушил субординацию, потому что по дороге на заседание они поговорили с Громыко, и тот был позитивно настроен в отношении зондажа Шмидта. На Политбюро, однако, он так и ничего и не сказал, предпочтя внутреннюю дипломатию внешней. Мнение Устинова осталось решающим. В результате был открыт зеленый свет декабрьскому решению НАТО.
Характерно следующее признание: «К тому времени фактически стало правилом: что бы ни предложил Косыгин, Брежнев в итоге выступал против»[28].
Еще до этого, в мае 1978 г., когда Брежнев приезжал в Бонн, тот же канцлер Шмидт в беседе с ним с глазу на глаз настойчиво просил решить проблему СС-20. Он честно предупредил: «Если Советский Союз не устранит нависшую над Западной Европой угрозу, нам придется думать об адекватных мерах самозащиты». Шмидту явно не хотелось новых ядерных ракет у себя дома. Но от его тревожных сигналов отмахнулись[29].
Накануне визита Брежнева в Бонн в 1981 г. Рейган предложил свой знаменитый «нулевой вариант», сразу же поддержанный американскими союзниками. США готовы были отказаться от размещения ракет «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования, если СССР демонтирует установленные в Европе СС-20 и старые ракеты. Мы «ноль» отклонили, но сопроводили отказ предложениями, вполне приемлемыми для рассмотрения. Американцев, однако, устраивала перспектива подвинуть свои ракеты ближе к нашим рубежам. Они ушли от делового обсуждения. Накануне же начала размещения американских ракет (ноябрь 1983 г.) была своего рода перестрелка – выдвижение предложений американцами, наш почти немедленный отказ, наши контрпредложения, шедшие в некоторых отношениях навстречу американцам, их быстрый отказ под различными предлогами.
В этих условиях от нас требовались тем большая настойчивость в поиске развязок, тем большее искусство в нахождении щелей между США и Западной Европой. Нам, к сожалению, не доставало ни того, ни другого. Но не из-за нехватки умения. Не до дипломатии было, когда первую скрипку играли МО и ВПК. На руку американцам была и наша манера представлять новые инициативы: сразу публично, чаще всего в выступлении генсека, не обговорив заранее с теми, кому они предназначались. В немалом количестве они и не были рассчитаны на серьезное обсуждение, скорее, должны были воздействовать на общественное мнение.
Борьба за души людей считалась одной из главных задач МИДа. Лучшие перья министерства месяцами отвлекались на писанину. Думаю, что американцы учитывали эту нашу практику и заранее готовили контршаги, играя, как Рейган с его «нулем», на опережение. В данном случае перед советско-западногерманскими переговорами, результаты которых США стремились заранее нейтрализовать.
Переговоры бессмысленны? Ответная реакция на «Пионеры» не заставила себя ждать. Пиар, употребляя современную терминологию, придумали хитрый: решение НАТО от 12 декабря 1979 г. считалось «двойным»: если до 1983 г. не придем к полюбовному соглашению, американские РСД в течение следующих двух лет будут установлены в Европе.
Есть, кстати, данные, что это решение было воспринято нашим руководством, как последний звонок для ввода войск в Афганистан: мешкать больше нечего, «Першинги» могут появиться и там.
По моей записи, Громыко говорил на коллегии: «Знаем цену формулы о двойном решении. С виду какой-то конструктивный элемент содержится: нет вроде безусловного, без переговоров, размещения. Но все ставится в зависимость от позиции США, а они договоренности не хотят». Вот и весь сказ. По сути, МИД прикрывал ссылками на США жесткую позицию главы Министерства обороны и Военно-промышленного комплекса..
Много времени было истрачено на попытки ультимативно повлиять на позицию НАТО: «Не сядем за переговорный стол, пока не будет отменено двойное решение». Не добившись этого, в ноябре 1981 г. в переговоры мы все же вступили, но вели их ни шатко ни валко. О чем говорить? Этот довод показался железным для Политбюро. О том, что у нас есть, а у них нет? Менять ракеты на воздух? Вот поставят, тогда поговорим.
Ставку сделали также на то, что западные европейцы не захотят иметь магнит, который притягивал бы советские ядерные заряды. Посмотрите, какую силу набирают сторонники мира! Не смогли же американцы разместить в Европе нейтронные бомбы. Антивоенное движение в Западной Европе, безусловно, тормозило наращивание здесь американского оружия. Не случайно речь о «Першингах-2» зашла только тогда, когда появились «двадцатки». Но давления общественности оказалось недостаточно, чтобы не допустить размещения американских ракет при продолжающемся развертывании советских. Сторонники мира, кстати сказать, давили и на нас, требуя демонтажа части СС-20.
Демонстрации 22–23 октября 1983 г. в странах Европы собрали миллионы людей. Это сказалось и на результатах голосования. Итальянский парламент: 351 за размещение крылатых ракет, 219 – против, а Западногерманский бундестаг: за установку «Першингов» – 286 «за», 226 – против. Будь наша политика гибче, могли бы действительно сыграть на антивоенных мотивах.
Отмечу, что разные были настроения в Западной Европе. Доходили сведения, что Франция, сама не участвуя в размещении американских ракет, отнюдь не препятствовала тому, чтобы «Першинги» появились в ФРГ. Это, по мысли Миттерана, должно было надолго поссорить нас с немцами.
В отчаянных попытках свести обрывочные данные в цельную картину я, как шолом-алейхемский мальчик Мотл, постоянно совал нос не в свои дела. Вернее, те, что не относились непосредственно к моим обязанностям. Подобная «интрузия» негласно, а иногда даже очень гласно, не поощрялась. Каждый раз, когда Юлий Квицинский приезжал с женевских переговоров по РСД в Москву, я пытался узнать у него что к чему. Отношения у нас с ним были товарищеские, и мы, разойдясь политически, их сохранили вплоть до его безвременной кончины. Но на расспросы Юлий реагировал сдержанно, хотя у меня имелся предлог: написание речей требовало информации во всех областях. Смысл скупых высказываний главы нашей делегации на переговорах был ясен: света в конце туннеля не видно. К чести Юлия надо сказать, что, действуя изобретательно, он пытался найти выход из положения.
В марте 1983 г. Рейган заявил о начале реализации так называемой стратегической оборонной инициативы (СОИ). Иными словами, полномасштабной противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования. Мы посчитали, что в случае ее создания она была бы способна перехватывать советские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на разгонном участке траектории полета.
На это мы заявили, что СССР будет вести переговоры по РСД только «в пакете» с космическими вооружениями. Одновременно СССР взял на себя односторонние обязательства не испытывать противоспутниковое оружие. США это проявление доброй воли проигнорировали, а на пакетные переговоры не согласились, их вполне устраивала складывающаяся ситуация.
Осенью 1983 г., как и предусматривалось решением НАТО, американцы начали устанавливать свои РСД. 25 ноября мы хлопнули в Женеве дверью: пока не уберете размещаемые ракеты, переговоры бесплодны. Это сопровождалось целым рядом других мер: был отменен мораторий на развертывание советских ядерных средств средней дальности в европейской части СССР, действовавший почти полтора года. Было объявлено также о размещении ракет «Ока» на территории ГДР и Чехословакии (их дальность действия теоретически позволяла достигать территории ФРГ). В течение следующих трех недель ушли мы также с переговоров по стратегическим вооружениям (они шли в Женеве с июня 1982 г.) и с венских переговоров по обычным вооружениям. То есть полный тупик, в общем-то, наказывавший нас самих.
Политический и престижный ущерб оказался двойным: и от потери времени на срок действия ультиматума, не имеющего шансов на успех, и от снятия его впоследствии. Американцы получили свободу рук. Они и ракеты устанавливали, и бюджет Пентагона увеличивали в разы, и кричали на всех перекрестках, что готовы возобновить переговоры в любой момент. Трудно было отделаться от мысли, что наше руководство ошиблось: бойкот переговоров ни к чему не привел.
30 ноября 1983 г. записал в дневнике: «Трудный период: Андропов (Генсек) снова болен, реформы, если их можно так назвать, приостановились, обстановка все более накаляется, “ястребы” кружат, как хотят. Проиграли борьбу за неразмещение американских ракет, хотя еще неизвестно, все ли у нас хотели ее выигрывать. Ведь так тоже можно: отвечай ударом на удар, милитаризируй политику, под этим предлогом, ничего не меняя внутри, затягивай гайки. Проблемы вновь загоняются вглубь. Ковалев в отчаянии, говорит, брошу все и уйду в отставку, внешняя политика рассыпается, сколько строили, все рушится.
Шумели мы, шумели насчет того, что размещение американских ракет в ФРГ не пройдет ей бесследно, а что вышло на деле? Экономические связи с Западной Германией растут, причем приоритетно, по заказам она идет на первом месте (как и по торговле), опережая Францию вдвое. Причем сессию совместной комиссии провели с немцами на “ура” буквально перед решением бундестага о ракетах. Другие связи, в том числе политические, также не страдают, если не считать некоторых сугубо показушных жестов, кои, однако, преподносятся “наверх” как серьезно немцев вразумляющие».
Многие в Западной Европе не горели желанием иметь у себя «Першинги» и «Томагавки», но из пяти стран – ФРГ, Великобритания, Италия, Бельгия и Нидерланды – уклониться от размещения сумели только голландцы, взявшие на пару лет тайм-аут. Об этом чуть позже.
Тем временем Рейган продолжал нагнетать давление. В США были запущены беспрецедентные военные программы. Громыко выразился следующим образом: «Никогда еще в Вашингтоне не было такого культа вооружений». Доводы американского президента отдавали демагогией, но были просты и доходчивы: воспользовавшись мягкотелостью Картера, СССР обогнал Соединенные штаты в гонке вооружений. Теперь США берутся за ум, они не допустят военного превосходства над собой. И вообще коммунизму, после того как он нанес поражение США во Вьетнаме, в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Зимбабве, Никарагуа, объявлен «крестовый поход». Ему не будет позволено продвинуться на мировой арене ни на дюйм. (Словечко это – дюйм – любили американцы. В другом контексте, обещая непродвижение НАТО на Восток, его повторит Горбачеву госсекретарь США Бейкер.)
Американская разведка намеренно преувеличивала военный потенциал Советского Союза с тем, чтобы администрация смогла проводить через Конгресс новые ассигнования на «оборону». Нас же сознательно запугивали СОИ, в данном случае явно преувеличивая ее опасность для СССР. Дезинформация проводилась в жизнь искусно. Уверяли, что это чисто оборонительный проект, что развернут космическую оборону тогда, когда будут ликвидированы все баллистические ракеты, так что не будет возможности нанести нам под прикрытием СОИ удар, и т.п. К сожалению, поначалу мы поддались на эту «пугалку» (так ее впоследствии назвал Горбачев). Целью было втянуть в очередное состязание с США. Отрезвление пришло с приходом к власти Михаила Сергеевича.
Одновременно играли с огнем, направляя к границам СССР боевые самолеты, которые отворачивали в последний момент; стратегические бомбардировщики появлялись над Северным полюсом, проверяя советские радары; проводили военные маневры вблизи наших рубежей, вынимая из ножен ядерное оружие. В советском руководстве всерьез опасались, что США близки к тому, чтобы нанести по нам обезглавливающий первый удар. Шульц пишет, что для американцев это было невероятным[30].
В реальной жизни, как позже признался Шульц, американцы были далеки от того, чтобы создать космическую оборонительную систему, которая хотя бы как-то напоминала СОИ[31]. Уже преемник Рейгана Буш стал от нее отходить. Сейчас о СОИ и не вспоминают.
Рейган оправдывал гонку вооружений в США тем, что ее цель сделать русских более сговорчивыми. «Должны же они понимать, что в длительном соревновании американская технология возьмет верх». Так выражались на публику. Среди своих президент говорил иначе: мы их до смерти разорим.
На фоне такой ситуации у нас стали чаще задаваться вопросом, не вернуться ли к поискам какого-то общего языка с США. Необходимость этого настойчиво, хотя и «негласно» (любимое словцо Анатолия Федоровича Добрынина), проталкивали все те же «разрядочники» в ЦК, КГБ и МИДе, подчеркивая вновь возникшую угрозу. Сам слышал следующий довод: «До Москвы “Першинг” долетает за несколько минут и попасть может в форточку».
На встречу с Шульцем в Стокгольме в январе 1984 г., подгаданную под открытие там конференции по разоружению и мерам доверия (привет мадридской встрече СБСЕ!), Громыко поехал уже с несколько изменившимся настроем. Но не по евроракетам. Наш подход был прежним и абсолютно нереальным: возвращение к статус-кво анте, т.е. к положению, существовавшему до начала размещения американских ракет, и только тогда возобновление переговоров.
Отказывались от нами же созданного тупика по частям: предложили возобновить венские переговоры по обычным вооружениям.
Ненадолго пришедший к власти Черненко, думаю, хотел оставить свой мирный отпечаток в истории. Приехавшему на похороны Андропова вице-президенту Бушу (до этого он присутствовал на похоронах Брежнева и приедет в третий раз на похороны самого Черненко)[32]Константин Устинович сказал: СССР и США не являются врожденными врагами.
По старой любви к итальянцам отмечу, что они одними из первых уловили признаки потепления и откликнулись на него. Премьер Б. Кракси выступил в начале мая 1984-го с предложением: СССР возвращается на переговоры по РСД, а НАТО в ответ на это вдвое сократит размещение своих ракет. Ни с кем из союзников по НАТО итальянцы свой демарш не согласовали, и он был быстро подавлен. Я же подумал: итальянцы верны себе еще со времен Ла Пира и Фанфани.
Вылазка итальянцев, разумеется, приободрила Москву, позиция по РСД была повторена с прежней жесткостью. С чем мы торопились, это с началом переговоров по космосу. «Пугалка» СОИ, видимо, продолжала сильно тревожить. В июне 1984 г. мы предложили американцам (сразу же по нашему обыкновению дав сообщение в печать) начать переговоры по демилитаризации космического пространства. Американцы ответили быстро и в принципе положительно, но с добавлением: обсудить также наступательные вооружения, ибо, мол, стратегические ракеты летают через космос. Копируя нас, свой ответ США дали через печать. Борьба за души людей в лучшем виде.
В октябре 1984 г. вследствие импульсов, идущих сверху, МИД получил указание подготовить «реалистические предложения» по ракетам средней дальности.
Потепление, хоть не без срывов, продолжалось: было решено, что Громыко в отличие от прошлого года поедет на сессию Генассамблеи ООН. Американцы на этот раз пригласили его встретиться с Рейганом в Вашингтоне. После ввода наших войск в Афганистан встречи советского министра, приезжавшего в ООН, с президентом США (раньше они были традиционными) американцы не предусматривали.
Перемена вписывалась в параметры стратегии Рейгана в отношении СССР (закончив военные программы, наладить серьезный диалог) и лила воду на его избирательную мельницу. С нашей же стороны особой последовательности не было, ибо поначалу решили ничем не способствовать Рейгану. Согласие встретиться с ним не вписывалось в этот тактический замысел, но, имея в виду долгосрочные интересы, было, разумеется, правильным. В ноябре 1984 г. Рейган одержал внушительную победу над Мондейлом.
Сразу же после переизбрания Рейган отправил письмо Черненко и получил скорый ответ. Хорошие, должно быть, помощники были в Секретариате Константина Устиновича. Их переписка привела к договоренности о встрече Шульца с Громыко, которая состоялась в январе 1985-го в Женеве. На ней условились начать в марте переговоры по всему комплексу вопросов: космос, стратегические наступательные вооружения (СНВ), РСД. До начала переговоров Константин Устинович, начавший искать выход из тупика, не дожил. Вычитал у Шульца, что на встрече с Громыко он сказал ему о намерении администрации США пригласить Горбачева, тогда еще не генсека, в Вашингтон, в том числе для встречи с Рейганом. Громыко среагировал отрицательно, и американец прекратил разговор.
Любопытна техника «спасения лица» – постепенно изменялась формулировка позиции, которая загнала нас в угол: вернемся на переговоры, если вы осуществите возврат к прежнему положению, – до тех пор, пока она не превращалась во вполне проходимую. Мы с Ковалевым однажды проделали эту хитрость с Громыко. Он, конечно, «просек» и поставил вопрос ребром: «Вы что же, прежнюю формулу не повторяете?» Мы вынуждены были признаться: не повторяем. Он принимает нашу формулу, по смыслу диаметрально противоположную прежней, но предваряет ее словами: как мы неоднократно заявляли. Порой я искренне восторгался.
Мы начали как бы новые переговоры по РСД в одном флаконе с СНВ и космосом. Три отдельных проблемы стали обсуждаться в Женеве в трех различных группах. Но массу времени упустили без всякой пользы.
Голландцы. Тот независимый характер, которым славятся жители этой страны, они проявили и в отношении американцев. У меня за восьмилетний период службы завотделом «Первой Европы» были периодические контакты с голландцами и в Москве, и в Гааге. Как-то поинтересовался, отчего они так любят поучать. «Мы ближе к Богу», – был ответ. Дальше я не спрашивал.
Из почти полтысячи крылатых ракет на долю Голландии приходилось всего 48 штук. Но даже этого небольшого количества голландцам иметь у себя не хотелось. Соседи уже не только дали согласие, но и установили первые ракеты на своей территории, а Голландия все тянула. Действовали они по принципу «и нашим, и вашим»: окончательное «да» или «нет» отнесли решением парламента до 1988 г., но площадки для размещения ракет на всякий случай начали строить.
Видимо, определиться они хотели поскорее, и где-то в 1984 г. голландцы вышли на меня с предложением: уберите 48 ракет из своей многосотенной группировки, и мы откажемся от «Томагавков». Я за это ухватился: военного значения нет никакого, но почему бы не попробовать притормозить весь накат? Да и эвентуальные трения внутри НАТО тоже не тот предмет, которым стоит пренебречь.
Стал стучаться во все двери, благо таких, за которыми кто-то мог повлиять на решение, было немного. Тщетно. Замминистра по США Виктор Комплектов признался по-товарищески прямо: «В эти игры играть не буду». Поскольку разговор пошел откровенный, я сказал несколько неодобрительных слов о сложившейся системе. Запомнился ответ: «Это мы с тобой далеко уползем. Система не рождает негативное, но дает возможность отсидеться за корягой, что все и делают». Мне было поручено дать голландцам отрицательный ответ.
Те, однако, не успокоились: ладно, не убираете ваши 48 ракет, тогда просто снимите их с боевого дежурства, а мы попытаемся отделаться от «Томагавков». Удалось бы им настоять на своем, не могу судить, но дипломатия заключается также в испробовании шансов. Внутри себя я буквально запрыгал. Уж слишком очевидными выглядели преимущества. Мы ничем не рисковали. Не получилось бы у голландцев отказаться от ракет, мы возвращали бы свои на боевое дежурство, и все тут. Да и поди проверь, снимались ли они.
Несколько раз мучил я Георгия Марковича Корниенко, первого замминистра, уже появлявшегося на этих страницах. «ГээМ», как мы его называли, был для нас царь и бог. Дипломат высочайшего профессионализма, глубокого знания – до деталей – практически каждого вопроса, работоспособный до удивления.
Вел он дела цепко, полагался, прежде всего, на себя и был, к слову, приятным работодателем. В том смысле, что давал тебе задание, ты его выполнял, а дальше он работал самостоятельно. Что выгодно отличало его от другого распространенного типа руководителя, который, бывало, ползает по твоей бумаге, да не сам водя пером, а требуя, чтобы правил ты, перечитывая ему каждые 30 секунд все новые и новые вариации. Как сейчас слышу скрипучий голос «Г.М.»: «Спасибо, теперь поумираю в одиночку». И ты, довольный, отправлялся на мероприятия более интересные, чем чиновничья служба, впоследствии не часто узнавая первоначальную «болванку».
Восхитительно было слышать, как разговаривает Георгий Маркович с зарубежными коллегами, особенно с теми, кто не давал себе труда читать первоисточники – тексты соглашений, коммюнике, записи бесед. Все это Корниенко знал досконально, беда поверхностному собеседнику попасть под его каток.
Поскольку в отличие от позднего Громыко с ним можно было дискутировать, то именно Георгия Марковича я убеждал ухватиться за голландскую идею. Вопросы ракет средней дальности он держал под особым контролем.
В тогдашнем МИДе количество лиц, причастных к этим, да и другим вопросам ограничения вооружений, было строго регламентировано специальным распоряжением министра. Равным образом, как и освещение внешнеполитических проблем в печати. Помню, какой разнос устроил министр на коллегии в декабре 1982 г. заведующему Третьим Европейским отделом Александру Петровичу Бондаренко, отличавшемуся, кстати, жесткими взглядами, за два слова сочувствия так называемым предложениям Уорнке по РСД (мы убираем старые ракеты и сокращаем «Пионеры» в Европе и Азии до определенного количества, американцы не размещают свои ракеты в Европе).
Какое-то время мои выходки терпелись по служебной принадлежности, как-никак Нидерланды входили в ведение Первого Европейского отдела. Но однажды, когда, видимо, «достал» я его голландскими завихрениями, Корниенко сказал мне: «Анатолий Леонидович, бросьте это дело. Здесь задействованы такие интересы – экономические, военные, политические, что никто Вам ничего не позволит сделать». Теперь, почитав его мемуары, понимаю, что «Г.М.» ориентировался и на свой горький опыт. Имею в виду тот эпизод, когда он вылез, и неудачно, на Политбюро с предложением рассмотреть компромисс по РСД, предлагавшийся Шмидтом. По пальцам можно пересчитать случаи, когда о пружинах нашей политики говорилось так откровенно. Моя «непонятливость» имела то продолжение, что зашла речь и о возможных организационных выводах. Ковалев, как я позже узнал, жаловался в своем кругу: «Адамишина вынимают из обоймы, а я ничего не могу сделать». На мою удачу, оставалось недолго до Горбачева.
Пораспрашивал позже людей, которые в МИДе и других ведомствах были близки к проблеме РСД. Общий ответ: ничего не слышали о голландском предложении. Иными словами, Корниенко расценил (и справедливо) эту идею, как наверху непроходную, и никуда ее за пределы МИДа не вынес.
Ошибка, которую задним числом признал Громыко, заключалась, разумеется, не в самом факте замены старых ракет на новые. Доверия друг другу не было никакого, и каждый стремился улучшить свой потенциал. Модернизацию другая сторона проглотила бы, она делала то же самое, просто сроки не совпадали по времени и по видам вооружений. Проблема в том, что не остановились вовремя, как предлагал Шмидт. Как, кстати, и вообще в гонке вооружений. Окажись военные планы сопряженными с внешней политикой, может быть, на волне антивоенных настроений в Европе удалось бы вообще избежать размещения новых американских РСД и всего для нас негативного, что за этим последовало.
Результативными переговоры по РСД стали только в перестройку, но концовка, как мы увидим во второй части книги, не была простой. В 2019 г. американцы под надуманными предлогами вышли из договора по РСМД. Мы до самого конца пытались его сохранить, но вынуждены были последовать вслед за США.
Достичь паритета! Не лучше обстояло дело в первой половине 1980-х годов и на других направлениях военного соперничества с США. И вообще в области разоружения. Один из главных наших экспертов в этой области Виктор Левонович Исраэлян 16 января 1985 г. доложил на коллегии, что уже в течение многих лет на конференции по разоружению не разработано ни одного соглашения.
Договоры и соглашения, заключенные ранее, лишь несколько приостановили наращивание вооружений на отдельных участках. Затем застой начался и здесь. Одной из причин оказалось вроде бы логичное стремление добиться полного равенства. Но уже определить его в условиях разной конфигурации ядерных сил СССР и США было крайне сложно. Еще труднее обеспечить.
О том, что ядерное оружие неприменимо как средство ведения войны, говорили друг другу на каждой советско-американской встрече в верхах. Понятно, что в функции сдерживания его нужно было гораздо меньше, чем уже накопилось и продолжало накапливаться. Но, возвращаясь домой, недрогнувшей рукой запускали очередные военные программы.
В 1972 г. Никсон и Брежнев, с гордостью подчеркнув, что впервые в истории две сильнейшие на Земле державы согласились взаимно ограничить свои вооружения, как бы шутя поспорили, сколько раз, семь или десять, они и после ограничений могут уничтожить друг друга.
Понимаю, что для брежневского руководства было немыслимым руководствоваться принципом самоограничения, иногда говорили – разумной достаточности. Но этот принцип применялся на практике такими странами, как Франция или Великобритания. У французов он выглядел примерно так: ядерные силы должны быть в состоянии уничтожить ту часть населения страны агрессора, которая равна населению Франции. Французы открыто заявляли, что их подводные лодки с ядерными ракетами на борту могут за полчаса убить 50 миллионов человек.
У нас же с американцами господствовал его величество паритет. В итоге переговоры превращались в многолетние и изнурительные перетягивания каната. Плюс к этому продвижение сильно зависело от общего градуса напряженности. Так, в 1975 г. работа над Договором по ОСВ-2 надолго застопорилась из-за Анголы.
В марте 1977 г. Картер предложил пойти по пути ограничения стратегических наступательных вооружений дальше тех параметров, которые были согласованы на встрече Брежнева с предыдущим американским президентом Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 г. Но уже они вызвали сопротивление военных, и Брежневу пришлось применить сильнодействующие средства, чтобы добиться их согласия. В Москве, как мне рассказали мидовские «разоруженцы», расценили инициативу Картера как подрывающую Владивостокские договоренности и дающую односторонние преимущества США и отклонили без серьезного обсуждения у нас внутри. Это подтверждает в своих мемуарах Добрынин. Он считает, что по крайней мере стоило попробовать использовать американские предложения для поисков договоренностей[33]. Работа над договором ОСВ-2 была вновь заторможена на пару лет. Но не обошлось без аллергии на права человека: картеровское «увлечение» ими явилось дополнительным фактором против.
Переговоры завершились лишь в 1979 г., спустя почти семь лет после начала. Договор предусматривал количественые ограничения (потолки) на все виды стратегических наступательных вооружений, сокращение некоторых из них, а также запрет на производство определенных видов оружия. Впервые было согласовано равное для обеих сторон суммарное число стратегических ядерных вооружений. Также впервые устанавливался детальный режим проверки. Но договор, направленный в Сенат США для ратификации, был отозван после ввода наших войск в Афганистан. Повторю: наши разоруженцы считают, что договор вряд ли был бы ратифицирован в любом случае. Сенат США долго волынил его, придираясь к качественным характеристикам советского бомбардировщика, знаменитого «Бэкфайера». Де-факто, так сказать, по умолчанию договор как будто бы соблюдался. СССР и США, осуществляя модернизацию своих стратегических сил, придерживались основных его ограничений. После заключения, вплоть до перестройки, т.е. шесть лет кряду, с американцами вообще ничего договорено не было. Тем временем гонка вооружений набирала обороты.
Другой пример «долгостроя»: венские переговоры по обычным вооружениям в Европе. Они начались в 1973 г., безрезультатно тянулись вплоть до перестройки, получили при Горбачеве новый формат, возобновились в 1989 г. и завершились в ноябре 1990-го.
«Наша незыблемая, научная, математически рассчитанная, гранитная основа – равенство», – внушали нам на коллегии. Научность сводилась к простой арифметике: иметь не меньше оружия, чем все потенциальные противники. Еще более научным был термин «стратегический паритет». Он был и наиважнейшим, ибо исходили из того, что только он может спасти нас от войны. Но вот что это означает, не разъяснялось. Оказывается, не знали. Это выявилось только в перестройку. Забегая вперед, процитирую Горбачева: «Никто на Совете обороны так и не смог мне толком объяснить, что такое стратегический паритет. Это вопрос не статистики, а военно-политический вопрос. Стратегический паритет – в том, что мы имеем надежную гарантию обороны страны. И противник не пойдет на нас, ибо получит неприемлемый ответный удар. (Французский метод! – А.) Если мы предвидим такой результат, то паритет есть. А если мы будем подсчитывать: винтовка у них – винтовка у нас, тогда надо кончать со строительством социализма. Я задаю вопрос: что, мы и дальше будем превращать страну в военный лагерь?»[34].
Корни паритета тянутся далеко. Военная доктрина, утвержденная высшей партийной инстанцией летом 1939 г., нацеливала на то, что все наши западные соседи есть вероятные противники. С ними предписывалось иметь равенство по численности вооруженных сил и превосходство в авиации, артиллерии и танках. В наше время фигурировали во главе списка США и НАТО, но был там и Китай.
Слушал я однажды, как Корниенко методично втолковывал иностранному дипломату, что мы не можем исключать ситуации, когда придется противостоять не только США и НАТО, но одновременно и Китаю. В совокупности это около 10 миллионов человек под ружьем. Следовательно, мы имеем право на соответствующую прибавку оружия. В другой беседе говорилось: мы не можем закрывать глаза на то, что есть не два, а пять ядерных потенциалов. Никто из них не давал подписки, что не будет применен. Вполне реально возникновение такой ситуации, когда советскому арсеналу пришлось бы противостоять всем четырем остальным.
Готовясь к войне по всем азимутам, мы, как пушкинский царь Додон, должны были «содержать многочисленную рать».
Шестого мая 1985 г., через два месяца после прихода Горбачева к власти, министр обороны С. Соколов объявил в интервью ТАСС: «Паритет между СССР и США, Варшавским договором и НАТО объективно существует сегодня». Про себя мы считали (наивно!), что равенства мы достигли в середине 1970-х, затем Рейган сломал его, нам пришлось восстанавливать.
В Перестройку конфронтация с США отошла как бы на второй план. Одновременно прояснилось, что одной военной составляющей (именно на оружие была направлена львиная часть ресурсов в ущерб другим направлениям) далеко не достаточно. Мы отстали фактически во всех областях соперничества, да и – если строго судить – в военной, но мы этого старались не замечать.
К счастью, никто не проверил на практике, как повел бы себя в деле наш гигантский ядерный потенциал. Проиграли гонку вооружений без единого выстрела, точнее, без единого запуска ракет.
Это, кстати, придавало аррогантности постсоветской номенклатуре – военного поражения она не потерпела. Довольно быстро стали забывать, какой чудовищной силой обладает ядерное оружие, безответственно намекая во время крымского кризиса на возможность его применения. Вновь засветились потухшие было предвестники ядерной катастрофы.
А вот американская номенклатура, тоже не познавшая, что такое война, обрела уверенность в своем всесилии, которая привела ее к бесславным Ираку и Афганистану.
Почему же доперестроечное руководство не сумело сдержать гонку вооружений? Объяснение Громыко: «При Хрущеве у нас было создано 600 ядерных бомб. Он тогда сказал: докуда же будем наращивать? И при Брежневе можно было бы занять более разумную позицию. Но мы по-прежнему оставались при принципе: они гонят, и мы гоним – как в спорте. Наука и умные люди уже сделали вывод о бессмысленности этой гонки. Но мы и они продолжали ее. Мы примитивно подходили к этому делу. А высший наш командный состав исходил из того, что мы победим, если разразится война[35]. И гнали, и гнали ядерное оружие. Это ошибочная была наша позиция, совершенно ошибочная. И политическое руководство виновато в этом полностью. Десятки миллиардов гнали на производство этих “игрушек”, ума не хватало»[36].
Так было сказано на заседании горбачевского Политбюро, то есть, опять-таки задним числом. Насчет ума наговаривает на себя Андрей Андреевич. Скорее, были в прочном плену инерции. «Классовая борьба с империализмом» шла по всему миру, и гонка вооружений была ее неотъемлемой частью. Американцы подпитывали такое мироощущение, ибо постоянно держали палец на спусковом крючке. Одновременно та же самая «классовая идеология» оберегала существующие структуры власти, прежде всего правящую верхушку и партийно-государственную номенклатуру в целом.
Высшую бюрократию устраивало сложившееся положение еще и потому, что жила она небедно, не отставая от Запада. Также и в этом отношении она отгородилась от страны: спецобеспечение продуктами и ширпотребом, свои больницы и поликлиники, квартиры и автомобили, санатории и дома отдыха, поездки за рубеж, для других закрытые. И одновременно, не моргнув глазом, проповедовала коммунистические идеалы.
У того, кто, как Андропов или Черненко, хотел по примеру раннего Брежнева выйти за статус-кво, облегчить непосильную ношу конфронтации, просто не хватило ни сил, ни времени преодолеть сопротивление сложившихся структур. Как показал последующий опыт Горбачева, это не было легким делом.
В памяти встает залитый солнцем кремлевский кабинет Андропова, 14 декабря 1982 г., Генсек за большим столом в белоснежной рубашке. Пометил потом для себя, что вид Андропова «очень больной, измученный, хрупкий. Но схватывает быстро, говорит умно, вопросы знает хорошо и ориентируется в них мгновенно». Оторвавшись от проекта своего выступления на заседании Политического консультативного комитета (ПКК) Варшавского договора, который мы ему зачитывали, Юрий Владимирович сказал: «Решается земельный вопрос». Поймав наши недоуменные взгляды (внешнеполитическая речь никак не касалась сельского хозяйства), пояснил: «Кто кого закопает». Подумалось, конечно: «Хрущев привет прислал».
Только недавно я, наконец, сообразил: у Хрущева – «мы вас закопаем», а у Андропова – «кто кого закопает». Разница! Громыко, знай он таковые слова, обвинил бы Андропова в ереси.
В 1987 г. он убеждал коллег горбачевского Политбюро: «Социализм и через тысячу лет будет нести благо народу и всему миру»; и дальше: «Общие условия общественного развития приведут к ликвидации эксплуататорского строя, к победе народов. Они будут жить в обществе, о котором мечтали Маркс и Ленин»[37].
Любопытно, что во время своей встречи с Рейганом (сентябрь 1984 г.) Громыко, по свидетельству Добрынина, отвечая на высказывания президента США, что марксистско-ленинская философия предусматривает уничтожение капиталистического строя, «отстаивал нашу концепцию о неизбежности – в силу объективного хода исторического развития… – замены капиталистической формации социалистической»[38].
Четырнадцатого марта 1948 г. Сталин задал установку, как оказалось, на следующие сорок лет: «Мир разделен на два враждебных лагеря. Их соответствующие подходы абсолютно непримиримы. Если один из лагерей не капитулирует, рано или поздно вооруженный конфликт между ними неизбежен»[39]. Андропов, глубоко веривший в превосходство социализма, тем не менее ближе к пророчеству, чем Хрущев.
Противоположная сторона своей стратегией доминирования и практическими действиями на мировой арене не раз подкрепляла подозрение, что мирное сосуществование для нее есть лишь тактический прием. Исключительная страна Америка – одно это чего стоит! В первом же послевоенном году в Вашингтоне возобладал сугубо неконструктивный подход: коль скоро политика СССР есть «сплав коммунистического доктринального рвения и старинного царского экспансионизма», переговоры с ним не имеют смысла.
Это формула Джорджа Кеннана из его знаменитой «длинной» телеграммы из американского посольства в Москве в феврале 1946 г. Впоследствии Кеннан исправился: не считал возможным изменение советского строя силой, перейдя на позиции налаживания отношений с Советским Союзом. Добавлю, что будучи в 1999-м в США, обменялся с ним, уже глубоким, но ясно мыслящим стариком, парой слов на приеме в его честь.
В реальной жизни в переговоры, разумеется, вступали, сотрудничество временами налаживали, но глубоко в мозгах сидел расчет на окончательную победу. Наш тезис «мы или они» в зеркальном варианте. В 2007 г. я буду беседовать с бывшим рейгановским советником Ричардом Пайпсом в его доме в Кембридже, близ Бостона. Он особо отметит, что был прав, когда писал во время холодной войны, что две системы разделяет непреодолимая историческая и идеологическая грань. Между ними нет и не может быть конвергенции. Кто-то должен уйти с дороги.
В конечном счете, Сталин и Пайпс оказались правы: одна из общественных систем покинула поле боя. К сожалению, наша[40].
Я согласен с таким «инсайдером», как Анатолий Сергеевич Черняев, с которым не раз беседовал, готовя эти очерки, относительно того, что Брежнев пытался как-то затормозить гонку вооружений. Понимал, что без этого невозможно улучшить жизнь людей, а он близко к сердцу принимал их нужды. (Ссылаюсь также на мидовского товарища и близкого друга Виктора Михайловича Суходрева, много лет проработавшего в непосредственной близости к руководящей верхушке. Это выгодно отличало Леонида Ильича, добавил Виктор, от иных членов Политбюро, включая Громыко.) Поначалу Леониду Ильичу удавалось сдерживать заявки военных, тем более что он хорошо знал предмет[41]. С годами, с ухудшением здоровья, такая миссия становилась все тяжелее. В конечном счете, и он, высший руководитель, остался в плену у политико-идеологической системы, со всеми ее материальными реквизитами, с такими столпами ее, как КГБ и ВПК.
За безопасность СССР отвечают военные. Не знаю, кем и когда был пущен в ход этот догмат, но действовал он в брежневскую пору безотказно. И даже в перестройку, отбиваясь от моих наскоков, Шеварднадзе поначалу повторял его как заклинание. До нас, среднего звена, не раз доходила информация о том, как ставили ультиматумы политическому руководству страны высшие военные начальники. Однажды при мне так повел себя в разговоре с Горбачевым по ракетам средней дальности начальник Генштаба ВС С. Ахромеев. Возражая против полной ликвидации СС-20, самый молодой в стране маршал без обиняков заявил, что в этом случае он снимает с себя ответственность за безопасность страны. Позже, насколько я могу судить, Сергей Федорович основательно «перестроился».
Получив карт-бланш, военные вполне логично видели обеспечение безопасности в возможно большем количестве оружия. Политические способы ее поддержания не входили в круг их прямых обязанностей. А внешняя политика в лице МИДа им подыгрывала.
Лишнее представление об этом дает Михаил Сергеевич Смиртюков. Он долгие годы занимал влиятельную должность Управляющего делами Совета Министров и в этом качестве постоянно присутствовал на заседаниях нашего высшего синклита. «При Брежневе, – рассказывал он, – крупные вопросы на Политбюро, как правило, не рассматривались, все проговаривалось и решалось до того… По большей части слушали разные оргвопросы и обсуждали международные дела. Докладывал о них практически всегда Громыко. Говорил он всегда очень ясно, не подглядывая в записи… Но любые прописные истины изрекал с видом оракула: вот если мы поступим так-то, то произойдет то-то, а если не поступим, то не произойдет. Они его слушали, открыв рты, особенно когда он говорил про американскую угрозу и про наше отставание в обороне. После этого Устинов обязательно начинал объяснять, сколько и каких видов вооружений ему не хватает, чтобы заокеанских подлецов догнать и перегнать. Тихонов (возглавлял правительство СССР при четырех генсеках: Брежневе, Андропове, Черненко и Горбачеве. – А.) несколько раз у меня на глазах пытался им возражать: мол, может быть, обойдемся без этих оружейных систем, может, с их созданием можно и подождать? Тут они на него всем скопом наваливались и проталкивали решение о выделении дополнительных средств»[42].
Один из лучших знатоков военного дела, доктор технических наук, генерал-майор Владимир Зиновьевич Дворкин объяснил мне как-то, что помимо всего прочего влияла страшная память 1941 г., когда в одночасье потеряли вооружения, накопленные в соответствии с военной доктриной. Так что брали числом: к середине 1970-х годов в СССР насчитывалось 60 тысяч танков, больше, чем у всех остальных государств мира, вместе взятых.
С самой высокой трибуны в стране – съезда КПСС ее Генеральный секретарь заявил в марте 1982 г., что мы и рубля не тратим свыше необходимого на оборону. Понимаю тех, кто вложил в уста Брежнева такие слова: таилась надежда убедить, что не должны мы перебарщивать по этой части. Но в какой мере владел говоривший и вообще кто-либо данными, во что обходится стране гонка вооружений? Кто-нибудь определил реальные размеры ВПК? В начале 1990-х, по свидетельству главы правительства новой России И. Силаева,, «точно определить военные расходы и расходы на закупку вооружений ни союзное, ни российское руководство (оно намеревалось резко сократить оборонный бюджет. – А.) не могло. Они проходили по разным бюджетным статьям, данные о них несводимы»[43]. Знали ли, как это стало известно годы спустя, что на оборону мы тратили в пересчете на душу населения больше, чем любая другая страна в мире? Что в 1980-х советский ВПК поглощал более 10 процентов ВВП (американский – 6,5 процентов), а в оборонке у нас работало 5–8 миллионов человек (в США – 2,2 миллиона)?
Советский ВПК мог гордиться высочайшими достижениями. Но уж слишком дорогой ценой они доставались. В антирыночной советской экономике оборонный комплекс пользовался еще более нерыночными преимуществами, включая существенно заниженные цены, лучшие мозги в исследовательских центрах, лучшие рабочие руки на предприятиях. Государство в государстве.
Известно, что половину всех фондов на НИОКР предоставляло в США федеральное правительство, при том, что более 2/3 разработок шло на военные цели. В заказах на войну был залог технического перевооружения промышленности. Наша «оборонка» также была двигателем технического прогресса. Дальше, однако, начинались существенные различия.
Одно из них то, что американцы были рачительнее нас, ибо их военно-промышленный комплекс контролировался Конгрессом и отчасти средствами массовой информации. У нас о какой-то открытости в вопросах обороны страшно было даже подумать. Военная политика, оборонные программы вышли из-под общественного контроля, его не существовало в помине, практически отсутствовал и контроль политический. Ни правительство в широком смысле этого слова, ни Верховный Совет, ни пленумы ЦК, а нередко и Политбюро до конкретных обсуждений не допускались.
В 1997 г. мне, тогда федеральному министру по делам СНГ, посчастливилось побывать на космодроме «Байконур». Взлет ракеты – зрелище незабываемое. Видел там гигантские фермы для запуска «Энергии», сверхмощного носителя, почти полностью пришедшие в негодность. Они потребовались всего два раза, один – для подъема «Бурана», сородича американского «Шаттла». На последних этапах – программа продолжалась двенадцать лет и стоила 14 миллиардов тогдашних рублей – было занято в общей сложности около миллиона человек. И ракета не подвела, и машина получилась удачная: в автоматическом режиме, без экипажа приземлилась, вернувшись из космоса. Американцы на беспилотную посадку своего «Шаттла» так и не решились.
Как рассказал мне Б.В. Бальмонт, несколько десятилетий отдавший оборонке, многие специалисты поначалу не были склонны ввязываться в новую гонку c США, считая, что одновременно и орбитальную станцию, и пилотируемый корабль такого класса нам не потянуть. Руководство убедил довод о возникшей смертельной угрозе: «Шаттл» может сделать нырок с орбиты над Москвой и молниеносно уничтожить ее». (Была, думаю, и другая сторона медали: конструкторские бюро, запугивая руководство, преследовали свои собственные цели: получение госзаказа, как это теперь называется.) Стремление создать такую же угрозу американцам, иметь свой аналог «Шаттла» обескровило космическую отрасль. Борис Владимирович считает, что если к «Бурану» уже не вернуться, то придет время, когда обновленная «Энергия» еще полетит. Такой ракеты требуют новые задачи, и земные, и космические.
В годы брежневского руководства – в этом отношении ему крупно повезло – были освоены богатейшие, уникальные месторождения нефти и газа, разведанные в 1950–1960-е гг. Добыча нефти выросла с 31 миллиона тонн в 1970 г. до почти 400 миллионов в 1984 г. Это был трудовой и научно-технический подвиг. Лектором ЦК я приезжал в те края, и мне рассказывали: запасы нефти такие, что на местах, боясь ошибиться, их снижают в несколько раз, и все равно выходит беспрецедентно много. Нефтяная рента продлила жизнь стареющим лидерам, появилась возможность увеличить закупки продовольствия за рубежом и тем самым избежать назревающего продовольственного кризиса. Выросли закупки оборудования и потребительских товаров. Но несмотря на форсированный рост добычи (позднее он выйдет боком), денег, особенно валюты, не хватало. Слишком велики были статьи расходов: гонка вооружений, Афганистан, участие в других региональных конфликтах, помощь соцстранам, куда шло по льготным ценам от половины до двух третей сырья, а также национально-освободительному движению, компартиям. «Молочные реки» стали иссушаться, а резервов валюты создать не удосужились. Также и по этой причине обвал нефтяных цен в 1985–1986 гг. нанес сильнейший удар по перестройке.
Под конец очерка решусь воспроизвести мысль, которая возникла у меня, когда прочел о судьбе американского летчика, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Он дожил до 90 лет и ни разу в жизни не пожалел о содеянном. Президент Трумэн, отдавший роковой приказ, говорил ему: «Ни в чем не сомневайся, всю ответственность я беру на себя». Так ли уж нелепо предположить, что США могли еще раз нажать на ядерную кнопку? Известны данные: США были близки к применению ядерного оружия 17 раз, причем в пяти случаях речь шла об ошибках радаров. Была у них в почете риторика, вполне допускавшая возможность ядерной войны. Официальное лицо в Пентагоне Т.К. Джоунс считал, что для восстановления Америки после ядерной войны потребуется от двух до четырех лет, если население будет соблюдать несколько простых правил гражданской обороны[44].
Сегодня и у нас, и у «них» подобного рода заявления и словеса расцвели пышным цветом.
И все же, вряд ли мишенью могла бы стать наша страна. Американцы рассматривали возможность атомной бомбардировки СССР, но не решились на это. Ни в годы своей монополии на ядерное оружие, ни во время острейшего Кубинского кризиса, когда имели 5 тысяч ядерных боеголовок, а мы – 300 (хрущевское руководство, кстати, сразу пустилось вдогонку). Очевидно, осознавали, что с нами шутки плохи.
Но вот кого-то послабее они могли грохнуть. «Ястребов» у них хватало, войны и в Корее, и во Вьетнаме они вели долгие и напряженные. Помимо других обстоятельств, они не могли не оглядываться на нас.
Так ли уж спорна мысль, что, создав ядерный противовес, в течение десятилетий связывая руки американцам, мы, разорив себя, спасли мир от крупных неприятностей.
Решусь на такой парадокс: тоталитарный Советский Союз победой во Второй мировой войне спас свободу (а заодно и капитализм) во многих государствах, подмяв под себя ряд других. Равным образом авторитарный СССР был одним из основных двигателей процесса освобождения от колониальной зависимости. Не говорю уж о том влиянии, которое оказал сам факт строительства социализма на одной шестой части земного шара. Для других мы сделали добра чуть ли не больше, чем для себя самих.
Очерк шестой
Штрихи к портретам на фоне власти
Власть не анонимна. Деятели, о которых пойдет речь, влияли, порой решающим образом, на мою жизнь и жизнь миллионов моих соотечественников. Закономерно желание сказать по этому поводу несколько слов.
Н.С. Хрущев. С Никитой Сергеевичем я встречался всего несколько раз (однажды переводя ему), так что личных впечатлений немного. Самое главное его достижение, в моем понимании, это начало утверждения исторической истины о сталинском режиме. И не только на словах.
Именно при Хрущеве начался отток из ГУЛАГа его узников, а они, если взять все тюрьмы, лагеря, колонии и специальные поселения, исчислялись миллионами. Не умри Сталин, сидеть им еще и сидеть. Среди первых освобожденных была жена Молотова, Жемчужная, «преданнейшая мужу женщина», как рассказал мне как-то Семен Павлович Козырев. Пока незащищенная мужем (и разведенная) Полина сидела, Вячеслав Михайлович продолжал исправно выполнять свои обязанности.
Думаю, что, свергая с пьедестала Сталина, характеризуя его деяния как преступление, Хрущев рисковал головой. Он решился на первые серьезные расследования сталинских репрессий, проведенные группой Поспелова, а затем комиссией Шверника. Верно, что Никита Сергеевич не пошел на то, чтобы опубликовать доклад. Но ведь после него ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко не только не дали ему хода, но прекратили дальнейшее расследование. Оно было возобновлено только в перестройку комиссией А.Н. Яковлева.
Именно Хрущев по настоянию Александра Твардовского, поэта и редактора «Нового мира», разрешил публикацию повести другого Александра – Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», первой литературной зарисовки обыденной, и от этого еще более страшной жизни в сталинских лагерях. Номера «Нового мира» зачитывали тогда до дыр.
Да, Хрущев твердо стоял на позициях большевистского правосознания, отдававшего произволом. Так, при нем была введена смертная казнь за валютные операции и расхитительство. Он искренне считал врагами всех тех, кто, по его непререкаемому суждению, вставали на пути Коммунистической партии, даже если на самом деле речь шла о стремлении к творческой самостоятельности. Не щадил он ни Андрея Вознесенского, ни Василия Аксенова, ни Эрнста Неизвестного, ставшего потом автором памятника на могиле Хрущева. Бориса Пастернака заставил отказаться от Нобелевской премии за якобы антисоветский роман «Доктор Живаго».
Но нельзя отрицать, что при хрущевской «оттепели» раскрылось дарование целого соцветия писателей и поэтов, режиссеров и драматургов. К сожалению, и это была примета времен, изменившихся после ухода Хрущева, значительное их число оказалось за рубежом, чтобы вернуться на Родину (далеко не все!) в светлый период перестройки.
В рукописи моего старого сокурсника по МГУ Джиджи Лонго я вычитал краткий, но убедительный анализ того, как после революции 1917 г. торжественно провозглашенная диктатура пролетариата в реальности была диктатурой партии. Эта последняя вылилась или, лучше сказать, выродилась в диктатуру партийного аппарата и, в конечном счете, во всевластие главы аппарата Сталина. Хрущев подорвал последнюю стадию этого процесса, вернувшись на шаг назад, к диктатуре верхушки бюрократии. Это сделало более сложным жесткое единоначалие в будущем, хотя логика заточенности на «пирамиду» брала в конце концов верх. При позднем Брежневе это обратилось в драматический водевиль: его именем правили ближайшие сподвижники, опираясь на разросшуюся и агрессивную в отстаивании своих позиций и привилегий номенклатуру. В определенном смысле Хрущев пал жертвой своего начинания: его соратники, взяв на вооружение хрущевскую филиппику против культа личности, обратили ее против автора. Выглядело это скорее как верхушечный заговор, чем открытая политическая борьба. Обошлось без репрессий, хотя моральных мучений Никита Сергеевич, видимо, испытал немало, в том числе из-за предательства ближайших товарищей.
Хрущева можно и нужно ценить, по моему мнению, за попытку хотя бы частично вывести политическое развитие России из автократической колеи, взять под контроль номенклатуру, предотвратить загнивание правящей верхушки. Его «марксистские» высказывания об общественном самоуправлении, общенародном государстве и его грядущем отмирании выдавали тягу к демократическим переменам. Алексей Иванович Аджубей в разговоре со мной 17 октября 1979 г. объяснял неудачу тестя двумя основными причинами: страна была не готова, и сама фигура Хрущева половинчатая. «Забыл, что борьба за власть есть и при социализме. Пытался ввести революционные вещи, например, сменяемость руководства. На пленуме ЦК произнес фразу, которая стоила ему карьеры: мы должны уйти». Ох, нескоро (год 2024-й).
Движение к демократии, но уже на новых основах продолжила горбачевская перестройка. Хрущев, как и Горбачев, проиграл. Аппарат оказался сильнее. Но если Россия вернется на путь сознательного построения такого политического устройства, которое, обеспечив реальную конкуренцию в сфере экономики и политики, высвободит максимум человеческих ресурсов для ускоренного развития, то и «оттепель», и перестройка окажутся знаковыми вехами на этом пути.
Из властных перемен, осуществленных Хрущевым, одна оказалась серьезной. Органы госбезопасности, тридцать лет подчинявшиеся лично Сталину, снова были поставлены под контроль партии, пусть не полный. Андропов при Брежневе почти все восстановил.
Александр Николаевич Яковлев (мы с ним подолгу разговаривали в разные годы, последний раз за несколько недель до его кончины в 2005 г.) считал, что у страны было двоевластие: КГБ и партия. Причем во многих случаях за КГБ, а не ЦК или Политбюро, оставалось последнее слово. «Не помню ни одного случая за время пребывания в Политбюро и в Секретариате ЦК, – говорил он, – чтобы возражения КГБ игнорировались по какому-либо вопросу. У всех было такое мнение, что кого-кого, а КГБ надо слушаться».
На совести Л.И. Брежнева и окружения – свертывание экономической реформы Косыгина. О том, что Алексей Николаевич, став председателем Совета Министров, запустил целую систему мер, известных как хозрасчет, теперь почти не вспоминают. Косыгин, Либерман и другие сторонники перемен ясно видели, что наша экономика страдает от чрезмерной централизации и слабой мотивации для людей, непосредственно занятых на производстве. Попытки загнать народное хозяйство в «узкое горло» Госплана разбивались об экономические закономерности, независимые от доктринерства.
Усиление материальных стимулов к труду, большая свобода, данные предприятиям реформой, сразу же дали результат. Восьмая пятилетка (1966–1970) оказалась самой эффективной за всю советскую историю. Темпы экономического развития удвоились, причем не за счет привлечения дополнительных ресурсов, а за счет интенсификации. Традиционно отстающий показатель – производительность труда – увеличился на треть. В 1,5 раза выросло промышленное производство. Было построено около двух тысяч крупных предприятий, включая автомобильный гигант в Тольятти.
Выросли реальные доходы на душу населения, увеличились объемы жилищного строительства. Такой эксперт, как профессор Леонид Маркович Григорьев, считает, что мы вплотную подошли к самым развитым странам по показателям продолжительности жизни и качеству здравоохранения, опережая большинство из них по уровню образования. Резко сократились закупки продовольствия за рубежом.
Однако, чем дольше шла реформа Косыгина, тем сильнее становилось сопротивление партийно-государственного аппарата. Партийные руководители на опыте «хозрасчета» убедились, что дать предприятиям самостоятельность – значит выпустить из рук рычаги управления. Начался последовательный саботаж реформы (как двадцать лет спустя в случае с Горбачевым).
К тому же Косыгина сильно недолюбливал и ревновал Брежнев. Это сказывалось на многих делах, где был задействован премьер, в том числе, как мы видели, на внешнеполитических. В конце концов, при негласном содействии МИДа, он был от них оттеснен[45]. Популярность премьера как автора экономической реформы и руководителя промышленности пришлась не по нутру Брежневу.
Сильнейший удар по модернизации нанесли события в Чехословакии. Упор на рыночные факторы был расценен как крайне опасный с политической точки зрения. Звучит парадоксом, но реформу добил четырехкратный рост цен на нефть в результате эмбарго, введенного в отношении Запада арабскими странами, потерпевшими поражение в войне с Израилем в 1973 г. Зачем нелегким трудом добиваться интенсификации производства, когда есть экспорт энергоносителей? Выросшие цены дали противникам реформ в советском руководстве финансовое покрытие издержек, к которым привел отказ от реформ[46].
Предпочли сесть на нефтяную иглу, она же «нефтяное проклятие», не подозревая на сколько лет продлится столь неудобное положение. Директивное планирование не отменили, рынок остался в зачаточном состоянии, возможность введения частной собственности даже не ставилась на обсуждение.
Осталась в силе губительная двойственность системы. По закону решения должны были принимать государственные органы, но они ждали указания партаппарата. Этот последний спускал директивы, но ответственность не нес. В итоге трудно было найти концы, «зато» не сложно было уйти от ответственности.
Свертывание реформ вновь и надолго снизило как темпы развития, так и его качество. Потянулась череда застойных, даром пропавших для страны лет. Они загнали экономику в столь жесткие рамки, что реформировать ее стало крайне болезненной операцией. Мы попали в заколдованный круг: плановая экономика малоэффективна, а реформировать ее себе дороже.
Если до 1970-х годов доля нашей страны в мировом ВВП росла (максимум – 12,9 процентов в 1970-м), то с отказом от реформ Косыгина она стала падать, и чем дальше, тем быстрее.
Полностью согласен, в том числе по счастливому опыту непосредственного общения с Алексеем Николаевичем, с мнением Виталия Ивановича Воротникова, много времени проработавшего на высоких должностях: «В СССР тогда не было руководителя, которого можно было бы поставить рядом с Косыгиным»[47]. Но не он, наиболее грамотный, современно мыслящий, заряженный на благо страны и, выделю, интеллигентный, вышел победителем в аппаратной борьбе.
О неудаче Косыгина стоило бы помнить тем, кто упрекает Горбачева за то, что он не пошел по китайскому пути, который, кстати, немало вобрал в себя из опыта нашего НЭПа. Помимо колоссальной разницы между почти стопроцентно крестьянским Китаем и индустриальным Советским Союзом, между социальной структурой двух стран, психологией и привычками населения существовал и такой момент, как настрой правящих элит. Китайская, действуя более чем жестко в политике, – Дэн Сяопин кровью подавил протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., – была развернута к рыночному хозяйству в экономике. Наша же питала к рынку явную антипатию, как по причине идеологических стереотипов, так и не желая поощрять самостоятельность предприятий.
Оба начинания, которые в разные годы могли бы принести стране ощутимую прибавку в развитии – ленинский НЭП и косыгинская реформа, были подавлены сверху. Первое – Сталиным, второе – «брежневцами».
С Брежневым против Косыгина, а затем все вместе «против» Брежнева. Неприглядная страница нашей недавней истории – поведение членов Политбюро, когда Леонид Ильич тяжело заболел. Оно граничило с садизмом: несчастного человека держали у руля власти несколько лет. (Кроме всего прочего, это было затратное мероприятие: Леонида Ильича поддерживала целая команда (что опять-таки вряд ли доставляло ему удовольствие) из сотни человек. Вообще, расходы на кремлевскую «обслугу» росли постоянно.)
Есть немало свидетельств, что Генсек мучился своим положением. Его верный помощник А. Александров-Агентов пишет, что Брежнев по крайней мере дважды ставил перед товарищами по Политбюро вопрос о своей отставке. «Что ты, Леня! Ты нам нужен, как знамя, за тобой идет народ. Работай гораздо меньше, мы тебе будем во всем помогать, но ты должен остаться»[48]. Таков был общий глас. Наиболее влиятельные из соратников не могли к тому же договориться о «после Брежнева».
У меня остался в памяти полный ужаса взгляд Леонида Ильича, когда он смотрел в разверзшуюся перед ним могилу, куда опускали Михаила Андреевича Суслова. Пережил он его не надолго.
…10 часов утра 10 ноября 1982 г. На даче в Серебряном Бору, где мы работали над речью Брежнева, раздается звонок по правительственной связи, по-простому «вертушке». В Москву срочно вызывают брежневского помощника Анатолия Блатова. Генсек уже полтора часа как мертв, но об этом знают только близкие, главный кремлевский лекарь Чазов и первым оповещенный им Андропов. Через какое-то время Анатолий Иванович звонит оставшемуся за старшего Александрову-Агентову: «Новости очень плохие, заканчивайте работу и съезжайте». Ничего больше конспиратор Блатов не сказал, но и так все стало ясно. Несмотря на полную ненужность, честно дописали последние абзацы, выпили бутылку водки за упокой души и разъехались по домам.
В этот день фельдъегери метались по членам Политбюро: Андропов, Черненко, Громыко и, видимо, Устинов договаривались о преемнике. Им стал, как известно, первый в этом списке. Черненко занял неформальный пост второго секретаря, косвенно подтвердив, что выбор был между ними двумя.
Пока не была достигнута договоренность о новом вожде, о смерти прежнего не объявлялось. Так что советский народ узнал о кончине Генсека на следующий день в 11 часов утра, хотя «вражеские голоса» вещали о ней с вечера. В последние месяцы в Москве шутили, что ЦРУ получило неожиданную передышку: КГБ был поглощен гаданием, уйдет ли Андропов наверх и кто его заменит.
Упомяну, что вместе с известием о смерти Брежнева было объявлено об ужесточении дисциплины, во всех подразделениях МИДа ввели дежурства. Предостережения оказались напрасными. Траурную весть народ воспринял индифферентно, настроения на улицах были далеки от грустных.
Памятный день 15 ноября 1982 г. – похороны на Красной площади Леонида Ильича. «Ну, а мы, конечно, тоже там» (цитата из песни Кима). Ноябрьская погода, не просто смилостивившаяся, но вообще редкая: тепло, сухо и даже проглядывает солнышко. Тысячи хоронят одного – и в смерти люди не равны. Наконец, появился кортеж: бронетранспортер, да еще с пулеметом, генералы, которые несут награды, рядом со мной считают: сорок два ордена. Основная речь – министра обороны, ведь хоронят маршала. Сильно заплаканная вдова, ей, безусловно, тяжелее всех. Опустили гроб в землю под впечатляющий вой сирен, начали подавать «Чайки» и «Волги» семье, и вдруг следом по пустой брусчатке перед огромной, не расходящейся толпой, доверчиво держащей сотни фотопортретов (все одинаковые) с траурной полосой, пролетели два «мерседеса» с московскими номерами деток или внуков. (В ту пору «мерседесы» были в Москве большой редкостью.)
На выходе узнал, что на днях умер Пельше – посыпалось. Боятся даже объявлять. Осталось на сегодня десять членов Политбюро, включая трех немосквичей. К себе в компанию, туда, наверх, допускают крайне неохотно, только многократно проверенных. Уж больно все переплетено и все шито-крыто. Достаточно посмотреть, как подбираются у нас в МИДе послы. Шел домой и думал: много ли останется от всех громких слов, которые сказаны и написаны в траурные дни, и надолго ли.
Затем старики наши один за другим стали уходить из жизни. В ход пошла невеселая острота: выпишите мне абонемент в Колонный зал (там проходили траурные церемонии). Как бы стараясь успеть, они отмечали бесчисленные юбилеи и взаимные награждения. «Не нравится мне нынешняя девальвация орденов, – записал я в дневнике, – Герои Советского Союза, ордена Ленина даются налево и направо. По-другому привыкли их оценивать. Л.И. кончил войну с двумя орденами, а стал четырежды Героем! Маршалам дают Героев ко дню рождения. Что приятно: Героя Соцтруда получил Корниенко, что по делу, то по делу».
В завершение «застойного» пассажа позволю себе сказать пару слов о том, как нам жилось и работалось в те годы.
Привожу две дневниковые записи.
«…Кроме всего прочего мало работают наши руководители. А управлять огромной страной вполсилы невозможно. “Секретариатские” (помощники министра) разведали, что закрытым решением Политбюро время работы его членов установлено с девяти утра до пяти вечера. Тем, кому за 65 (т.е. почти всем), полагается более продолжительный отпуск, а также один день в неделю для работы в домашних условиях. Но и при облегченном режиме берегут они себя чрезвычайно. Возможно, некоторые понимают, насколько серьезны проблемы, вставшие перед страной, но им просто не хватает физических и духовных сил на то, чтобы вывести ход событий из накатанной колеи».
«Водонепроницаемый слой стариков во власти закрыл путь наверх не одному поколению; ниже по всем правилам болота идет гниение, опускаясь до средних и даже младших чинов. Застой не только губит страну, но и растлевает людей».
Как во всякую смутную пору, увлекались историей, пытаясь найти утешение: и раньше было плохо. Поразили меня слова барона Остен-Сакена, сказанные во времена правления императора Павла I: «Единственный выход для порядочного человека – умереть». Он, правда, предпочел принять участие в убийстве самодержца. И того, и другого варианта помогла избежать среда обитания, в значительной степени нами самими созданная.
А микромирок у нас со временем подобрался на славу. Номер один – Юра Визбор, дорогой талантливый друг. Никогда не забыть встречу Нового года. Всю ночь Юра пел, импровизировал, рассказывал случаи из своей многогранной жизни. Как-то он привез Мишу, еще не Михаила Жванецкого – очередная бессонная ночь. Многие свои миниатюры он тогда мог читать только в узкой компании. Безжалостно короткой оказалась жизнь Визбора. «Только полтинник разменял», – сказал на его похоронах на Кунцевском кладбище Юлий Ким. Меня и сейчас, когда я пишу об этом спустя четверть века, душат слезы. А ведь была Юлия Хрущева, завсегдатай – а мы за ней – всех театральных премьер. Были Веня Смехов, Борис Хмельницкий, другие артисты Театра на Таганке, были Татьяна и Сергей Никитины, да мало ли было вокруг прекрасного народа, помогавшего переживать разочарования и огорчения.
При всех неприятностях, которые бдительный режим причинял интеллигенции, постоянно подрастала талантливая поросль. Московские театры, ленинградские концертные залы были отнюдь не хуже западноевропейских или американских. Больше того, наши деятели культуры впоследствии жаловались, что кроме «чернухи» мало что пошло в гору, когда было разомкнуто прокрустово ложе. А тогда, отбиваясь от притеснений, в ход пускали весь талант, который был в наличии, и достигали выдающихся результатов. Кроме того, хорошо владели эзоповым языком. Несмотря на цензуру мистификацией, интонацией, подчеркиванием проводили-таки вольнолюбивую мысль. Иногда это был, конечно, кукиш в кармане, но и он вызывал минутное удовлетворение.
Как не вспомнить Окуджаву, большого поэта-лирика, но также и публициста, некоторые песни которого били не в бровь, а в глаз. Как не вспомнить Театр на Таганке, а еще пуще, такого гиганта, как Владимир Высоцкий. Он, можно сказать, спас честь целого поколения, сумел создать энциклопедию современной ему жизни, включая запретные темы, больные проблемы трогал без издевки, скорее с сарказмом или переживанием, а главное, никого и ничего не боялся.
Билась Таганка за свои спектакли отчаянно, и вся наша братия ей сопереживала. В марте 1983-го им запретили «Бориса Годунова» (бедный Пушкин: такое случится еще раз через тридцать лет). Любимов, главный режиссер, обратился к Генсеку Андропову. Тот в ответ передал, что в области культуры он не компетентен, пусть занимаются этим, кто поставлен: Шауро, Трапезников, Зимянин и др. Примерно в то же время его приемник, глава КГБ Чебриков направлял записки в ЦК, сигнализируя, что «ряд отдельных моментов в режиссерском решении (“Бориса Годунова”. – А.) направлены на порождение у зрителей нездоровых ассоциаций с современной действительностью»[49].
С огромным удовольствием вычитал результаты опроса ВЦИОМ: среди кумиров ХХ в. В. Высоцкий и сейчас занимает в России второе место, ненамного уступая Юрию Гагарину. А ведь, казалось бы, поет о нашей тогдашней злободневности. Прочны, видимо, ее устои.
С годами посредственность торжествовала все бесцеремоннее, загоняя в тень людей неординарных. Иногда приходил к мысли, что наш доморощенный социализм просто оторгает способных. Как же обидно было смотреть, как губит таланты чиновничий аппарат, сколько даровитого народа вынуждено уезжать из страны, провожаемые выкриками «туда и дорога». И били-то больше не по диссидентам, а по талантам. Отъезд за рубеж писателя Аксенова, с которым мы были знакомы, я воспринял как личную беду. Незадолго до его смерти мы с ним вновь увиделись, в перестройку вернулся-таки Василий на Родину.
Когда кинорежиссер Элем Климов (мы дружили с ним) пытался на исторической фактуре выразить свое отношение к происходящему, его фильм «Агония» о временах Распутина семь лет пролежал на полке: «Оболгал Россию»! Не царя, не прежний строй, а Россию. Это вообще излюбленная подмена понятий: недовольство властью выдавать за русофобию.
Продолжали делать большие интеллектуальные подарки Западу, вспомним высылку Бродского, будущего нобелевского лауреата. «Надолго ли хватит?» – спрашивал я себя словами Булата Окуджавы.
По большому счету, если взять весь советский период, бездушное и жестокое разбазаривание талантов можно сравнить с чем-то похожим на избиение творческой интеллигенции.
Как-то, вернувшись из краткосрочной командировки в Москву и зайдя по привычке в секретариат министра на седьмом этаже узнать, что происходит, услышал от несшего дежурство Рудольфа Алексеева неожиданно горький ответ: «Все гниет». Примерно в тех же выражениях, а возможно, и в то же время, в конце 1984 г., охарактеризовал обстановку в стране будущий шеф Эдуард Шеварднадзе в откровенном разговоре с Михаилом Горбачевым.
В последние годы перед перестройкой ушли мы с надежными друзьями-единомышленниками в свой кухонный мир, в свои сходки, в свои байдарочные походы и теннисные баталии, разрешенные и полуподпольные вечера, где пели и читали стихи наши кумиры. Мирок наш безжалостно сжимался, кто-то эмигрировал, кто-то умирал молодым. В общем, ситуация воспринималась, как близкая к трагической. И тем не менее надежда не покидала. Точно сказал Юра Визбор: «А мы все ждем прекрасных перемен, / Каких-то разговоров в чьей-то даче, / Как будто обязательно удачи / Приходят огорчениям взамен».
Загляну сюда из своего лондонского будущего. Находясь в Англии в середине 1990-х годов в качестве российского посла, я дружил с сэром Исайей Берлином. Он считается одним из крупных западных философов. К нашей гордости, родился в Российской империи, в Риге. Так вот, он пишет: «Люди независимого образа мышления нередко чувствуют себя в России отчаянно тяжело. Тем не менее в интеллектуальном и социальном общении с ними вы явственно ощущаете неунывающий нрав, живой интерес как ко внутренним, так и международным событиям. Это сочетается к тому же с экстравагантным и тонким чувством юмора»[50]. Льщу себя надеждой, что это немного и о нас. В условиях несвободы внешней мы тем более ценили свободу внутреннюю.
В памяти сохранился эпизод, касающийся Андрея Дмитриевича Сахарова.
Позвонил мне В.В. Кузнецов, много лет прослуживший в МИДе, а тогда третий год как первый зампредседателя Верховного Совета СССР. Это был поистине благородный человек, для меня такой эпитет вбирает в себя профессионализм в деле и порядочность по отношению к людям, качества, не часто встречающиеся в подобном сочетании. Не было в МИДе человека, кто ни отзывался бы о Василии Васильевиче безоговорочно положительно. Многие повторяют пущенную им шутку: «Если на протокольных мероприятиях молча пить – это пьянство, если же произносить тосты – это политическая работа». Как сейчас вижу его высокую, слегка согбенную фигуру, скуластое лицо и слышу неизменно доброжелательную речь, даже когда он выговаривал. Меня, годившегося ему в сыновья, наедине шутливо звал «дядя Толя».
«Хочу посоветоваться, – говорит Василий Васильевич, – решается вопрос об академике Сахарове. Его поведение зашло настолько далеко, что не обойтись без вынужденных мер». Намеком Кузнецов дает понять, что неудовольствие идет от Брежнева. «В вашей “Первой Европе” ведущие западные страны. Что вызовет более отрицательную реакцию – выдворение из Союза или высылка в Горький без права покидать этот город?» – «А нельзя ни то, ни другое?» – решился я на вопрос. «Не получается», – был ответ. Каюсь, дальше я не пошел. Довлел надо мной авторитет власти, того же Кузнецова, да и о наших диссидентах знал мало. «В таком случае, безусловно, второе». Ясно, что если мои слова и имели какое-то значение, то для дополнительной аргументации Кузнецова.
Скажу в этой связи: своего места среди тех, кто пытался открыто бороться с режимом, я не видел. Чего не было, того не было. Исходил, тогда еще не зная ее, из формулы: права она или неправа, но это моя страна. Мы подтрунивали над расхожим словосочетанием – «родное советское правительство», исправляя на двоюродное, но, в конечном счете, представлялось – это власть в твоей стране. Даже если ты все чаще чувствуешь себя в ней (власти) чужим, должен добросовестно выполнять свой долг. По крайней мере, пытайся по возможности уменьшить ущерб. Сделать удается совсем мало, но время перемен непременно придет, рано или поздно.
Ю.В. Андропов и К.У. Черненко. Приход Юрия Владимировича к власти был встречен – после брежневского маразма – с облегчением. Мы в нашем кружке действительно надеялись на него. Этому способствовало и то, что мы крайне мало знали о той негативной роли, которую сыграл Юрий Владимирович в борьбе с инакомыслием. Помню, как волновалась дочь Хрущева Юлия, будет ли снят запрет с упоминания самого имени Никиты Сергеевича. Он был введен секретным постановлением почти двадцать лет назад. Переживали и мы, ее друзья. Мы дружим с 1970-х. Юлка, как мы ее зовем, дала мне прочитать первую «диссидентскую» книгу – «К суду истории. О Сталине и сталинизме» Роя Медведева. Ведь имя Хрущева связывалось с XX съездом, разоблачением культа личности, «оттепелью». К сожалению, ожидания не оправдались. Пришлось ждать перестройки.
Классная была, надо сказать, практика – наказывать не только человека, но и его имя. Безымянными становились и опальные деятели культуры, когда их лишали гражданства и отправляли в принудительную эмиграцию.
После многолетней лакировки Андропов стал говорить об отрицательных сторонах нашей жизни. На высоком партийном форуме он имел решимость заявить (цитирую по памяти): надо еще разобраться, какое общество мы построили. Мне эти слова крепко врезались в голову. Он-то, пройдя все ступени партийной карьеры, пятнадцать лет председатель КГБ, должен был лучше, чем кто-либо, знать наше королевство кривых зеркал.
А начавшаяся было чистка авгиевых конюшен? Москва была полна разговорами о разоблачении, впрочем, нет, не то слово, о негласном исправлении злоупотреблений героев прошедших восемнадцати лет. Те крали пригоршнями бриллианты, картины из запасников, музейные ценности, словом, все, что плохо лежит, а лежало плохо все. Только и слышно было: Гришин платит за незаконно построенные апартаменты, этого выселяют из роскошных хором. Бывший министр МВД Щелоков, прожженный жулик, по словам Андропова, сказанным в своем кругу, мог стать председателем Комиссии партийного контроля и членом Политбюро! Теперь он вроде под домашним арестом. Поистине не было ничего невозможного при бедном Леониде.
Вместе с тем, продолжаю и сегодня считать, что было не так уж много тогда руководящих работников, которых можно было упрекнуть в стяжательстве. И партийные нормы были суровы, и честные люди все же преобладали. Некоторые руководители так и остались скромного достатка и бедствовали, когда пришла «шоковая терапия».
Юрий Владимирович, несмотря на болезнь, говорили мы между собой, держит власть твердо. Перемены идут, будучи в «пробирке», сумел сделать невозможное – провести своих людей в Политбюро. Юра Визбор обнадеживал: «Все-таки что-то происходит, западные голоса подсчитали, что треть секретарей уже заменена».
Веня Смехов, вернувшийся из Парижа, надеется, что простят Любимова, дадут вернуться. Хочет всем театром обращаться к Громыко, как уже обратились к Андропову: дайте показать спектакль о Высоцком. Словом, Москва либеральная жила надеждами.
Послушав Венины рассказы о Париже, шестидесяти тысячах в нем русских – сегодня в несколько раз, наверное, больше! – вновь подумал, какое большое количество таланта было «выплеснуто» за рубеж, загублено! Что это за страна такая, где ни один, подчеркиваю, ни один гений не обошелся без гонений, не был признан и т.д.
Юрий Владимирович действительно начал ставить своих людей на ключевые посты: Общий отдел изъяли у Черненко, Отдел оргработы, т.е. кадры – у Капитонова. «Но, записал я в дневнике, разгребать и разгребать, ведь таких, как Щелоков или Медунов, не единицы, хватит ли сил?»
Сил не хватало, все чаще Андропов оказывался в больнице. Дела от этого лучше не шли.
У меня есть основания считать, что Андропов хотел вернуться к разрядке в той или иной форме. За это говорит и «спасение» им Мадридской встречи СБСЕ, и то, что он начал выправлять отношения с США, находившиеся в весьма напряженном состоянии. Посредством ряда закрытых шагов стала обозначаться некая «мини-оттепель». Свою роль сыграл визит министра иностранных дел ФРГ Геншера в СССР в начале июля 1983 г. Судя по американским источникам, он посоветовал госсекретарю США Шульцу съездить в Москву для разговора с Андроповым.
Этому предшествовал обмен личными письмами между руководителями двух держав (июль-август 1983 г.), что было своего рода возобновлением переписки: она началась между Рейганом и Брежневым в 1981 г., но эпистолярный жанр заглох, поскольку в посланиях было мало что неформального, тем более конфиденциального. Взаимное доверие было на нуле. Рейган, как позже его преемник Буш, почти год с нами не разговаривал всерьез. На этот раз начал завязываться предметный разговор. Следует добавить, что в этот период появились проблески на переговорах в Женеве по ракетам средней дальности. Андропов в письме Рейгану выразил готовность втрое сократить СС-20, если США не будут размещать свои «Першинги» и «Томагавки». Другими словами, мы оставляли за собой лишь эквивалент ядерных вооружений Великобритании и Франции. Весьма близко к «нулю»!
Все спутали гибель южнокорейского «Боинга», сбитого в ночь на 1 сентября на Дальнем Востоке, и начавшаяся антисоветская вакханалия. Думаю, Юрия Владимировича крепко подкосила эта история.
Воспроизведу события по дневниковым записям, т.е. так, как они мне тогда представлялись в условиях почти полной закрытости.
5 сентября 1983 г. «Наши объяснения, к сожалению, не во всем последовательны, мягко говоря. Кто знает всю правду? Неизвестно. Военные или темнят, или недоговаривают. Кто отдал приказ стрелять? А то, что стреляли, это точно, американцы вроде представили нам подробную запись переговоров наших летчиков с землей. Все слушают, сукины дети».
(ЦРУ сделало запись весьма оперативно, и в администрации США дискутировали, обнародовать ли ее, рискуя «засветить» средства, которыми была добыта информация; решили, в конечном счете, в пользу разглашения.)
«Интересные вскрываются вещи в связи с южнокорейцем. Вроде до происшествия наше политическое руководство ничего не знало, а сейчас не может найти концов».
Г. Корниенко пишет в своих воспоминаниях, что в Москве узнали об этом событии из телеграммы нашего поверенного в делах в США О. Соколова. У него американцы сразу же запросили разъяснений. Олег дал их по поручению из Москвы довольно быстро. Они были сбивчивы, и об уничтожении самолета в них ничего не говорилось, точно так же, как в первом сообщении ТАСС.
Следующая дневниковая запись: «Пленка военными не представлена, только расшифровка, т.е. то, что прошло через несколько рук. Даже самим себе не говорим, сбили или нет, что уж тут спрашивать об остальном мире. Да, выпустили ракету с тепловой наводкой, а может, он не от нее упал. Есть и такой разговор, что решили, мол, показать зубы, очень уж наглыми становятся американцы. Они, видать, действительно приложили к этому руку».
Нашел подтверждение своим тогдашним догадкам в уже упоминаемой книге Шульца. Он описывает разговор насчет самолета напрямую с людьми из ЦРУ: «Разведывательная служба вновь уходила от ответов; у меня сложилось впечатление, что они мне что-то не договаривают» (с. 364). Шульц с самого начала пустил в ход версию, что русские видели, что это пассажирский самолет, и хладнокровно сбили его. На самом деле летчик принял «Боинг» за американского разведчика. Подобная игра на опережение – генетический код американской пропаганды. Проходит время, страсти утихают, появляется признание реально произошедшего. В 2015 г.
стало известно, что американцы почти сразу же доверительно сообщили японцам, что поражение пассажирского самолета было не преднамеренным актом, а трагической ошибкой.
«Чувствуется по всему, что с военными связываться никто не хочет, говорят полуопределенно, все время боятся, что будут обвинены в потакании врагу, в слабости».
«8 сентября на встрече с Шульцем в Мадриде Громыко признал, что самолет был сбит. Раньше об этом сообщил ТАСС. Но наши предыдущие отпирательства на фоне представленной американцами записи выглядели ужасно. Потом аналогичную запись дали японцы, и она – с конечными словами пилота “цель уничтожена” – была прослушана в ООН и появилась в средствах массовой информации».
12 сентября. «Несмотря на свистопляску с южнокорейским самолетом, французы оказались на высоте – поездку в Париж министра не отменили, хотя и перенесли на после его встречи с Шульцем. Визит рабочий, но флаги они повесили, жандармов с саблями поставили. Главное, приняли Громыко и президент Миттеран, и премьер Моруа. Это, конечно, пощечина американцам. В ходе самого визита держались вполне дружественно, передали Андрею Андреевичу приглашение позднее нанести официальный визит. Для упреков насчет самолета выделили одного Шейсона, министра иностранных дел. Остальные только отмечались. В печать же они дали совсем по-иному, ледяная атмосфера, и все такое.
Шейсон мне на этот раз понравился, говорил красочно, откровенно, особенно по Чаду, со знанием предмета. Как сидит в них колониальное нутро, как прекрасно знают они, какие комбинации внутриполитические нужны, как решать проблемы. Но Бог рога не дает уже. Запомнилась мне одна его мысль: ведем себя на Ближнем Востоке пассивно, ибо нет возможности проводить политику в соответствии с нашими принципами. В Ливане попали они, конечно, как кур в ощип: не могли не влезть, а влезши, играют американскую игру. Под предлогом солидарности американцы теснят своих союзников.
Наш был в форме, терпелив, находчив, остроумен; произнес очень хороший тост. Словом, на этот раз все ОК».
15 сентября. «Тяжелый период переживаем. После этого самолета американцы пытаются подвергнуть нас, и небезуспешно, остракизму, общественное мнение резко повернулось против нас, «варваров». Насмарку, или около того, многомесячные усилия по восстановлению имиджа. Теперь американцам будет легче настоять на размещении своих “Першингов”. Наши друзья за рубежом либо отворачиваются от нас, либо встречаются с опаской. Гастроли летят, с убытками для Госконцерта, самолеты, наоборот, не летают с убытками для “Аэрофлота”. (Американцы сумели навязать ряду стран двухнедельный мораторий на полеты в СССР и из СССР.) Идет обмен крайне жесткими заявлениями, в них участвуют Рейган и Андропов. Лучшего подарка для Рона с его ярлыком “империя зла” не придумать. Андрей Андреевич теперь не едет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, отсоветовал Добрынин».
Как не отсоветовать, если губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси заявили, что они откажут в праве на посадку самолета Громыко, пусть летит рейсовым. Такова была атмосфера в США, где дошло до призывов объявить войну Советскому Союзу.
Шульц в своей книге пишет, что демарш губернаторов был контрпродуктивным. Это дало предлог Громыко не приехать на сессию, которая обещала быть некомфортной для СССР. Себе в заслугу Шульц ставит, что, несмотря на сильный нажим hardliners (сторонников жесткой линии) внутри и вне администрации, он поехал на упомянутую встречу с Громыко в Мадриде. Ее он преподнес как «полное отсутствие конструктивности со стороны советских». Шульц, разумеется, не добавляет, что сам далеко вышел за рамки приличия, устроив спектакль в угоду Рейгану.
29 сентября появилась резко критичная в адрес США статья Андропова в «Правде», которая ставила точку: договориться с американской администрацией невозможно.
Все это, вместе взятое, добавило эмоций и жесткости в нашу реакцию на начало размещения американских РСД в Европе в ноябре 1983 г. И надо сказать, встревожило американцев. Рейган стал по крайней мере на словах отрабатывать назад. В январе 1984 г., ориентируясь также на предстоящие выборы, он произнес примирительную в отношении Советского Союза речь.
Запись 11 февраля 1984 г. «Надеждам не суждено было сбыться. Позавчера, в 16.50, пока мы в Волынском дошлифовывали его речь, умер Ю.В. У всех на устах одна и та же фраза: в кои веки достался неплохой лидер, и на тебе. Как же, должно быть, радуются воры». Назавтра было объявлено о новом генсеке – Черненко. «Наша группа крови», – прокомментировал Василий Макаров, старший помощник Громыко.
Пригласили на похороны Андропова на Красной площади, проход строго по пропускам. Морозец минус десять, и часть членов Политбюро – Горбачев, Кунаев шли за гробом от Колонного зала до Красной площади. Часть же – Черненко, Тихонов, Устинов, Громыко вышли сразу из тепла на Мавзолей. В глазах стоит грузная фигура Александра Евгеньевича Бовина, тоже участника «дачных посиделок» в легком плаще-болонье, несмотря на февральский холод. Вид совершенно отчаявшийся: сливай воду. Саша не скрывал острой жалости по поводу этой смерти. Горечи прибавляла безысходность. В самом деле, старая гвардия сплотилась насмерть, закрыла путь наверх единственному молодому (и способному!) Горбачеву. Большое число социальных и возрастных групп просто-напросто не представлено в управлении страной. Среди людей, с которыми разговаривал в те дни, почти повсеместное ощущение недовольства и злости. Долго ли будет править бал эта геронтократия?
В Москве ходили слухи, что Андропов именно Горбачева хотел видеть своим преемником, но это его предсмертное желание скрыто от членов Политбюро. Так оно и было, как выяснилось из воспоминаний его помощника, Аркадия Ивановича Вольского. Долгие годы мы были друзьями с этим прекрасным человеком. В утешение, правда, шепчут, что это последний раз, старики попросили: дайте досидеть до съезда. Следующий теперь точно Горбачев (слово «точно» оказалось, как мы увидим, неточным). И вроде есть договоренность, что он будет вершить дела за спиной больного Черненко.
И какое жалкое зрелище производили попытки скрыть тяжелое состояние нового генсека. Переносили заседания Политбюро, когда нельзя было больше скрывать, давали липовые сообщения. Во время выборов сооружали «потемкинскую деревню» избирательного участка возле ложа больного.
Несложный расчет показывает, что Константин Устинович оказался самым старым генсеком в истории нашей партии. В МИДе мы вернулись к «речевкам», т.е. пишем разговорные памятки, кои и зачитываются от первого до последнего слова, как в добрые старые времена. В принципе это было неплохо: памятки-то писали умные люди. Одно неудобство: каково смотреть, особенно с противоположной стороны стола, как вне зависимости от того, что сказал визави, зачитывается свой текст.
Анатолий Иванович Блатов накануне своего отъезда послом в Нидерланды в январе 1985 г. сказал мне: «Наследство Андропова не укрепляется, а разбазаривается, не хочу при этом быть. Юрий Владимирович любил, чтобы с ним спорили, предлагали варианты решений, позволял, чтобы говорили даже мало патриотические вещи. Мог, конечно, отбрить, но организационных последствий не было. Черненко – другой стиль, полностью полагается на подготовленные бумаги. Словом, вернулись к временам Брежнева. Это реакция аппарата на “андроповщину”».
Добавлю: какой же сейсмической точностью обладает номенклатура, как чутко чувтвует она возможные потрясения!
Кое-что, впрочем, оставалось по-прежнему, как и во всю мою предыдущую службу в МИДе: любой мало-мальский важный внешнеполитический вопрос направляется запиской в ЦК. Помечаю в дневнике: «Мельчают наши бумаги, а ведь процентов 80 можно было решить в МИДе, причем оперативно. Ограничиться бы подлинно принципиальными проблемами, но с серьезным анализом, вариантами, стратегической линией. Дать большую автономию, по крайней мере, в мелочах и даже средних вещах министру. Пусть он действительно будет ответственным за внешнюю политику, пусть решает сам, информируя верхи, а не спрашивая разрешение. Не идет министр на это, ведь если на акции стоит штемпель Секретариата ЦК или тем более Политбюро, она становится недопустимой для критики и даже для обсуждения».
Раньше еще можно было рассчитывать, что Юрий Владимирович подкорректирует ортодоксов. Помню его ответ на предложение об ответных мерах в связи с массовой высылкой из Франции наших сотрудников: «Французов пока не трогать». Хорошее словечко «пока»! Никто не решился вторично обратиться к Андропову по этому поводу.
Помечаю 21 февраля: «Поглядим, во что все это выльется. Пока что Ю.В. стараются побыстрее забыть, и всюду уже поют дифирамбы Черненко. (Например, «выдающийся политический и государственный деятель ленинского типа», «самоотверженно трудится на высших руководящих постах партии и государства», «вносит огромный, неоценимый личный вклад в разработку и критическое осуществление ленинской внутренней и внешней политики КПСС» и т.д. В ту пору мы просто не замечали такие хвалебные речи, а если разобраться, то это же полный абсурд.) Его, мол, единогласно предложило Политбюро, единодушно одобрил Пленум и с одобрением встретили вся партия и весь народ. А и в самом деле могут это утверждать, ибо все молчат: и на Политбюро, и на пленуме, и в партии, и в народе. Выходит, что прав Шеварднадзе, заявивший, что Черненко возглавил ЦК “по воле партии и народа”. Любопытно, сколько в итоге человек на верхушке, принявших данное решение, выразили эту волю? А почему бы, в самом деле, не избрать генсека хотя бы на пленуме среди нескольких кандидатур? Эх, хотя бы еще несколько годков Юрию Владимировичу…»
8 апреля 1984 г. «Жизнь пошла явно менее богатая новостями. Не зря часто слышишь: не успели сделать при Ю.В., теперь поезд ушел. Заправляют делами, пожалуй, больше всего двое – Громыко и Устинов. Гоним вооружения, в каком-то смысле Рейган оказался находкой, переговоров нет, с обеих сторон “ястребы” у власти. Бедные разрядочники гнезда Ковалева (я в их числе), крутятся, как могут, украшают жесткость позиции, надеясь тем самым ее смягчить.
Меньше работы, больше раздумий, окружающая действительность давала для них богатую пищу.
Выдержка из дневника: «Власть, по Марксу, если ее не сдерживать, стремится к саморасширению и к максимальному продлению своих полномочий. Это наш случай: в Союзе нет ничего, что бы ее ограничивало, разве что расхождения внутри верхушки. В итоге всесильное государство работает само на себя. Функции у него, опять же по классикам, охранительно-репрессивные. Вот оно и подавляет общество и личность, душит прогресс. Так что все очень просто: без политических перемен, без демократизации мы не шагнем вперед экономически.
Но как, можно сказать, диаметрально изменилась ситуация. Раньше мы в нашей стране жили ради будущего, жертвовали собой во имя грядущих поколений. Сейчас же фактически проедаем это самое грядущее, плохо работая, маразматируя, пьянствуя, все безнадежнее отставая от развитых стран.
Все убыстряется развитие мира, всякие там научно-технические революции, микропроцессоры, терминалы и т.д. Не для этих замысловатых мелочей создана моя великая Родина. Тяжело ей взнуздывать себя, гнаться за этими беспощадными янки или теми же японцами. У нас свои игры: единый политдень, выборы, на которых нет выборов, и все в том же духе. А с другой стороны, как сплотить, организовать эту огромную, многомиллионную массу, как привить ей общие взгляды и привычки? Не случайно в русской традиции так сильно: просвещать, воспитывать. И церковь этим занимается, и теперь вот партия. В том беда, однако, что значительная часть “воспитателей” не мыслит иначе своего статуса, как, прежде всего, натащить себе».
Страны «Первой Европы» впереди. Время от времени министерская работа давала просветления и в эту темную ночь перед рассветом. Памятным оказался визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса. Большого навара с точки зрения практических результатов он не дал, но политический резонанс остался. Когда мы в последний раз принимали монархов, да еще таких симпатичных? Приятно было видеть в Грановитой палате во время торжественного обеда королеву Софию. Как-никак прямая праправнучка Николая I. Но вот смотреть на бедного Константина Устиновича, когда он, задыхаясь, пропуская целые абзацы, едва добрался до конца щадяще короткой речи, было тяжко. Пометил в дневнике: наибольшая нервотрепка была, как всегда, что дарить высоким гостям. Даже такой вопрос был вынесен на Секретариат ЦК.
Подтверждалось старое правило: двусторонние отношения последними поддавались ветрам холодной войны. Западноевропейские страны не заинтересованы в ухудшении международной ситуации, ибо это лишает их всякой свободы маневра. На волну «разрядки», пусть и поневоле дозированной, они пытались настроить и американцев, и нас. Выделялись такие деятели, как французский президент Франсуа Миттеран и итальянский премьер Джулио Андреотти (хорошие были времена, не сравнить с сегодня).
Визит последнего к нам в апреле 1984 г. завершился – впервые за последний период – совместным документом с западной страной. Не бог весть что, но все же некое подобие желания договориться. Ни Громыко, ни еще больше Корниенко не верили, что с итальянцами возможно что-то позитивное. И как ясен был водораздел между теми, кто радовался даже небольшим подвижкам, и теми, кто придирался, язвил, ерничал. Нечего и говорить, что таких было больше.
Авансы Андреотти о возможных развязках, в том числе по ракетам средней дальности, были приняты Корниенко мрачно. А идея Джулио была не плоха: мораторий с обеих сторон сразу; «ноль» у американцев; у нас остается эквивалент ядерного оружия Англии и Франции. Какого-либо развития эти идеи не получили.
Немного о дипломатической технологии в трудные времена. Цитирую дневник: «Задачу завершить визит Андреотти совместным документом разыграли – пользуясь доверительными отношениями с послом Италии в Москве Джованни Мильуоло – как по нотам. Можно буквально в ковалевскую “Азбуку дипломатии”:
– придумали у себя в Отделе, что это будет моноблок, т.е. не коммюнике по всем вопросам, где неминуемо всплывут разногласия, а заявление в пользу разрядки;
– сочинив его и проведя через министра, “продали” как саму идею, так и основные контуры заявления послу;
– Мильуоло послал ее, идею, в Рим как свою (на нашу там среагировали бы хуже), и она вернулась оттуда к нам как предложение Андреотти; его привез в Москву посланник Данови – блондин, делающий губы бантиком, как достопамятный Джиджи Лонго; мы бумагу в два сеанса согласовали, быстро также потому, что я итальянцев не обманывал, руки не выкручивал: не хотите – как хотите;
– проект заявления был внесен в Инстанцию – вся игра была также для того, чтобы облегчить прохождение через ЦК; там поднялся легкий “шухер,” военные не хотели одну фразу по химическому оружию. Громыко пошел им навстречу, а я легко провел через посла поправку в уже согласованный текст.
Словом, из кожи вон лезли ради разрядки. К сожалению, у партии мира победы бумажные, а у партии войны – ракетные».
Разрядочный потенциал приезда в Москву Миттерана в июне 1984 г. также остался втуне. Старался Митя, так мы называли французского президента в своем кругу, очень, вручил даже орден Почетного легиона городу Волгограду. Но его разумные речи были восприняты как игра на публику.
К тому же в выступлении на обеде в Кремле Миттеран упомянул Сахарова и его незаконное заточение в городе Горьком. По нашей формулировке, вопрос о Сахарове «находится вне контекста международной политики». В изложении советской прессы тост Миттерана был цензурирован, причем обидным образом: «далее распространялся…». Это также снизило эффект от встречи на высшем уровне. Где ты, «разрядка» второй половины 1970-х, где ты, константа наших отношений с Францией?
«Подготовка документов, – записал я в дневнике, – далась с гораздо большим трудом, чем с итальянцами, но в общем без надрыва, несмотря на волнения Ковалева. Конечно, Коля Афанасьевский (замзавотделом по Франции. – А.) – огромная помощь. Почти все бумаги я зачитывал вслух министру, вообще имел с ним частый и в целом позитивный контакт, хотя иногда чувствовал себя начинающим укротителем, входящим в клетку со львом».
«Французы, как всегда, требовали для своего президента все новых и новых поблажек, первоначальной программой не предусмотренных, и почти все получили, хотя и вызвали законное раздражение у Громыко. Характерный пример: два раза я с его подачи отказывал им в телевизионном выступлении “Мити”, а на третий – переиграли: дали согласие, хорошо еще, что не через меня. На этот раз проявил характер Константин Устинович, который вообще вел себя более примирительно».
«Раздрай обнаружился и по более серьезным делам. Черненко обещал подумать над проблемами, которые пробрасывал Миттеран по самым трудным темам, включая зачет ядерных сил Франции. Минобороны на все сказало «нет». Беда в том, что ни мы, ни США договариваться не хотим, находясь – и те и другие – во власти военно-промышленного комплекса».
«Мы горды тем, что стоим непреклонно. Прекрасный предлог – не желаем ни в чем помогать переизбранию Рейгана. Уперлись стенка на стенку и под этим прикрытием гоним вооружения и закручиваем гайки. Вместе с тем сторонники разрядки, где могут, тянут в свою сторону, так что есть у нас и миролюбивые высказывания (чем сильно гордится Ковалев), и визиты типа испанского короля, и даже потихонечку заигрывание с Рейганом.
Жесткую линию олицетворяют, безусловно, МИД и МО. Константину Устиновичу справа их не обойти, и ,чтобы упрочить свои позиции, он пытается маневрировать; не очень ему нравится, что в международных делах везде глухо. Ком тужур, внешняя политика используется в функции внутренней. Но шансов на послабление нашей линии, по-моему, нет. Когда внутри все трещит – не до разрядки.
В условиях полной безнаказанности дело вновь поворачивается к привычному маразму и всепрощению – для своих, разумеется. Мол, народ и так трясет, хватит разных разоблачений и судов. Даже явные казнокрады вроде Щелокова и краснодарского секретаря самого страшного, кажется, избежали. Круговая порука, как и прежде, торжествует».
И дальше: «Тяжелый этап прохожу с министром. Все его мысли наверху, где никому не известный Горбач решительно выходит вперед. А.А. в постоянном напряжении. Плюс старость, перепады настроения. Не обсуждение по существу, до которого и добраться-то трудно, а жесткое выговаривание. Поскольку сейчас готовятся его визиты в Испанию и одновременно в Италию, приходится часто с ним общаться, и в отличие от подготовки приезда Миттерана не проходит случая, чтобы не нарваться на окрик. При обсуждении испанской программы пребывания имел неосторожность упомянуть дворец Эскориал. Полувзрыв: “Как можете мне, коммунисту, предлагать посещение усыпальницы королей?”»
Но задор отстоять точку зрения, которую считал правильной, брал свое. Такая запись: «Приятное ощущение от того, что вступил в бой с явно превосходящими силами – Громыко, Корниенко, Комплектов – и несмотря на ряд чувствительных уколов от министра: “ерунду говорите”, “наивно рассуждаете, не политически” и даже “Вас что, из коробки вынули, где пролежали пять лет?” – стоял до конца. Заключая, А.А. сказал: “А Адамишин-то прав”». «Ты тоже хорош, терпел от хама» (2024 г.).
Видимо, не желая уезжать из Москвы в напряженный период, когда вот-вот должен был решаться вопрос о преемнике Черненко, министр приглушал значение двусторонних визитов, столь прежде им любимых. На приглашение голландцев ответ не давали много месяцев, и так и не дали. Не согласились с датами официального визита в Париж, предложенными французами.
Незадолго до уже обговоренной с испанцами даты отъезда в Мадрид он вызвал меня: “Давайте отбой, в Испании антисоветская шумиха”, – и начал уже диктовать мне телеграмму. Выясняется: испанцы выслали одного из наших сотрудников. “Соседи”, как обычно, говорят о провокации. Чувствую, если буду настаивать, министр распалится еще больше. Цепляюсь за соломинку: давайте вызовем посла. Громыко соглашается.
Срочно прилетевший Дубинин знает свой маневр превосходно. Хорошо поставленным голосом, не давая министру возможности вставить слово (тоже прием), Юрий Владимирович вещает, как ждут Громыко в Испании, как его там любят и уважают. Не знаю, срабатывает ли посол или же дело в неизвестной нам эволюции кремлевских интриг, но визит спасен. Все плюс для “Первой Европы” и не только для нее. А то, что остается в реестре наших внешнеполитических успехов? Только что антиамериканские резолюции, которые принимают по нашей инициативе разные органы ООН. От них ни жарко ни холодно, но можно рапортовать, что США остались в изоляции: мол, было ли такое раньше?»
Ковалев в минуты отчаяния бодрился: «Я – член Союза писателей, чего мне бояться». Потом опять пробивался оптимизм. Утешает меня после возвращения Андрея Андреевича из США: «Идет борьба за нашего министра: увидите, будут подвижки». На мой вопрос, кто же подвинет на них Громыко, Анатолий Гаврилович многозначительно показывает на потолок. Но я-то вижу, что на каждый позитивный шажок есть отповедь. Дает Черненко мало-мальски разрядочное интервью «Вашингтон пост» (его помощник рассказывал мне, что наверху оно переделано с более жесткого мидовского варианта), а через два дня «Правда» в редакционной статье практически опровергает его. А что говорить о ТАСС: в одном из сообщений оно сравнило Рейгана с Гитлером.
Возможно, Константин Устинович, натыкаясь повсюду на тупики, действительно хотел уменьшить жесткость нашей внешней политики. Мы это видели на примере евроракет. Добавлю, что в октябре 1984 г. партактив получил его выступление на Политбюро. Там прямым текстом говорилось: необходимы новые инициативы, идущие навстречу Западу, на старом багаже далеко не уедешь. Но возникшие было слухи о предстоящем уходе из Афганистана быстро затихли, а нашего возвращения на разоруженческие переговоры в Женеве пришлось ждать еще полгода. До их начала, повторю, Черненко не дожил.
Пока что оставалось доверяться дневнику: «К сожалению, наша внешняя политика опирается не на реальности, а на символы – национально-освободительная борьба, прогрессивные режимы и т.д.
Характерный пример – Сирия. Недавно мы говорили на этот счет с Виктором Посувалюком, одним из лучших арабистов и товарищем по футбольным баталиям на мидовском стадионе. Фантастика что происходит. Сами не зная как, влезли со своими железками, а главное, людьми, в самое пекло. Три тысячи наших солдат с зенитными расчетами находятся в Сирии в безза-щитнейшей и опаснейшей ситуации. Могут их прихлопнуть в любой момент. В силу большой уязвимости военные считают, что надо бить первыми. Такие планы, в самом деле, вынашиваются, более того, вроде уже выпустили по израильтянам пару ракет, к счастью, не попали. А что будем делать, если по нам врежут? Можно понять главу Сирии Асада, ему нужны заложники. Но нам-то это все зачем, ради любви к соперничеству с США?
Виктор объясняет это следующим образом: “Сирийцы требуют и требуют новое оружие, а мы даем и даем, на миллионы рублей. Почему? Есть у нас целый слой людей, кому выгодно производить и продавать вооружения, а для этого надо иметь хорошие отношения с клиентами; не просчеты в политике, а своя линия, корыстная, узкогрупповая, прикрывающаяся фразами о поддержке национально-освободительного движения.
Согласились мы с Виктором, внешняя политика распылена по множеству ведомств, и в силу многочисленных согласований дело идет медленно и туго».
Хороший друг был Витя и специалист первоклассный, остро переживал его преждевременный уход из жизни. Арабисты в МИДе были сплоченным отрядом, и язык, и предмет знали превосходно.
Весна 1985 г. обещала быть не только фенологической. «В Москве опять ожидание, на этот раз ждут, как сложится со здоровьем у Черненко. Старички потихоньку умирают – последний по счету, в декабре 1984 г., Дмитрий Федорович Устинов. Перед этим успели “уйти” Огаркова. Один наш Андрюша держится молодцом. Уверяли свои “кремленологи”, что Андрей Андреевич рассматривает возможность “бросить шляпу в круг”».
«После смерти Андропова в определенный момент Устинов – в тройке он лидером не был – решил, что Громыко зарывается, и перешел на сторону Горбачева; с кончиной же Устинова претендентов только два: ваш и Горбачев», – говорил мне в феврале 1985 г. в сауне, как это водится (только потом узнал, что и бани прослушивались), журналист и славный парень Виталий Кобыш.
Мы в отделе не знали, естественно, когда и какое решение принял наш министр в раскладе сил, борющихся за «испанское наследство», но поразились произошедшей в нем в начале марта 1985 г. перемене. К Громыко вернулась его легендарная невозмутимость. Следующий, произошедший на моих глазах, случай подтвердил это.
Десятого марта прилетает в Москву Ролан Дюма, министр иностранных дел Франции, далекий потомок знаменитого писателя. Громыко, нужно отдать ему должное, сам ездил встречать тех иностранных коллег, которые были ему по душе. Едет он в Шереметьево-1 и на этот раз; как завотделом «Первой Европы» встречаю его в правительственном ВИП-зале. Самолет слегка опаздывает. Громыко выглядит абсолютно спокойным, можно сказать, умиротворенным.
Между тем ситуация, ставшая известной на следующее утро, почти шекспировская: часом раньше скончался Черненко, но знают об этом считанные персоны. В те времена утечки были практически исключены. Страна начинала о чем-то догадываться, слушая траурную музыку. Обычно она предшествовала официальному объявлению, но пока по телевидению гоняют веселое. Траур начали с утра.
Рассказывая мне лет двадцать пять спустя о событиях этого вечера, Горбачев упомянул, что первым узнал о смерти Черненко от Чазова. Михаил Сергеевич сразу же сообщил об этом Громыко, позвонив в машину: «Он ехал встречать какого-то французского гостя (Дюма! – А.). Назначив заседание Политбюро, продолжает Горбачев, попросил Громыко приехать на полчаса раньше. Потолковали перед Политбюро минут пять, не больше, договорились объединить усилия».
Прибывает Дюма, садимся в том же ВИП-зале выпить кофе перед дорогой в Москву. Заходит речь о программе визита, она Дюма нравится. Громыко замечает, что будут некоторые изменения, не уточняя какие. Мы, кто тысячу раз переделывал программу, заволновались. Только на следующий день поняли, что скрывалось за словами министра: выпал пункт о приеме Дюма у Черненко. Всего-навсего, что называется.
«Бедный Константин Устинович, – пишу я в дневнике, – никто его по-настоящему не оплакивает. Фразы по радио о глубокой скорби звучат фарисейски. Одна жена – показали по ТВ – никак не могла отойти от гроба, все гладила его седые волосы».
Следующая дневниковая запись: «Если Громыко принял решение не идти в открытый бой за пост генсека, то оно было правильным. Шансов в самом деле крайне мало. После трех смертей общественное и партийное мнение резко против стариков. Зато сейчас уверенно держится на всех публичных появлениях на третьей позиции – после нового генсека Горбачева и премьера Тихонова. Общий говор – быть ему президентом».
Политическая траектория Андрея Андреевича Громыко растягивается на две трети ХХ в. Вряд ли найдется другой деятель подобного калибра, который начинал бы свою карьеру при Сталине, а оканчивал при Горбачеве. Уже одно это долгожительство заставляет задуматься о феноменальных способностях. Равно как и такой системе власти, которая если не поощряет, то предполагает приспособленчество к меняющейся среде. Каждый деятель, приходя во власть, застает политическое и иное устройство своей страны в том, естественно, виде, в каком оно сложилось. Большинство устраивает статус-кво. Тех, кто пытается на благо страны изменить положение к лучшему, во все времена не много. Но именно здесь проходит водораздел, определяющий лицо и место в истории того или иного политика. Что касается Громыко, то вот как это видится со стороны: «На посту министра иностранных дел Андрей Андреевич оставался справным крестьянином: он не хотел перемен и сделал все возможное, чтобы законсервировать страну в том виде, в котором она досталась ему от Сталина и Молотова»[51].
С учетом исторического развития нашей страны именно из крестьянства вышла в свое время преобладающая часть номенклатуры.
К такому выводу я пришел умозрительно, но в минуту откровения поделился им с работником аппарата ЦК, с кем вместе корпели в ноябре 1982 г. над брежневской речью, той самой, произнести которую Леониду Ильичу не довелось. Он в ответ воскликнул спроста: «Как ты додул?» Потом рассказал, что знаком с личными делами и был удивлен, как много выходцев из кулаков можно вычислить среди номенклатуры. По его словам, порядка 80 процентов.
Наряду с положительными качествами, такими как трудолюбие, осторожность в суждениях («молчание – золото»), исполнительность и терпение, эти люди принесли в эшелоны власти слабое чувство служения обществу, ибо его не было в их социальной традиции. Первая заповедь: думай о себе и своих, остальное приложится.
В далекие 1960-е Громыко буквально очаровал меня: до невозмутимости уверенный в себе, щелкающий иностранных собеседников, как орешки, не чурающийся самоиронии. Приведу образчик: произносит Громыко тост, говорит по своему обыкновению без бумажки и начинает так: «Имею в виду сказать короткую речь, – держит паузу и добавляет, – если по дороге ничего путного не придет в голову».
Подкупали его отношения с женой, Лидией Дмитриевной. Чувствовалось, что это глубоко преданная друг другу пара. Такая «цитата» из 1960-х. Едем по итальянским холмам и долам, чета Громыко сзади, я, переводчик, впереди. Тогда об охране заботились меньше. Лидия Дмитриевна говорит с легким белорусским акцентом: «Посмотри, Андруша, красота какая». Ей приходится повторять фразу несколько раз, пока Андрей Андреевич не подает реплику: «Лида, вижу». Как было не очароваться!
Меня из мидовского подлеска Громыко стал выделять после следующего случая.
Май 1967 г., в Москву прилетает министр иностранных дел Италии Аминторе Фанфани. Андрей Андреевич встречает его на аэродроме и везет, как пишут в протокольных сообщениях, в отведенную резиденцию. Демонстрируя свою симпатию к Италии, которую Громыко действительно любил и хорошо знал ее историю, он начинает цитировать, как говорит, пушкинские строки: «Графиня Эмилия, белее, чем лилия…»[52]Далее, однако, не может вспомнить, как это стыкуется с Италией. Тут я прихожу на помощь: «Стройней ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится». При этом, будучи уже кое-каким царедворцем, умалчиваю, что никакой это не Пушкин, а Лермонтов.
На следующее утро только вхожу в мидовский особняк на улице Алексея Толстого, ныне Спиридоновка, где обычно проходили переговоры, слышу, что меня спрашивает Громыко. Выталкивают пред светлые очи, и Андруша говорит: «Вот Адамишин, Пушкина знает», – несколько даже удивленный, что есть в его коллекции такие экземпляры. И вся публика за ним: «Пушкина знает, Пушкина знает».
Когда я помечал в дневнике этот эпизод, то закончил патетикой: «Дорогие мои дед и баба, и с того света вы помогли внуку, раз и навсегда привив любовь к изящной словесности. Не пренебрегайте ею, молодые люди».
Позже я убедился, что министр различал не много людей в центральном аппарате. По имени-отчеству обращался к первому заму и прикрепленному врачу, почти ко всем остальным – по фамилии. В министерстве его звали за глаза «Гром» и боялись панически, хотя на наказание скор не был, больше выговаривал. МИДом управлял как своей вотчиной, что относилось и к кадровым назначениям.
Переводческая моя стезя перешла затем в спичрайтерскую. Поставил меня на нее Анатолий Гаврилович Ковалев, мой неизменный куратор. Квалифицированных «писарей» в МИДе всегда недоставало, он же заметил за мной, как ему казалось, легкое перо. Несколько лет был на положении подмастерья. Потом вышел в «коренники».
Запомнились в этой связи столетие со дня рождения В.И. Ленина и торжественный доклад по случаю годовщины Октябрьской революции в 1973 г. Сделать его было поручено Громыко, только что ставшему членом Политбюро. Это скачок из числа качественных. Выступление в связи с праздником Октября в кремлевском ареопаге считалось вторым по престижности после речи на партийном съезде. Бог ты мой, сколько раз мы переделывали этот доклад, сколько месяцев, да, месяцев, корпели над каждым словом!
Как итог, четверть века без перерыва отслужил в Москве близко к верхним (в МИДе они были нижними) этажам советской дипломатии. Сейчас об этом не жалею, но тогда пару раз просился на зарубежную работу, Андрей Андреевич не отпустил. «Зато» с течением времени, мучительно освобождаясь от иллюзий комсомольской юности, начал постепенно понимать, как функционирует механизм власти, тщательно скрываемый от посторонних глаз, какие неписаные законы – причудливое сочетание партийных норм и кланово-земляческих обычаев – царят наверху. Ну и, конечно, мои представления о внешней политике серьезно менялись по ходу службы больше всего, пожалуй, благодаря многолетнему общению с министром.
Насчет иллюзий: мидовский ВЛКСМ со старта способствовал «отрезвлению». Вскоре после прихода в МИД я был направлен на месяц поработать землекопом на стройке. Я отнесся к этому спокойно, ведь рабочей силы такого рода хронически не хватало. Поразило другое: «поощрение», в открытую предложенное комсомольским секретарем министерства (помню до сих пор его фамилию, Кобяк): «Вернешься, можешь подавать заявление в партию». Отработал я «за так», а в КПСС вступил (подобные случаи отбивали охоту) через девять лет, когда стало невозможно откладывать.
Выход Громыко на дипломатическую сцену произошел в полном созвучии с тогдашней эпохой. Ученый секретарь Института экономики попал в 1939 г. на работу в Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД) в результате набора, который многие называли «сталинским». Старая гвардия, состоявшая преимущественно из большевистской интеллигенции, была вычищена и почти полностью репрессирована.
Слово многократному послу и первому замминистра Юлию Михайловичу Воронцову: «Тогда выстригали весь верхний эшелон МИДа. Я не знаю, как Громыко себя чувствовал, он что-то не рассказывал. Но знаю от моего начальника С. Царапкина. Он мне рассказывал: “Пришел в МИД с другой работы, сразу замзавотделом поставили. На следующий день прихожу, завотделом нет. И мне говорят: ты будешь завотделом. Я даже не знаю, каков круг обязанностей и вопросов, не успел вникнуть. Я направо-налево посмотрел, тоже никого нет – всех арестовали”»[53].
В то расстрельное время тридцатилетнему экономисту-аграрнику доверили отдел американских стран внешнеполитического ведомства. Громыко двинул В. Молотов, только что сменивший М. Литвинова на посту наркома иностранных дел. Впоследствии Вячеслав Михайлович гордился этим и не раз повторял: «Громыко – мой выдвиженец».
Через полгода после прихода в НКИД Громыко направляют в посольство СССР в Вашингтоне советником по сельскому хозяйству. Литвинов (он стал там послом) большой расположенности к нему не проявил. А. Добрынин в своей книге пишет о непростительном промахе посла: «Как исторический курьез старожилы МИДа из кадрового управления рассказывали следующее. Литвинов не любил Громыко. Когда, по заведенному порядку, Литвинов прислал ежегодные характеристики своих сотрудников, то в первой характеристике Громыко было написано, что он к дипломатической службе не подходит»[54]. Пикантность в том, что посол не знал одной детали: накануне отъезда Громыко в США его принял Сталин. И уж, конечно, не догадывался, что через какое-то время получит указание из Москвы – сдайте дела Громыко.
Мемуаристы пишут, что американцы были раздражены подобной рокировкой: из советника в послы, беспрецедентной в дипломатической практике. «А у нас, – замечает Воронцов, – считалось, что Сталин сделал это намеренно. Чтобы ущемить американцев, показать свое недовольство их маневрированиями» (речь шла о затянувшемся открытии второго фронта).
Власть в лице Молотова и Сталина со старта проявила благосклонность к Андрею Андреевичу, и ее доверие не было обмануто.
В 1943 г., в разгар войны, Громыко – посол в США. Дальше карьера продолжалась столь же успешно, вплоть до двадцативосьмилетнего непрерывного пребывания (1957–1985) на посту министра иностранных дел. Не приди к власти Горбачев, Громыко перекрыл бы рекорды министерского долголетия. (Кроме, возможно, российского: граф Карл Васильевич Нессельроде служил в этой должности сорок лет.)
Необычно длительное по западным меркам нахождение Громыко во власти было притчей во языцех у иностранцев. В государствах, с которыми поддерживал отношения Советский Союз, менялись президенты, премьеры, министры. Но когда они приезжали в Москву, их ждала встреча все с тем же Громыко. Вели они себя с советским министром, по крайней мере, на встречах, где я присутствовал, с заметным пиететом, некоторые заискивали.
Нашелся один «провокатор», министр иностранных дел Нидерландов ван ден Брук.
В беседе с ним в апреле 1985 г., уже в перестройку, Громыко разоблачал США и их союзников, говорил о принципиальной политике СССР. Полной неожиданностью и для министра, и для меня, присутствовавшего при разговоре, прозвучали слова голландца: «Знаете, я на всю жизнь запомнил слова детской песенки: “Как же это грустно, что я так хорош, а мир так плох”». Не нашелся Громыко, что ответить. Он мог быть резким и саркастическим, но абсолютно не привык, чтобы кто-то мог так перечить ему. И лишь в конце беседы, когда голландец для проформы сказал: «До следующей встречи», Громыко с раздражением ответил: «В двухтысячном году!» Тот сдерзил и на сей раз: «Вы и тогда будете министром?» На что Громыко уже крикнул: «Да, буду обязательно!» Голландцу надо было приехать домой с возможно более жесткой позицией Громыко по существу вопроса (ракеты средней дальности). Для этого он и выводил Андрея Андреевича из равновесия.
Мне же вспомнился случай, произошедший во время государственного визита в Италию Подгорного в 1968 г. Ему предоставили возможность выступить на митинге рабочих ФИАТа на огромной площади перед заводом. Мол, хотите пообщаться с пролетариатом, пожалуйста. Растерялся Николай Викторович, привыкший к советским тепличным условиям, говорил больше междометиями и лозунгами, хотя принимали его – для левых он был посланцем страны победившего социализма – восторженно. Не входило в арсенал советских руководителей умение напрямую говорить с массами, да еще на открытом воздухе. Искусством цивилизованной полемики также владели единицы.
Мало-помалу (на это ушли годы) мое очарование министром стало улетучиваться. В первую очередь потому, что все чаще вставали передо мной вопросы касательно нашей политики и того, как она определялась. В предыдущих очерках мы видели настрой Громыко, его позицию по Чехословакии, Афганистану, установке СС-20, гонке вооружений, конфронтации, правам человека. Коллеги по МИДу в один голос говорят, что Громыко не был инициатором тех решений, многие из которых позже сам назовет ошибочными. Может быть, что и так. Но он не остановил их и не исправил.
Неоднозначно поведение Громыко во время кубинского кризиса 1962 года. При подготовке встречи с Кеннеди в Вене Хрущев предложил своим коллегам по Политбюро оказать нажим на молодого американского президента, что, в конечном счете, и привело к завозу ракет на Кубу. Микоян попытался возражать, оставшись в единственном числе. Громыко промолчал. Так, во всяком случае, оценивает ситуацию Добрынин[55].
Судя по мемуарам самого Громыко, в разговоре с Хрущевым один на один Андрей Андреевич предупреждал его против ракетной авантюры, говорил о неизбежном серьезном кризисе. Других свидетельств этому нет. Но пусть будет так. В любом случае Хрущева убедить не удалось, и Громыко посчитал свою миссию выполненной. Между тем страна оказалась на волоске от ядерной катастрофы. Снимая Хрущева, его соратники справедливо вспомнили ему Кубу, несправедливо забыв о себе.
Добрынин переживал, что Хрущев и Громыко сознательно дезинформировали его – и соответственно он лгал Кеннеди насчет «сугубо оборонительного оружия», завезенного на Кубу. Кстати, Хрущев использовал для своих довод, который впоследствии оправдывал другие необдуманные акции типа ввода войск в Афганистан: «Почему им можно, а нам нельзя?»
Однажды Андрей Андреевич высказал свою философию принародно. На совещании дипсостава МИДа он давал оценку событиям (дело американского пилота Пауэрса), когда кто-то из зала бросил реплику: «А Вы не возразили?» Громыко, строго взглянув на сидящих, отреагировал: «Возразить-то можно было, но возразивший потом вышел бы в боковую дверь, никем не замеченный»[56].
«Советские дипломаты, – жаловался Г. Киссинджер, – почти никогда не обсуждают вопросы концептуального характера. Их тактикой является упор на проблему, интересующую Москву в данный конкретный момент, и настоятельное упорство в достижении ее разрешения, рассчитанное не столько на то, чтобы убедить собеседников, сколько на то, чтобы их вымотать. Настойчивость и упорство, с которыми советские участники переговоров проводили в жизнь решения Политбюро, отражали железный характер дисциплины и внутренний стиль советской политической деятельности, превращая высокую политику в изнурительную мелочную торговлю. Квинтэссенцию подобного подхода олицетворял Громыко»[57].
Произошедшая в сталинские времена общая подмена нравственных понятий коснулась и манеры поведения. В моду вошли молчаливый суровый вид, безоговорочность суждений, не возбранялось при случае унизить подчиненного. (Известно, что Хрущев позволял себе непристойную грубость в отношении Громыко, в том числе в присутствии иностранцев. Ветеран мидовской службы Е.П. Рымко описывает такой случай в своей книге.) Не уважая достоинство личности, трудно было соблюдать достоинство политики. Кроме всего прочего, страдала практическая работа. Вот один из примеров.
Завершается работа над речью министра на второй спецсессии Генассамблеи ООН по разоружению. Нас трое: Громыко, его первый зам Корниенко и я, спичрайтер. Обращаю внимание, что один из пассажей, внесенных верховной рукой, надо бы снять, ибо раньше мы говорили обратное. Громыко обращается к Корниенко: «Он врет?» Георгий Маркович знает, что я прав, но он знает и то, что противоречить министру «при людях» – себе дороже. Он выходит из положения, молча делая знак, что можно продолжать. Текст как был неправильный, так и остается. Окончательная редакция за мной. Спрятав обиду в карман, вычеркиваю злосчастный абзац. В этом виде речь проходит и Корниенко, который правку, разумеется, заметил (документы, а тем более выступления министра он тщательно вычитывал), и Громыко.
Речь в Нью-Йорке прошла нормально. Но на пресс-конференции Андрей Андреевич, говоря импровизированно и без бумажки, ошибочный тезис все же озвучил. Тут же обратили его внимание на некорректность позиции. Громыко не знал, что ответить. Наш главный эксперт Виктор Карпов сильно расстроился: «Такими неосторожными заявлениями подрываются наши позиции».
Одергивания, порой оскорбительные, закрывали возможность для нормального обсуждения. В МИДе можно было по пальцам пересчитать людей, которые смели высказать министру свое мнение по деловым вопросам. Если же знали, что оно расходилось с громыкинским, то почти никто. Мне, уже члену коллегии, вроде «допущенному», он как-то сказал абсолютно серьезно: «Какое право Вы имеете судить?»
В первые годы под началом Громыко от него не приходилось выслушивать обидных слов, и чужое мнение он мог воспринять. Втайне я гордился: меня и держат потому, что я говорю, что думаю. Метаморфоза происходила по мере того, как давал знать о себе возраст, крепчал «застой» и укреплялось положение во власти.
Психологи считают, что вовремя уйти означает избавить и себя от многих неприятностей. У людей наверху, что в застойные, что в нынешние годы, подобная мысль не возникает. «Политик хочет оставаться на своем посту всегда из самых высоких побуждений» (Агата Кристи).
Нельзя не сказать, что скверную роль играло окружение: при беспрерывном поддакивании, отсутствии возражений, лести трудно было не уверовать в свою непогрешимость. Отсюда мгновенное раздражение против попыток, даже в «бархатных перчатках», сказать что-то поперек.
Андропову принадлежит фраза: не только власть портит людей, но и люди власть. Он выразил эту мысль стихами: «Сбрехнул какой-то лиходей, / Как будто портит власть людей. / О том все умники твердят / С тех пор уж много лет подряд, / Не замечая (вот напасть!), / Что чаще люди портят власть».
У итальянского государственного деятеля Джулио Андреотти своя точка зрения на сей предмет: «Власть портит людей, которые ее не имеют». Он, правда, находился во власти несколько десятилетий.
Но вот, к примеру, Алексей Николаевич Косыгин или Василий Васильевич Кузнецов, те же Степан Васильевич Червоненко или Семен Павлович Козырев, наконец, Георгий Маркович Корниенко и многие другие, обладая прекрасными профессональными качествами, еще и следовали правилу, когда-то сформулированному Лениным: «Начальство не имеет права на нервы».
Громыко и система – «близнецы-братья». Могут возразить: тогдашняя действительность жестко диктовала свои законы, а что до долгожительства, то любой политический деятель стремится как можно дольше остаться наверху. Но, спрашивается, каким путем? Тем, который обусловлен окружающей средой, в которой протекает деятельность личности, прежде всего, сложившейся политической системой.
В нашей стране она была сработана по лекалам Ленина и подправлена, по выражению британского историка Роберта Конквеста, «жутким гением» Сталина, став в конечном счете весьма близкой к монархической. Несколько модифицированная XX съездом КПСС, она, понеся потери, выдержала атаку перестройки и сейчас все больше приобретает знакомые до боли очертания.
В нее не заложены такие составляющие, как честные выборы, независимые друг от друга ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная, а также свободная пресса. Тем самым нет места для открытой политической конкуренции, крайне затруднены периодическая смена руководства и действие принципа меритократии, требующего отбора по способностям.
«Зато» есть другие «ноу-хау» большевиков – отстранение громадного большинства населения от политической жизни, ложь, порочный социальный контракт. Он с самого начала зиждился на неадекватном обмене: государство берет на себя заботу о благосостоянии людей, точнее, поддержании их, как показала практика, невысокого жизненного уровня, а взамен отбирает свободу. Права, законность, справедливость заменяет политическая целесообразность. Что целесообразно, что нет, решает власть.
Дефекты системы настолько очевидны, что время от времени предпринимаются попытки реформировать ее. Что касается первой, то прав, наверно, Черчилль, сказавший, что России не повезло дважды: когда Ленин родился и когда он умер. Введенный Лениным НЭП (после знаменитого признания «пошли не тем путем») стал временем плюрализма в экономике, быстро восстанавливавшей свои силы, гражданского мира при умеренной роли партии (партийцы составляли только 12 процентов госслужащих, а деревня на три четверти была без партийной прослойки), временем буржуазных спецов, дискуссий, расцвета марксистской мысли и культуры. Начиная с 1929–1930 гг. сталинская «революция сверху» смела нэповскую Россию. В 1928 г. в СССР насчитывалось 30 тысяч заключенных, в 1935-м – 5 миллионов, в 1939-м – 9 миллионов. Начавший было «размягчаться» авторитарный режим выродился в сталинский террор. Но выборная ширма сохранилась. Циничный афоризм вождя: не важно, как голосуют, важно, кто подсчитывает голоса, – действовал, как и в 1930-е годы, так и в наше время.
На место посаженных и расстрелянных раз за разом приходила новая поросль, благодарная лично Сталину за то, что он их поднял наверх. Так формировался плотный слой государственной и партийной бюрократии. Можно считать, что это была третья смена верхнего слоя за какое-то десятилетие с небольшим. Годы революции и Гражданской войны уничтожили царскую элиту. Вакуум заполнили «образованные» большевики, среди которых преобладали евреи, армяне, грузины. Призывы, которые Сталин фарисейски назвал «ленинскими», а люди типа Бухарина именовали «мужицким царством», уничтожили старую большевистскую гвардию. Едва вновь пришедшие начинали разбираться что такое управлять страной, как их постигала судьба только что освободивших место.
Чтобы преуспеть в социально-политической среде подобного рода, личность должна была заботиться в первую очередь о том, как упрочить свое положение в системе. Во вторую, добившись своего, – как увековечить благоприятный для себя habitat. Сама превратная логика отодвигала интересы дела на второй план.
Андрею Андреевичу нравилось спрашивать у допущенных к нему чиновников: «Какая дипломатия важнее, внешняя или внутренняя?» Надо было отвечать – внутренняя, и министр, довольный, смеялся.
Кремлевские «игры» требовали отточенного инстинкта. Громыко ни разу не ошибся в выборе лидера. Будь то Хрущев, боровшийся с антипартийной группой, где был громыкинский ментор Молотов, или Брежнев, свергавший Хрущева. В развернувшейся еще при живом Брежневе подспудной борьбе за власть между группами Андропова и Черненко Громыко безошибочно выбрал первого.
Через год с небольшим умирает Андропов, прямо указавший на Горбачева как своего преемника. (Как говорили древние римляне, «по качествам наследника судят о предшественнике».) Однако тот успел проявить свои опасные новаторские качества. Старейшие члены Политбюро, среди них Громыко, перекрывают Горбачеву дорогу. Выбирают Черненко («нашей группы крови»), прекрасно отдавая себе отчет, что он тяжело болен и не способен управлять «сверхдержавой», как гордо называли тогда Советский Союз. Впрочем, от генсека это и не требовалось. Его миссия – погибнуть, но сохранить геронтократию у власти. Позже Е. Чазов напишет, что когда он спросил Устинова, как же Черненко пропустили на пост генсека, тот ответил: «Другого выхода не было, так как на это место претендовал Громыко, и это был бы далеко не лучший вариант»[58].
Спустя всего тринадцать месяцев умирает Черненко. Докладывая о его кончине на заседании Политбюро 11 марта 1985 г., Е. Чазов сказал: «Вы, товарищи, знаете, что Константин Устинович длительное время тяжело болел и последние месяцы находился на больничном режиме». Становится вроде невозможно более не пускать во власть Горбачева. Но расклад не столь очевиден: со смертью Устинова Михаил Сергеевич, по его собственному признанию, остается без союзников. Существовало опасение, что когда вопрос о преемнике будет решаться на Политбюро, кто-то, типа Гришина или Романова, рванет со второй позиции. Горбачев обращается к Громыко. Он не ошибается адресом. Андрей Андреевич делает точный выбор и способствует успеху победителя.
Михаил Сергеевич вспоминает: «До речи Громыко на решающем заседании Политбюро я никогда не слышал таких слов в свой адрес». «Такого панегирика в честь будущего Генерального секретаря стены Мраморного зала в Кремле еще не слышали», – так, в свою очередь, характеризует выступление Громыко на пленуме ЦК Чазов[59].
Игра стоит свеч: пребывание Громыко у власти в качестве члена Политбюро ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета продлено еще на три года. Потом Горбачев дипломатично скажет: были, мол, проблемы со сменяемостью руководителей.
Одним из приемов оберегать систему была ложь. Отсюда – очковтирательство, приписки, по сути дела, государственный обман. Отсюда же абсолютная необходимость изолировать информационное поле страны от внешних источников. (Помню, как мы, несколько студентов, стали учить польский язык: в газетном киоске Университета на Моховой продавались польские газеты, более свободные, чем наши.)
Другой императив – насаждение секретности. «Громыко, – пишет Добрынин – был просто одержим секретностью… Порой многие советские дипломаты ничего толком не знали о наших позициях, тем более, о динамике их развития»[60]. В анекдоты вошел случай, произошедший уже в перестройку: в ходе переговоров американцы стали приводить какие-то цифры о наших вооружениях. Высокий военный чин с нашей стороны не выдержал: «Замолчите, это секретные данные». Секретили зачастую не только и не столько тайны, сколько промахи и изъяны. За покровом секретности пряталась скверна.
Мы воспитывались на запретах. У известного дипломата Александра Бессмертных есть любимая история насчет одного американца в Москве, который нанял русскую няню к своему ребенку. Первое слово, которое произнес младенец, было «нельзя».
Почти все наши неурядицы, не побоялся сказать как-то Андропов, упираются в низкий уровень культуры – общей и политической, культуры ведения дел и культуры общения. И действительно, несмотря на все курсы и семинары, а может быть, как раз благодаря им, политическое сознание удерживалось на невысоком уровне. Идеологическая зашоренность носила почти религиозный характер.
Особенно «пудрило мозги», как мы тогда выражались, телевидение, что дополнялось жесткими действиями репрессивного аппарата. В острых случаях, как в Новочеркасске в июне 1962 г., не останавливались перед стрельбой по протестующим.
Во время перестройки стало известно, что это был не единственный случай. Глава КГБ В. Чебриков на заседании Политбюро привел такие данные: «С 1961 по 1967 год были десять случаев выхода людей на улицу, и против них применялось оружие»[61]. После 1968 г. таких эксцессов больше не наблюдалось: власть научилась купировать недовольство другими методами. Добавлю, что причиной манифестации стало повышение цен. Это может быть дополнительным объяснением, почему в перестройку М. Горбачев и Н. Рыжков, опасаясь социального взрыва, так долго оттягивали решение вопроса о ценах. В конце концов, цены на ряд продовольственных товаров были повышены (реформы Павлова), но, как довольно быстро выяснилось, неудачно.
…Красноречивый эпизод: на заседании Политбюро 12 июля 1984 г. генсек Черненко предлагает обсудить за пределами повестки дня вопрос о восстановлении в партии Маленкова и Кагановича, как они того просят. Чуть раньше аналогичное решение было принято закрытым порядком по Молотову. Гришин без лишней огласки уже вручил ему партбилет. Но насчет этих деятелей Тихонов и Чебриков высказывают сомнения, к этому же склоняется Черненко. Но тут слово берет Устинов, сразу же поддержанный Громыко. Они за то, чтобы «восстановить в партии эту двойку».
Далее все хором ругают Хрущева за разоблачение сталинских деяний. Устинов подчеркивает: «Ни один враг не принес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении Сталина». Ему вторит Андрей Андреевич: «По положительному образу Советского Союза в глазах внешнего мира он (Хрущев. – А.) нанес непоправимый удар»[62].
Знали ли защитники Молотова, Маленкова и Кагановича, что те лично в 1937–1938 гг. санкционировали 38 679 смертных приговоров, т.е. 3167 в один день? Должны были бы знать, поскольку эти данные были обнародованы в июне 1957 г., когда Хрущев разоблачал «антипартийную группу», все тех же Молотова, Маленкова и Кагановича[63].
Как отмечает Анатолий Федорович Добрынин, «Сталин в целом благоволил к Громыко и считался с его мнением. Громыко, отличавшийся крайней сдержанностью, уже после смерти Сталина в редких частных беседах говорил о нем с заметным восхищением»[64]. Это подтверждает и Юлий Воронцов: «Громыко относился к Сталину, как и все сталинские выдвиженцы, с большим почтением. Не сомневался в его несказанной мудрости»[65].
Но сталинистом он показал себя гибким. Когда в период перестройки потребовалось, по крайней мере на словах, сменить ориентацию, высказывания Громыко были весьма критичными в адрес того самого руководства, в составе которого он находился много лет.
Заслуги Андрея Андреевича Громыко несомненны и хорошо известны. О другой, основательно нагруженной чаше весов, предпочитают не вспоминать. Промахи как бы не имели касательства к Громыко, списываются на «то» время, на «те» порядки. Но это были такие порядки, которые полностью отвечали интересам достаточно узкого сектора нашего политического устройства – высокой номенклатуры; служить системе означало в конечном итоге служить себе.
Последний раз я видел Громыко, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 20 мая 1986 г. Мне позвонили из его секретариата и попросили прийти на встречу с испанским премьером Гонсалесом, хотя в новые мои обязанности (я был только что назначен заместителем министра и «переброшен» на Африку) это не входило.
Ларчик открылся просто. Задержав меня после официальной беседы с испанцем в Екатерининском зале и впервые назвав по имени-отчеству, Андрей Андреевич попросил меня передать его просьбу Ковалеву (тот стал при новой власти первым замминистра), чтобы он замолвил слово перед Шеварднадзе: пусть «не прижимают» его, Громыко. Он говорил, что не раз спасал Ковалева, а если что и делал не так, то потому, что была воля сверху или по ошибке. Меня же он уверял, что мое повышение вызревало еще при нем, и он не довел его до конца лишь потому, что знал о своем уходе. (Ну-ну, сказал я про себя, в МИДе-то знали, сколько и каких людей повысил Громыко по службе в последние дни пребывания министром.)
Ковалеву, естественно, я громыкинскую просьбу передал. Тот на минуту задрожал: «Как я скажу об этом Шеварднадзе, что имеет в виду Андрей Андреевич, его ведь никто не обижает».
Гадал, почему Громыко обратился ко мне с такой просьбой. Разгадка пришла через двадцать с лишним лет, когда прочел у Юлия Воронцова: «Громыко постоянно опасался, что кто-то его там, в верхах, будет подрубать»[66]. Понял я и скрытое извинение перед Ковалевым – за вычеркивание из партийного списка.
Яснее стала мне незавидная участь тех, кто, подобно Громыко, был порождением, героем и хранителем сталинской системы. В их генах надолго поселились тревога и страх.
Если верить историкам, первые не поротые дворяне вышли декабристами на Сенатскую площадь. Сталинские порки искоренили декабристскую смелость. А защитить личность, даже номенклатурную, судьба которой зачастую зависела от воли одного человека, было некому. В стране отсутствовали демократические институты, призванные выполнять эти функции. Парадокс в том, что они казались и до сих пор кажутся правящей верхушке наиболее опасными.
Власть М. Горбачев получил «на серебряном блюдце». По крайней мере, так показалось неплохому знатоку нашей действительности, бывшему послу Италии в Москве Серджо Романо. Он имел в виду, очевидно, тот факт, что Горбачев, как и все его предшественники, не прошел через жернова политической конкуренции, характерной для стран Запада. Но ему пришлось выдержать партийный отбор, вряд ли более приятный. А вот насчет того, что «завершилось самое длительное на земле в двадцатом столетии правление старцев», Романо прав. И, судя по состоянию страны, которую они передали Горбачеву, завершилось плачевно.
Как это делалось в годы Горбачева и Шеварднадзе
Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые!
Ф.И. Тютчев
Очерк седьмой
Рывок в историю
Март 1985 г. Мне пятьдесят, уже восьмой год я заведую Первым Европейским отделом МИДа. Только что посмотрел по телевидению, как восторженно встретил пленум ЦК избрание генсеком Михаила Сергеевича Горбачева. А ведь хорошо помнилось, какими подавленными выходили люди с прошлого пленума, где был «избран» Черненко. Даже искушенное телевидение не могло тогда скрыть их разочарования.
Наконец-то молодое, приятное, можно сказать, вдохновенное лицо. Да и выпускник МГУ, «моего» вуза, что тоже привлекает. Проснулась почти уже исчезнувшая надежда, что страна выйдет из «пьяного застоя», как стали называть впоследствии брежневское время.
Курс меняется. Перестройка, точнее, ее первые годы, была, пожалуй, единственным временем в моей сорокалетней мидовской службе, когда не возникал люфт между тем, что делал, и тем, во что верил. Эйфория поначалу была всеобщей. Кто был на седьмом небе, так это закоренелый «разрядочник» Анатолий Гаврилович Ковалев. Меня он настроил еще раньше, сказав на заснеженных тропинках у кунцевской больницы, куда залег, пережидая смену: «Если придет Горбачев, Вам хуже не будет».
Обычно крайне осторожный Ковалев проявил твердость на грани фола, когда во времена Черненко решался вопрос, сопровождать ему или нет Горбачева, тогда секретаря ЦК, в поездку в Англию. Громыко определенно был против, Ковалев ослушался. Это была та памятная встреча с Тэтчер, после которой глава британского кабинета особо выделила Михаила Сергеевича и, надо признать, была на его стороне до конца. Только в 2013 г. узнал, что Ковалеву ослушание даром не прошло: Громыко предложил ему уйти на пенсию. Анатолий Гаврилович с присущим ему искусством «замотал» это предложение, чтобы после ухода Громыко стать первым замом у Шеварднадзе.
Внешняя политика, доставшаяся Горбачеву весной 1985 г., по своей идеологии мало чем отличалась от той, что Брежнев унаследовал от Хрущева, а тот, в свою очередь, от Сталина. Ее альфой и омегой была борьба двух общественных систем. При желании можно было бы обратиться к истокам: «Первая заповедь нашей политики… это помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам»[67].
Более тридцати лет оставалась в силе сталинская директива: «Наш враг номер один – Америка». Холодная война время от времени прерывалась краткими периодами разрядки, но сути дилеммы: «кто кого закопает» – это не меняло.
Четверть века спустя первого издания наш враг номер один все та же Америка. Вот где константа, что непреложно показал исторический опыт, говорю я себе, всю жизнь боровшемуся за разрядку и кое-чего добившемуся. Квадратура круга проста: США были, есть и неопределенное время будет сильнее нас. Многие десятилетия это не устраивало нас с идеологической точки зрения. В итоге социализм, а вместе с ним Советский Союз потерпел поражение. С ослабевшей державой не церемонились, и жажда реванша постоянно давала о себе знать. Наконец, мы военным путем пытаемся разомкнуть круг. Вот та канва, на большее не претендую, которую стоит иметь в виду, продолжая чтение.
Идею коренного переустройства Горбачев вынашивал давно. Придя к власти, он не стал медлить. Но с первых же дней столкнулся с сопротивлением.
«Как только коснулись внешней политики, – сказал он как-то, – сразу попытка наложить табу, тут все, что делалось и происходило, было, оказывается, правильным. А между тем непомерно большая часть национального дохода шла на вооружения. Разорили страну, держали народ впроголодь, запороли сельское хозяйство. Зато сидели верхом на ракетах. Это называлось классовым подходом. Какой это, к чёрту, социализм!»[68]. А вот социализму Горбачев оставался верен до конца.
Позже на Политбюро будет названа цифра: на оборону мы тратили в расчете на душу населения в два с половиной раза больше, чем в США.
Менял Горбачев внешнюю политику по нескольким стратегическим направлениям сразу (что, кстати, говорит о предварительном продумывании действий): снижение напряженности по линии СССР–США, Восток–Запад; торможение гонки вооружений; полная нормализация отношений с Китаем – об этой заслуге Горбачева иногда забывают; принципиально иной подход к отношениям с «братскими странами».
Руководителям государств Варшавского договора, приехавшим на похороны Черненко, Горбачев сказал определенно: времена доктрины Брежнева миновали. Той самой, что допускала и на практике осуществила вооруженное вмешательство «ради спасения социализма». «Хочу вам прямо заявить как Генеральный секретарь ЦК КПСС, что мы полностью вам доверяем, что у нас отныне не будет претензий контролировать, командовать. Вы проводите политику, продиктованную национальными интересами, и несете за нее полную ответственность перед своими народами и партиями»[69]. В этих, казалось бы, само собой разумеющихся словах был смысл, не всеми, наверное, сразу понятый: мы снимаем с себя многолетнее бремя ответственности за выживание восточноевропейских режимов.
Начались, наконец, поиски выхода из афганской драмы. Уже в апреле 1985 г. Михаил Сергеевич поговорил решительным языком с Кармалем, заявив: мы уйдем. До него это уже было сказано Андроповым, но дальше слов дело не пошло. Горбачев же вскоре добился единодушия Политбюро в вопросе принципиальной важности – уходить. Сколько лет оттягивало этот шаг прежнее руководство, подступая к нему и опять откатываясь назад, не признавая ошибку или просто не обладая достаточной решимостью.
Был пересмотрен подход к конфликтам так называемой «малой интенсивности», за кулисами которых почти всегда стояли СССР и США. К тому времени мы завязли в целом ряде из них: в Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа. Значительные силы и средства расходовались за тысячи километров вдали от наших границ, не принося ощутимой пользы.
Обжегшись в свое время на афганских офицерах, объявивших себя сторонниками социализма и втащивших нас защищать их «революцию», мы тем не менее вплоть до перестройки продолжали разбазаривать средства на поддержку «социалистических и прогрессивных режимов». По большей части в них было мало что социалистического или прогрессивного. Успехом считалось перетащить на свою сторону, желательно к очередному съезду КПСС, ту или иную страну из другого лагеря. При Горбачеве от сложившейся десятилетиями практики стали отходить.
Любопытно, что поддержка революционных сил за рубежом была существенно сокращена в предвоенные годы, за что Троцкий обвинял Сталина в предательстве. Когда он писал о «преданной революции», то имел в виду не только Октябрьскую, но и мировую. На волне победы в войне и несомненного ослабления капиталистической системы советское руководство вернулось, условно скажем, к малому экспорту революции.
Но перестроечный подход не был под одну гребенку, интернационализм оставался лозунгом дня. Советский Союз не отказался от морально обоснованной поддержки Африканского национального конгресса в ЮАР, продолжил оказание щедрой помощи Кубе – несмотря на настойчивые настояния американцев – и Вьетнаму.
В итоге перестройка дала мощный импульс национально-освободительному движению, ибо записала в свой актив такие результаты, как обретение независимости Намибией, последней колонией в Африке, и конец апартеида в ЮАР.
Но отношения все более вводились в русло государственных интересов. Так, мы не дрогнули ограничить роль Кубы как глашатая и спонсора (в основном за наш счет) мировой революции.
Ободренный происходящими переменами, беру слово 20 апреля 1985 г. на коллегии, которую ведет первый зам Корниенко. Обсуждаем план работы, и я предлагаю расширить тематику, ставить на обсуждение действительно важные аспекты нашей политики, такие как Афганистан, переговоры по ограничению вооружений и т.д. Максимум, говорю, до чего мы доходим, это Южный Йемен или Шри-Ланка. Молчание, никто не высказывается в поддержку, даже Ковалев, но он хотя бы согласно кивает. Георгий Маркович вроде не возражает, но в те месяцы, когда министром оставался Громыко, ничего в МИДе не изменилось.
Запись в моем дневнике 25 мая: «На ланче для итальянской парламентской делегации ни капли спиртного: приняты решения об искоренении пьянства. Ребята, ведающие отношениями с Болгарией, рассказывают, что плачут болгары: у них перестали закупать вино, не знают, что делать с виноградниками, которые создали по договоренности о специализации с СССР. Ближе к обыденной жизни: страдали и посетители пивного ларька на железнодорожной станции подмосковного Быково. Было это единственное место, где люди встречались. Стали поговаривать, не перебарщиваем ли?
Но когда прочел цифры, преданные гласности в перестройку, ахнул:
– душевое потребление чистого алкоголя в 1984 г. – 8,3 литра, что в 4 раза превышает уровень сороковых и пятидесятых годов и в 2,2 раза – уровень дореволюционной России (это без самогона и домашних вин);
– затраты на спиртные напитки на душу населения сопоставимы с расходами на мясо, молоко, хлеб, вместе взятыми;
– 4,3 миллиона алкоголиков на учете, 9,3 миллиона подобрано на улице. По продолжительности жизни мужчин СССР на последнем месте не только среди развитых капиталистических государств, но и социалистических стран;
– в 1914 г. в России торговля спиртными напитками была запрещена повсеместно; в 1919 г. запрет на производство и продажу спиртных напитков был узаконен. Вплоть до 1928 г. (до Сталина! – А.) страна была одной из самых малопьющих в мире – 1,6 литра на душу населения в год.
Скрывать такие вопли отчаяния – близко к должностному преступлению».
С точки зрения некоторого оздоровления нации антиалкогольная кампания, возможно, дала результаты. Но в целом, особенно учитывая перегибы на местах, она была ошибочной. В октябре 1986 г. записал: в результате антиалкогольного указа бюджет недополучил 8 миллиардов рублей (тогдашних!).
Стал известен еще один пример честного подхода к делу – выкладки и прогнозы академика Н.Н. Иноземцева, также доложенные прежнему руководству. На конкретных цифрах он показал истинное положение дел в мировой экономике, а именно тот факт, что в результате научно-технической революции и растущего международного разделения труда капитализм не только сохраняет, но и увеличивает свой отрыв от нас. Николай Николаевич ранней кончиной поплатился за свою принципиальность, разделив судьбу многих либералов. Одно утешение: мало кто помнит тех, кто травил Иноземцева, а его имя осталось в советской истории.
30 мая: «Видел Горбачева в деле: четыре часа переговоров с Беттино Кракси (итальянским премьером) в Екатерининском зале. Конечно, это совсем не то, что прежде: уверенная речь, не заглядывая в бумажку, быстрая реакция, шутки. Говорит ему Кракси, что русские хорошо умеют вести переговоры. Он, иронически: “О, да! У нас есть мастера поговорить”. Невольно увиделось и другое: легко заводится. Некоторые фразы покоробили, например: “Такого легкомысленного руководителя партия, советский народ не держал бы и неделю”. Возможно, играл на “публику” – Тихонова (премьера) и Громыко (все еще глава МИД), к которым относился подчеркнуто предупредительно, давая высказываться. Этим Андрюша пользовался для протаскивания жестких позиций: “Ни один советский человек не понял бы, если бы мы восстановили дипотношения с Израилем”. Многое излагал М.С. с позиций политграмоты, хотя опять-таки не исключаю, что хитрил перед стариками. В любом случае, далеко не все может сделать, не поменяв “ястребов”. Сможет ли? Это не совсем то, чего хотелось бы, но явно лучшее, что может выдать на-гора КПСС, учитывая все сита, которые приходится пройти».
В записи первых впечатлений о Горбачеве не изменено ни слова. В этих же выражениях я рассказал о них, приехав из Кремля, товарищам по работе. Руководители КПСС обрели достаточно грустную славу, чтобы не вызывать первоначальной настороженности. Но в январе 1987 г. записал в дневнике: «Горбач наш – чудо, уникум, наконец, повезло. Это без натяжки».
Сам визит Кракси, которого сопровождал министр иностранных дел Джулио Андреотти, оказался не просто взаимной прицелкой. Итальянцы, известные своей проницательностью, раньше других поняли, какие перемены может принести смена лидера в СССР. С московской встречи они взяли курс на поддержку перестройки. Это выделяло Италию в глазах Горбачева. Среди итальянских руководителей он особенно ценил Андреотти.
Не могу отказать себе в удовольствии процитировать итальянский журнал «Панорама». Подводя итоги переговоров в Москве, он написал: «О лучшем режиссере для своего визита в СССР Кракси и Андреотти не могли и мечтать. Заведующий Первым Европейским отделом МИДа продемонстрировал свои способности и в том, что касается активации масс-медиа. Итальянский бриз всколыхнул московскую весну»[70]. Дело не во мне, атмосфера приема западных (и не только западных) гостей при Горбачеве была «небо и земля» по сравнению с прежним временем, даже если их не потчевали спиртным.
Торжествующая запись 2 июля 1985 г.: «Свершилось! Громыко убрали из МИДа, путем чисто нашим – наверх, в Председатели Верховного Совета СССР. Одобрил новое назначение пленум ЦК, длившийся, по разговорам, полчаса. Номинально – глава государства, реально – отодвинут на периферию политики. Говорят, что идею такого выдвижения рассматривал еще Андропов, но поскольку на это место в последний момент стал претендовать Устинов, Юрию Владимировичу, чтобы никого из двух товарищей не обидеть, пришлось взять функции Председателя на себя.
Андрей Андреевич покинул здание на Смоленской площади, не попрощавшись, как говорится, с коллективом. Гудбай сказал лишь секретариатским, тем, кто был в это время на работе. Рудольф Алексеев поведал мне, как на прощание сказал Андрею Андреевичу, что он думает о его некрасивой манере обращения с подчиненными. А вот реакция Вити Комплектова (замминистра) на уход Громыко отрицательная».
Когда московская интеллигенция взволнованно обсуждала в первые месяцы перестройки ее перспективы, недоумевали, почему остаются на высоких постах такие «антиперестроечные» деятели, как Щербицкий, Громыко, Талызин.
И дальше в моем дневнике: «Молодец М.С.! Честно сказать, думал, что не хватит у него пороху отказаться от президентства, делить – даже в этом небольшом смысле – власть. (Имеется в виду, что генсек Горбачев мог последовать примеру его предшественников и стать одновременно Председателем Президиума Верховного Совета.) Поступил он вновь “по-игроцки”. Громыко “ушли” всего через три с небольшим месяца после мартовского пленума (лучше – апрельского, провозгласившего перестройку) но сделано это элегантно, с уважением. Руки для проведения своей внешней политики развязаны, человек поставлен вроде самостоятельный и новатор. К тому же не из Москвы, т.е. иммунный к сложившимся связям. Условия для перетряски идеальные. Если бы Горбачев выбрал кого-либо из мидовских старожилов, то он так или иначе смотрел бы во дворец Верховного Совета. Умно, ничего не скажешь. Вообще, пока что Михаил Сергеевич не сделал, на мой взгляд, ни одной ошибки и не затягивает – не в пример Андропову».
Спустя несколько дней состоялось первое знакомство с Шеварднадзе. Став министром, он был одновременно переведен пленумом ЦК из кандидатов в полнокровные члены Политбюро. Очередь моя дошла в восемь вечера, час проговорили с глазу на глаз. В основном говорил я, быстро, временами возбужденно, и, может быть, с излишней откровенностью. Прошлись по странам Отдела, главное – предстоящий визит Горбачева во Францию. Вышел с ощущением, что контакт не установился. Мне он показался холодным и не работающим на одной волне, хотя мнения часто совпадали. Плюс сильно смущал акцент, весьма заметный. Сказал на прощанье: “Рассчитываю, что Вы будете говорить мне все, что думаете”.
“Что происходит на свете? А просто зима”, – слова, запомнившиеся благодаря песне Сережи Никитина (хотя пишу летом). Что происходит в стране и в ее причудливой частице – МИДе? Идет, как я понимаю, попытка сверху обуздать бюрократию, вернее, обломать ее разросшиеся остеофиты. Задача благороднейшая, но трудно осуществимая. Аппарат многоголов и хамелеонист, приспосабливается прекрасно ко всем превратностям, включая новые установки и лозунги. Уже краснобайствуют против краснобайства. Мао, тот натравил хунвейбинов, и то не смог. Дефект где-то в системе».
Убеждаюсь, что перестроечные настроения вызревали давно. Запомнился красочный рассказ одного из секретарей обкома: «Приезжаем при Брежневе в Москву на пленум – лафа! Работы практически никакой, знай слушай, что-нибудь интересное узнаешь. Поведут в 200-ю секцию ГУМа прикупить заграничного. Вечерами сам понимаешь что. Горбачев в наших пьянках никогда не участвовал, больше уединялся с кем-то из близких ему людей и говорили за страну».
Первое испытание для нашего отдела: визит Горбачева во Францию (2–5 октября 1985 г.). Миттеран передал приглашение сразу же после смены в Кремле, и Михаил Сергеевич быстро ответил согласием. Подготовка давалась тяжело. Никогда, наверное, так много не работал, включая вечера и субботы, а в воскресенье, забрав бумаги, на даче. Плюс еще нервничанье. Ковалев переживает, пожилой Александров-Агентов ( в то время внешнеполитический помощник Горбачева), в очередной раз сменивший шефа, тоже. А наши чубы трещат.
Отмечу отдельно двурушничество французской Компартии: на словах они за визит, даже приняли специальное постановление, а в закрытом порядке советуют не приезжать, чтобы не поощрять антисоветизм. Хорошо Юлий Михайлович Воронцов, наш посол во Франции, занял грамотную позицию: Гремеца, представителя ФКП, принесшего ему этот «подарок», выводил на чистую воду. Они, как обычно, выше всего ставят свои внутриполитические интересы: успех Миттерана мешал бы их планам размежеваться с социалистами, ослабить их, завоевать главенствующие позиции в лагере левых сил. Планы малореалистичные, а мы должны в угоду им жертвовать своими государственными интересами. Не на того напали.
Почувствовал Горбачев, что у Миттерана есть своя специфика, которую можно использовать и в чисто двустороннем плане, и под углом зрения будущей встречи с Рейганом. Настроен на то, чтобы визит в Париж показал Западной Европе, что мы дорожим сотрудничеством с нею.
А теперь результаты, как они отражены в дневниковых записях: «Ну, что ж, визит за плечами. Сброшена громада работы, оказавшейся, как обычно, во многих отношениях лишней. Прошел Париж – без дураков – превосходно. Наш – найкращий. С “Митей” (Миттераном) и другими деятелями разбирался шутя. Экспансивен, энергичен, бьет ключом жизнь. Французы его окрестили: Хрущев, но на более высоком уровне. Хотя и заводился, но грань нигде не переходил, выруливал постоянно на конструктив. Великолепная речь перед французскими парламентариями, лучшее, пожалуй, что пришлось слушать за многие годы. Прекрасное проведение пресс-конференции. И идея общеевропейского дома, сразу же нашедшая восторженный отклик».
«А какие слова перед дипсоставом, и в посольство ведь не поленился заехать! Четко видит наши проблемы, говорит о них примерно тем же языком, что мы в быковской бане. Милая жена, “тайное оружие Горбачева”, как выразилась о себе самой. По-моему, честолюбива и хочет играть собственную роль. Эдуард Амвросиевич, пока не очень находящий свое место. По возвращении из Нью-Йорка Альберт Чернышев, оставшийся от Громыко помощником у Шеварднадзе, сказал мне о нем: не владеет материалом, хотя беседу с Рейганом провел хорошо. Надо ему помогать, иначе в Политбюро не будут с ним считаться. (И о Шеварднадзе записываю первые впечатления, какими они возникли тогда.)
Словом, зашевелился СССР, разворачивается, дай Бог ему успеха. Еще раз повторю, политик и дипломат Горбачев превосходный. Смотри, как обломал Марше (генсек Коммунистической партии Франции), пришедшего с истерикой: “Западная Европа выступает как верная союзница Рейгана, Миттеран хочет поставить ядерные силы Франции на службу интересам Западной Германии”. Привыкли французские коммунисты к тому, что мы некритически подходили к их сентенциям, особенно если они сдобрены классовым соусом.
Не вешая лапшу на уши, говорил Горбачев французскому президенту и о наших внутренних делах. Выход из трудностей он видит в том, чтобы раскрыть, наконец, потенциал, который заложен в социализме. И здесь М.С., как мне показалось, не лукавит, всерьез верит в возможности нашего строя».
Ох, дорого это нам обошлось.
Что еще было мне по душе, так это призыв Горбачева использовать позитивный опыт прошлого. Он упирал на то, что программные документы разрядки, где СССР и Франция часто выступали соавторами, никто не отменял. А мы ведь эти крупицы собирали годами. И атмосфера к концу сложилась превосходная. На прощальном обеде Миттеран сымпровизировал: «Завтра Вы улетите, и я не знаю, как буду без Вас». Пришел праздник на советско-французскую улицу.
Как два старых заговорщика-единомышленника, порадовались мы успеху со Степаном Васильевичем Червоненко. Он долгие годы служил послом в Париже, пока я заведовал «Первой Европой», где была Франция. По его словам, и по ракетам средней дальности никакого движения не было бы, если бы не генсек. «Опасность видели и раньше, – говорил Степан, – и даже предлагали Брежневу что-то сделать, он вроде соглашался. Затем на него наседали Устинов и Ко, и он уступал. Хотел договориться и Андропов, не хватило времени. О Черненко и говорить нечего».
Работа по-новому. «Я вам вот что скажу», – так начинал разговор Алексей Николаевич Косыгин, когда я переводил ему или, подросши по службе, представлял МИД на его беседах. Так вот, никто из кремлинологов, ни наших, ни зарубежных, не угадал имя нового министра.
С приходом Шеварднадзе обстановка у нас изменилась кардинально. Затряслись барахольщики и демагоги. Подобранный Громыко руководящий состав обновился на три четверти. Позже Эдуард Амвросиевич рассказал, что такова была директива генсека: МИДу, чтобы он имел возможность раскрыть свой потенциал, нужно серьезное обновление, вплоть до замов. Не говоря уже о смене руководителя.
Подчеркну здесь: о Шеварднадзе-министре Горбачев неизменно – и справедливо – высказывался положительно, в том числе спустя годы после перестройки. «По большому счету Шеварднадзе был человеком-патриотом, с широким взглядом, много сделавшим для того, чтобы мы с Западом смогли понять друг друга. Я его ценю»[71](1998). Многое поменялось с тех пор в моих представлениях, и не в лучшую сторону. Добавлю, что, по моим наблюдениям, оба искренне верили в социализм.
С новым министром, поощрявшим дискуссии, языки развязались. В МИДе почувствовали свободу отстаивать свою точку зрения, привлекать экспертов, предлагать варианты. Сколько у нас появилось консультантов и научных советов! К сожалению, интеллектуальные силы сильно ослабли за годы невостребованности.
Главное же, крепло ощущение, что делаем дело действительно полезное для страны, то, о чем мечталось годами.
Работали, не щадя себя. Шеварднадзе засиживался допоздна, не давая себе передышки ни в субботу, ни в воскресенье. Как было не вспомнить добрые застойные времена: Громыко рано уезжал на дачу, за всех оставался один Корниенко, многих завотделов и их замов словно сдувало ветром. Суббота и воскресенье были святыми днями. Времени хватало на все: на спорт и на охоту, на баню и на разговоры о том, как же у нас все плохо. Теперь каждый должен был показать, на что способен.
Приведу один пример. «15 октября, – это пометка в дневнике, – что-то вроде мини-рекорда. Накануне вечером Корниенко дал нам переработать, как он выразился, от первого до последнего слова проект выступления Горбачева на Политическом консультативном комитете государств Варшавского договора в Софии.
Когда подбирали «писарей» для этого выступления, мой несменяемый начальник Ковалев сказал, что хочет предложить мою кандидатуру. Но к этому времени я уже двадцать лет безвыездно отработал в МИДе, написал кучу как нужных, так и бесполезных бумаг, объездил многие закрытые дачи, так что в этот бой не рвусь. С учетом личности собеседника прибегаю к сюрреализму: «Знаете, Анатолий Гаврилович, я был в той группе, что писала речь Брежневу для ПКК, и в это время он скончался. Позже меня привлекли к работе над выступлением Андропова, заметьте, тоже на ПКК, и Юрий Владимирович умер, так и не успев выступить.
Может, не стоит искушать судьбу?» Ковалев согласился мгновенно. Но речь все же меня достала.
Режим авральный. And we did it! Первым мучился Сергей Тарасенко, один из тех толковейших людей в МИДе, что пошли в гору при новой власти. Он сидел до четырех ночи и сделал полностью другой материал. Георгий Маркович жутко обрадовался: есть отличная основа, можно работать дальше. Тут настала моя очередь, и за три часа работы на благодатной тарасенковской почве проект, скажу без ложной скромности, еще раз преобразился. Вложил я в него многое из того, что копил годами. Правка Корниенко была далее косметической, он оставил не только все стилистические находки, но и политически важные места. Шеварднадзе проект понравился тоже, с его небольшими вставками документ направили Горбачеву. Г.М. был заметно рад, против обыкновения даже потеплел со мной и говорил о вдохновении».
С легким сердцем уехал на дачу, а там всегдашнее подмосковное утешение: свежий, ядреный воздух, три дружные елочки высотой ровно с забор, а на густой хвое желтые листья, как елочные украшения. В воскресенье – прекрасное осеннее утро. Туман рассеялся, и из-за высоких облаков пробивается круглое белое солнце. Пробежка на совершенно пустом стадионе, один старик подметает листву, и вовсю орет радио: «Нам ли стоять на месте?» Жаль, что долго стояли.
Очередная кадровая сенсация – выгнали Н.Лебедева, ректора МГИМО, кавалера ордена Ленина. Схема такая: пришедшая на него анонимка докладывается, несмотря на все новые веяния, Горбачеву. Тот пишет резолюцию: «Разобраться». Коля вынимает блокнотик: я ни при чем, вот те, кто давал мне указания. (Он как-то рассказывал мне о звонке ему Подгорного, тогда номинально главы государства. Тот снизошел сам набрать номер, чтобы сказать Лебедеву: «У меня внук к тебе поступает, так ты с ним построже, построже».) Пошли разматывать вплоть до очных ставок. В итоге Лебедев написал заявление об уходе по собственному желанию. Шеварднадзе не позволил даже этого, настоял на увольнении в резерв МИДа. При этом сказал Стукалину, заму по кадрам (вскоре его заменили): «И Вы ничего не знали? Я в Тбилиси знал». Удар одновременно по Гришину, чей сын через год после окончания МГИМО стал кандидатом, а через два – доктором. Да и Эмилия, дочь Громыко, там работает, на кого замахнулись, антихристы?!
Встреча с Рейганом. Послав Буша и Шульца на похороны Черненко и на встречу с новым генсеком, Рейган передал с ними предложение Горбачеву встретиться «как можно раньше».
Итак, ноябрь 1985 г., советско-американский саммит в Женеве, первый за последние шесть с лишним лет. Швейцария входит в Первый Европейский отдел, так что сподобился и я посмотреть на большое событие вблизи.
Запись по горячим следам: «К серьезному внешнеполитическому испытанию генсек подготовился блестяще: а) нашу памятку, которую мы считали продвинутой, он в некоторых немаловажных моментах еще улучшил;
б) прекратил в одностороннем порядке все ядерные взрывы, в июле подтвердил приостановку размещения СС-20, некоторое количество ракет даже снял с боевого дежурства, несмотря на сильное сопротивление военных (привет голландцам, но об этом впереди), ослабил оговорки насчет военного использования космоса (имеется в виду разрешение на некоторые виды лабораторных работ); в) очень сильно поднаторел в теме, вник до деталей; г) направил в Женеву накануне встречи наши лучшие мозги, в том числе из упомянутых выше “аппаратчиков-диссидентов”: Велихова, Сагдеева, Червова, Арбатова, Бурлацкого, Кобыша, Шишлина, Власова, Грачева. Они здорово взрыхлили почву, ломая привычные о нас представления, рвались в бой, как свора, спущенная, наконец, с поводка и получившая разрешение кусать. Американцы выкатывали глаза.
Саму встречу Михаил Сергеевич и его команда – Шеварднадзе, Яковлев, Корниенко, Добрынин, Александров-Агентов – провели образцово: не задираясь, достойно и аргументированно. Вроде потом Рейган сказал о Горбачеве: “Отменный парень”. Сами же американцы выглядели явно слабее, иногда наподобие Брежнева в его худшие времена. “Пускай теперь походят в нашей шкуре”, – пустил я шутку. Словом, если у американцев возобладает желание искать с нами общий язык, они знают, что могут это сделать на разумной основе. Мы их буквально закидываем предложениями: не вести гонку вооружений в космосе, сократить на одну четверть СНВ, запретить химическое оружие и ликвидировать его запасы, сократить численность войск в Европе.
Общественное мнение начинает понемногу поворачиваться в нашу сторону. Свой миролюбивый “имидж” мы восстанавливаем. Внутренняя ситуация действительно требует мира и разрядки, и мы их добиваемся всерьез. Характерно, что впервые на моей памяти газета “Правда” напечатала речь Рейгана в Конгрессе США без обычных комментариев. Заявление двух лидеров: “Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей”, хотя и похожа на риторику, но сильно действующую».
«Теперь некоторые зарисовки из Женевы. Погода промозгло-холодная, тучи, ветер, снег. Танкетки, снайперы и прочие прелести на аэродроме, масса полиции в местах встреч, рука на спусковом крючке, швейцарцы не шутят. Широкий размах с нашей стороны – три бронированных автомобиля, продукты из Москвы. Меньше чем за сутки пожал руки трем великим мира сего: Горбачеву, Рейгану на приеме у швейцарцев и Миттерану в его кабинете в Елисейском дворце. (М.С. послал Корниенко и меня прямо из Женевы в Париж информировать французского президента.)
Наш лидер и Раиса были действительно великолепны. Рейган – симпатичный старик, временами отрешенный, скорее понравился, жена его Нэнси, точно нет». Все рукопожатие продолжалось секунд пять, но и за это время Рейган внимательно вглядывался в лицо каждому подходившему к нему. Мне он живо напомнил этим секретаря обкома, как и спокойно-уверенным видом. Недаром когда-то я записал в дневнике: «Он устраивает среднего американца, т.е. подавляющее большинство. При нем они чувствуют себя без комплексов, без вины и ущербности».
Итоги Женевы были сразу же вынесены на коллегию МИДа. При Шеварднадзе она стала заниматься действительно важными делами. С непривычки было даже как-то не по себе обсуждать, например, кандидатуры будущих послов.
Референт – всегда референт: делаю подробные заметки, кои воспроизвожу здесь непричесанными.
Сообщение Шеварднадзе: «Апрельский пленум ЦК дал установку на активную, наступательную внешнеполитическую работу. С пленума началась подготовка и к женевской встрече с Рейганом. Готовились основательно по разным направлениям. Посоветовались с друзьями – софийское заседание ПКК дало своеобразный мандат. Осуществили визит во Францию, встретились с руководителями целого ряда других стран, включая Индию. В подготовке приняли непосредственное участие почти все члены Политбюро.
Переговоры заняли в общей сложности 15–16 часов, в том числе встречи с глазу на глаз 5–6 часов. Михаил Сергеевич отдельно принял госсекретаря Шульца (это оказалось очень грамотным шагом, «папа» Шульц сыграл в советско-американских отношениях конструктивную роль. – А.). В центр внимания поставили вопросы безопасности: прекращение конфронтации и гонки вооружений, недопустимость ядерной войны, нераспространение ядерного оружия. Но кое-что собрали и в двусторонних связях. Не так уж мало, учитывая длительный застой. Было подписано Соглашение об обменах и контактах в области науки, образования, культуры; договорились о возобновлении с апреля 1986 г. прямого авиационного сообщения и об открытии Генконсульств соответственно в Нью-Йорке и Киеве (сейчас там посольство США, весьма комфортно себя чувствующее). Особенно важно, что удалось согласовать итоговый документ с большими заделами на будущее, в том числе продолжение советско-американского диалога, включая встречи на высшем уровне.
