Удивительные рассказы
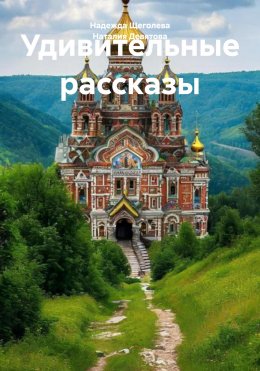
Удивительные рассказы
Белые платочки России
Когда архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря1 спросили, почему было решено привезти Пояс Богородицы именно в Россию, ведь много стран просили святыню и получили отказ, он ответил: «Из-за большой любви к русскому народу, особенно к “белым платочкам”, – так он называл русских женщин.
Именно женщины удержали православие в России в период воинствующего атеизма. В отличие от большинства мужчин, которые побаивались ответственности, многие женщины не потеряли веру, ходили в оставшиеся храмы на службы, крестили детей, соблюдали посты и религиозные праздники.
1.Надежда
Фото из личного архива.
Кроваво‑красное солнце поднялось над глухим хутором Самойленко. Косые лучи озарили багряным светом крыши крепких казацких хат, засияли на крестах Никольского храма. Три редких, протяжных удара в колокол «красным» звоном нарушили раннюю тишину, возвещая о начале утренней службы. Благовест в «красный» колокол, пришедший на смену «постному», означал, что настал Великий четверг Страстной седмицы и богослужения будут особенными, какими бывают только в этот период. Протоиерей Александр, настоятель храма, начал читать двенадцать Евангелий. Перед чтением каждого дьячок подавал знак натянутой сверху веревочкой, и звонарь ударял в колокол: один раз – перед первым, два – перед вторым, три – перед третьим.
Недалеко от храма стоял красивый, ухоженный дом, в котором жила семья отца Александра. Дом был небольшой, но добротный, построенный из кирпича, оштукатуренный и побеленный, покрытый серым волнистым шифером, с высоким деревянным крыльцом. Фасад украшали три больших окна, обрамленных голубыми резными наличниками. Прямо перед самыми окнами раскинула свои ветви с первыми нежно‑зелеными листочками высокая белая береза. Вишни за домом уже оделись в бело‑розовый наряд, наполнив сад сладковато-медовым цветочным ароматом. Между деревьями был разбит небольшой огород с аккуратными грядками, на которых появилась первая зелень, посаженная под зиму.
Матушка Вера, супруга протоиерея Александра, высокая, худощавая женщина с фигурой, не утратившей стройности после рождения шестерых детей, хлопотала на кухне. Строгое синее платье подчеркивало красоту и грациозность фигуры, поверх него был надет серый льняной передник с большими накладными карманами. Густые темно‑русые волосы были собраны в пучок на затылке и покрыты беленьким ситцевым платочком, завязанным сзади на узел.
Матушка доставала из металлических форм только что испеченные куличи и выстраивала их в ряд на невысоком столике, а на смену готовым – отправляла в печь новую партию. Пекла она много, семья‑то большая, и надо, чтобы куличей хватило на всю пасхальную неделю. Они в этот раз получились на удивление пышные, румяные, просто загляденье! По заведенной ею традиции матушка пекла куличи разных размеров: большие – для семейной трапезы, средние – в подарок прихожанам, которые всегда поздравляют семью со светлым праздником Пасхи, а два маленьких – для младших сыновей, девятилетнего Лени и восьмилетнего Сережи. Удовлетворенно осмотрев куличи, матушка накрыла их нарядным белым рушником с вышитым крестиком затейливым узором, в центре которого красовались ее инициалы: В. М., – пусть остывают. Вечером они с детьми будут украшать куличи взбитым с сахаром белком и посыпать цветным пшеном, красить яйца, в розовый цвет – марганцовкой, в бирюзовый – зеленкой, и в самый ее любимый, коричнево-желтый, – луковой шелухой.
Двенадцатый удар в колокол возвестил о том, что батюшка скоро закончит утреннюю службу. У матушки все готово, чтобы покормить мужа, щи еще не остыли – как только батюшка вернется, она быстро накроет на стол. Вера улыбнулась и продолжила хозяйничать на кухне: достала из буфета курагу, изюм и орехи, а также специальную разборную деревянную форму – пасочницу в виде усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Творог уже был готов, оставалось добавить в него сухофрукты, орехи и еще кое‑какие ингредиенты, известные только ей одной. Затем полученную сладкую творожную массу уложить в пасочницу для придания пасхальной формы.
Маленькое круглое окошко на часах открылось, из него выглянула серая кукушка, на мгновенье замерла, как бы проверяя, есть ли кто‑то, кому нужно сообщить время, и, прокуковав один раз, быстро спряталась в свой домик. Матушка посмотрела на ходики. Не ослышалась ли она? Неужели уже час дня? Что случилось, почему до сих пор не вернулся со службы батюшка? В груди защемило, сердце учащенно забилось, почувствовав недоброе. Она вновь взглянула на часы, еще раз удостовериться, что не ошиблась. Скоро вернутся из школы дети, надо непременно отправить их в храм, узнать, почему так долго нет отца. Матушка устало опустилась на стул, расправив на коленях передник, и вдруг ахнула, вскочила и начала что‑то судорожно искать. Она то переставляла с места на место посуду, то приподнимала полотенце, то выдвигала-задвигала ящики дубового буфета, украшенного резьбой. На секунду замерла, потом вдруг опустила руки в карманы передника, продолжая что‑то искать, но, не найдя там ничего, дрожащим голосом стала повторять: «Где же оно, где? Ведь еще утром было на месте…»
Во дворе радостно затявкала собака, скрипнули половицы, и на пороге кухни появился отец Александр – высокий, крепкого телосложения мужчина сорока пяти лет с длинными темными вьющимися волосами и густой окладистой бородой. Выглядел он моложаво, хотя уже начал слегка лысеть, и первая седина посеребрила голову. Порой хуторяне, увидев батюшку, не могли сдержать восторга: «Вот дал же Бог столько красоты одному человеку!» Отца Александра прихожане очень любили. Иногда он был строгим, но всегда оставался справедливым ко всем своим духовным чадам.
Батюшка только что вернулся из храма, поэтому на нем была черная ряса священника, а на груди висел большой серебряный крест – награда от епископа за усердное служение Господу. Отец Александр с нежностью посмотрел на жену: «Какая же она прекрасная, моя любимая Верушка, тихая, добрая, трудолюбивая, «незаметно незаменимая» – эти слова как будто про нее написаны в Церковном уставе, рассказывающем, какой должна быть супруга православного священника».
– О, божественный запах! – воскликнул батюшка. Матушка подняла на него полные слез большие серые глаза.
– Вера, что случилось? Почему ты плачешь?
– Кольцо обручальное… Ведь еще утром было на руке, а сейчас его нет нигде! – едва слышно промолвила она.
– Не плачь и не переживай! Найдется твое кольцо, никуда оно не денется из дома. Лежит где‑нибудь и посмеивается над тобой. А может быть, оно соскользнуло с руки, когда ты замешивала тесто? Тогда кто‑то получит пасхальный подарок вместе с твоим куличом! – батюшка улыбнулся. – Накрывай лучше на стол, я ужасно голоден, с утра маковой росинки во рту не было.
Матушка, немного успокоившись, принесла кастрюлю с постными щами из кислой капусты, нарезала хлеб и поставила на стол солонку. Она мало солила пищу, при этом любила повторять: «Недосол – на столе, пересол – на спине!»
Поставив перед мужем полную тарелку щей, матушка Вера села напротив и, подперев лицо руками, спросила:
– Ты сегодня сильно задержался, я даже хотела за тобой детей послать. И, вижу, чем‑то расстроен, что случилось?
– Да как тебе сказать, старая история. Помнишь, наш председатель просил выделить колхозу часть помещения в храме под яровизацию зерна? Я тогда отказал ему, не дал ключи, ведь негоже в Божием доме склады устраивать. Он грозился разобраться со мной и, по‑видимому, пожаловался начальству, потому что сегодня приезжала целая делегация из района, сказали, что это саботаж, контрреволюционная деятельность и я за это отвечу! А один пренеприятный тип добавил, что скоро попов вовсе не будет, храмы закроют, тогда точно их все отдадут под склады, а может, даже разрушат, так как «религия – это опиум для народа!».
– Господи, помилуй! – матушка перекрестилась. – А ты что ответил?
– Что я могу ответить? Мое мнение известно, теперь пусть церковный староста собирает совет, там вместе решим, как поступить.
– У меня какое-то нехорошее предчувствие… Вспомни, четыре года назад твоего предшественника, протоиерея Рогозина, арестовали по ложному доносу. Где он теперь, ни слуху ни духу…
– Вера, о чем ты говоришь, я же не сделал ничего, за что можно человека арестовать!
Матушка не ответила и о чем‑то задумалась. Отец Александр тоже молчал, видимо, вспоминая сегодняшнюю неприятную беседу и размышляя над тем, чем могут обернуться для него угрозы районных властей. Наконец он встал, перекрестился на стоявшие в красном углу иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, окаймленные красочно расшитым матушкою рушником, и сказал:
– Спасибо, Вера, щи очень вкусные! Пойду немного отдохну перед вечерней службой.
Матушка начала убирать со стола посуду. Во дворе вновь радостно залаяла собака, послышался шум, детский смех, и на пороге появились дети, вернувшиеся из школы.
– Тише вы, неугомонные! Отец отдыхает. Садитесь к столу, поедите – и будем красить яйца.
После обеда старшие сыновья Женя и Володя пошли наколоть дров и принести воды из колодца. Матушка взбивала белок для украшения куличей, а Нина с Лидой, старшие дочери, приготовились красить яйца.
– Я тоже хочу красить яйца! – сказал маленький Сережа, – дайте мне какую‑нибудь краску.
Нина, уже успевшая принести из своей комнаты шкатулку с рукоделием, строго ответила:
– Ты еще маленький, можешь все испортить!
Нина четырнадцати и Лида двенадцати лет, будучи искусными рукодельницами, как и матушка, имели свои секреты окраски пасхальных яиц. Одни яйца они обвязывали нитью, после крашения ее снимали – получались белые полоски на яркой поверхности. Другие – заворачивали в кусочки кружева, после окрашивания его снимали – оставался тонкий ажурный узор. Лида любила вырезать из бумаги различные фигурки: цветочки, листочки, звездочки или буквы ХВ – «Христос Воскресе!». Вырезанные из белой бумаги – использовали как трафарет, а цветные – приклеивали к уже сваренному яйцу сырым белком. А еще девочкам очень нравились яйца с «переходом»: когда яйцо погружали в краситель и потом медленно вынимали из раствора, верхняя часть получалась более светлой, а нижняя – темной. Дочери ревностно относились к этому важному делу и не допускали к нему братьев, считая, что мальчишки в принципе не способны справиться с творческим занятием, тем более такие маленькие.
Несмотря на то что Сережа был младшим в семье, он не уступал старшим детям в изобретательности, упорстве и настойчивости, поэтому, подбежав к матери и дернув ее за передник, попросил за себя и брата:
– Мам, ну скажи, чтобы они нам с Леней тоже разрешили яйца красить.
Матушка улыбнулась, погладила сына по светлой головке и сказала примирительно:
– Девочки, пусть братья вам помогают, ведь они тоже хотят поучаствовать. Дайте им посильную работу, под вашим присмотром у них все получится!
Лида фыркнула, но ослушаться матери не посмела. Невзирая на разницу с братьями всего в три и четыре года, она считала себя взрослой, а их – «мелкотой», оттого снисходительным тоном заявила:
– Ладно уж, идите сюда, покажу!
Младшие с радостью уселись за стол, и закипела творческая работа. Первое сделанное Сережей розовое яйцо с зеленым листочком было готово, и мальчик радостно воскликнул:
– Смотрите, какое у меня чудесное получилось! – и со счастливым видом положил его в нарядную плетеную корзинку с пасхальными яйцами.
Когда работа подходила к концу, в кухню вошел отец Александр.
– Вера, что же ты меня не разбудила? Хотел полчасика поспать и разоспался…
– Ну и слава Богу, хоть отдохнул перед вечерней службой! Дети уже закончили, сейчас будем пить чай.
Батюшка увидел корзину, полную красивых праздничных яиц, похвалил детей:
– Какие молодцы! В субботу будем святить.
– А мы с Леней тоже сегодня красили яйца! – с гордостью сказал Сережа. – У меня лучше всех получились!
Сестры переглянулись и засмеялись.
– Все вы постарались во славу Божию! – и отец Александр ласково похлопал сына по плечу.
Нина с Лидой накрыли стол к чаю: достали из буфета чашки, изящную стеклянную вазочку с вишневым вареньем, сухарики, которые постоянно делали из оставшегося хлеба, подсушивая его на печи.
Варенье матушка варила сама прямо в саду. Там устанавливали жаровню – круглую железную коробку на ножках, по ее бокам были сделаны отверстия, а внизу – решетка. Топили такую жаровню дровами и шишками. Сначала матушка готовила медовый сироп: в медный таз с деревянной ручкой заливала слегка разбавленный водой мед, постепенно растапливала его, затем погружала туда отборные, спелые, сочные вишни из собственного сада, добавляла листья мяты и уваривала до готовности. Сахар был дорогим и редким удовольствием, к тому же считался скоромным продуктом, а дешевый мед всегда можно было купить на соседней пасеке. Варенье «на меду» разрешалось есть и во время поста. Нежные розовые вкусные пенки, получавшиеся при кипении, матушка делила между детьми.
Когда вернулись старшие сыновья, семья села пить чай.
Вновь на улице залаяла собака, но на сей раз громко, отчаянно, зло. Это было совсем непохоже на милого, доброго дворнягу, которого много лет назад дети нашли щенком на дороге и принесли в дом.
Мать тогда стала ругать их, но отец Александр сказал:
– Пусть останется, любовь к животным делает детей добрее и сострадательнее. Пока поживет под крыльцом, а к зиме смастерим ему настоящую будку.
Дети радостно побежали обустраивать собаке место под крыльцом, постелили солому, на нее положили старый маленький круглый половичок, поставили мисочку с водой. Псу очень понравилось новое место проживания, он улегся на подстилку и положил мордочку на лапы.
– А как мы его назовем? – спросил Сережа.
– Давайте назовем Дружком, – предложила Нина.
– Можно Шариком, смотрите, он круглый, как мячик! – сказала Лида.
В это время к дому подошел отчим матушки Веры, приехавший навестить внуков. Дед Коля, потерявший во время Первой мировой левую руку, не потерял своего веселого озорного нрава. Увидев детей, возившихся под крыльцом с собакой, спросил:
– Что за шум, а драки нету? Это что за Кабысдох там у вас?
– Дедушка, нам папа разрешил взять щеночка, мы не знаем, как его назвать, Дружком или Шариком? – наперебой заговорили дети.
– Конечно, Дружком! Тогда он будет с вами дружить. А Шарик – это как-то не солидно! – и, по‑мальчишески задорно засмеявшись, пошел в дом.
Обласканный детьми, пес рос добрым и приветливым, встречал всех, радостно виляя хвостом, если когда‑то и лаял, то больше для порядка, чтобы показать хозяевам, что не зря ест хлеб.
– Что могло случиться? Дружок аж захлебывается от лая! Пойду посмотрю, – сказал отец Александр и, встав из‑за стола, направился в сени.
Не успел он дойти до порога, как дверь без стука отворилась и в комнату вошли два человека в форме НКВД. Один из них, видимо, старший по званию, произнес:
– Протоиерей Александр, настоятель Никольского храма?
– Он самый, чем могу служить?
– Вы арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности, а также во вражеской агитации, направленной на подрыв существующего строя, используя при этом религиозные предрассудки масс.
Матушка ахнула и схватилась за сердце. Сережа заплакал, остальные дети испуганно молчали.
– Дети, идите к себе в комнату, вам пора делать уроки, – скрывая волнение, сказал отец Александр.
– Я сейчас соберу твои теплые вещи, – спохватилась матушка.
– Не положено! – отрезал конвоир.
Едва сдерживая рыдания, матушка бросилась на шею мужа.
– Поторапливайтесь, у нас сегодня много работы, еще пятерых надо забрать! – ухмыльнулся старший.
Отец Александр мягко отстранил руки супруги и поцеловал ее в лоб.
– Вера, прошу тебя, успокойся! Завтра во всем разберутся – и я вернусь домой, ты же знаешь, я ни в чем не виноват!
Он вышел в сени и хотел переобуться, но один из стражей власти, увидев добротные кожаные батюшкины ботинки, грубо оттолкнул отца Александра.
– Они тебе уже не понадобятся! – и, нагнувшись, забрал ботинки себе.
Отец Александр обернулся. Увидев испуганное лицо жены, следовавшей за ним по пятам, снял с руки золотое обручальное кольцо и сказал:
– Возьми, Вера, может, еще пригодится. Береги себя и детей. Храни вас Господь! – осенил матушку крестным знамением и, переступив порог родного дома, не оборачиваясь, ушел навстречу страданиям, уготованным судьбой.
Глухие удары колокола, созывавшие хуторян на вечернюю молитву, провожали батюшку, как будто прощаясь с ним навсегда.
Потянулись тяжелые дни неизвестности. Пока шло следствие, велись допросы, свидания и переписка с отцом Александром были запрещены.
В день именин батюшки, двадцать второго июля, Нина и Лида принесли в тюрьму передачу: испеченный матушкой крупеник, так любимый их отцом, овощи со своего огорода и пышный каравай хлеба. По дороге девочки собрали большой букет полевых цветов: ромашек, васильков, колокольчиков.
Охранник, увидев букет, сказал:
– Не положено! Забирайте свой веник, – но, заметив дрожащие губы и слезы в глазах Лиды, сжалился и добавил: – Ему ли там до цветов… Но ладно, давайте, пущай понюшит.
Эти цветы для отца Александра были последней тонкой живой ниточкой, связывающей его с родными.
23 августа 1937 года тройкой при управлении народного комиссариата внутренних дел СССР по Воронежской области протоиерей Александр был осужден по обвинению в участии в контрреволюционной монархической церковной группе, в обсуждении с членами группы методов борьбы с Советской властью, распространении клеветы на руководителей ВКП(б), ведении пораженческой агитации. Приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
31 августа 1937 года приговор был приведен в исполнение.
***
На живописном высоком берегу Москвы‑реки на Воробьевых горах среди вековых зеленых деревьев и пышных кустарников расположился храм Живоначальной Троицы, белоснежный, с двухъярусной колокольней, ярко‑зелеными куполами и блистающими в солнечных лучах золотыми крестами.
История этого храма корнями уходит в глубь веков: видел он и царственных особ, и фельдмаршала Кутузова с генералами, молящимися о победе в Бородинском сражении, и простых прихожан, сумевших сохранить христианскую веру в период воинствующего атеизма. В советское время в Троицкой церкви не только не прекращались богослужения, но и продолжали благовестить колокола, даже после запрещения колокольного звона во всей Москве. Православные тайком ездили на Воробьевы горы, чтобы послушать умиротворяющий малиновый звон. Каким‑то образом Троицкая церковь сохранилась и в пятидесятые годы, когда началось строительство Московского государственного университета. Главный архитектор уже готов был небрежным жестом легко смахнуть церковь с градостроительного плана Москвы, но случилось чудо, и храм уцелел.
В Троицкой церкви закончилась вечерняя служба, прихожане стали расходиться. Маленькая, сухонькая седая старушка в строгом длинном темно‑синем платье и беленьком платочке не спеша вышла из храма и направилась к троллейбусу, чтобы, проехав три остановки, скорее добраться домой. Многочисленные болезни сгорбили когда‑то статную фигуру. В старушке трудно было узнать ту самую матушку Веру, некогда красивую и сильную. По пути домой она зашла в булочную купить к ужину свежего хлеба. Чтобы не потерять равновесие, одной рукой она опиралась на палку, в другой руке бережно держала небольшую тканевую сумочку с четвертинкой душистого пшеничного хлеба. Скоро вернется с работы дочь Нина, и они будут ужинать. Придя домой, старушка стала накрывать на стол. Нарезав хлеб, она аккуратно собрала крошки и положила их в рот. Голодные годы давно миновали, но старая привычка не дать пропасть ни одной крошке хлеба осталась у нее на всю жизнь. Ее семья давно перебралась из хутора в город, сначала в Ростов‑на‑Дону, а позднее – в Москву, откуда родом была ее мать и где появилась на свет она сама. И жизнь, казалось бы, наладилась, но, несмотря на все старания, память отказывалась забыть тяжелое прошлое. Порой ей снились кошмары, в которых она вновь и вновь проживала те мучительные дни, когда после расстрела мужа ее вместе с шестью детьми местные власти выгнали из дома, конфисковав имущество. Односельчане боялись пустить «врагов народа» на порог или хоть чем-то помочь им. В этих жутких снах она снова видела заброшенный сарай на окраине хутора, продуваемый всеми ветрами, в котором ей с детьми пришлось ютиться и голодать, не имея средств к существованию. Люди сострадали, но боялись помогать. Лишь семья школьного учителя тайком передавала через своего сына, с которым дружил ее младшенький Сережа, то немного крупы, то хлеба, то овощей с огорода, чтобы дети не умерли от голода. Из крупы и хлеба она варила хлебный суп. Когда‑то муж рассказывал ей, что в годы учебы в Бирюченском духовном училище бывало очень голодно. Студенты сначала варили похлебку с крупой, потом добавляли в нее ржаные сухари, те набухали, разваривались, получался ароматный суп. Выходило намного сытнее, чем если просто съесть хлеб и запить его водой. Эта похлебка спасла тогда и ее, и детей от голодной смерти.
Каждую ночь перед сном, достав из шкатулки маленькую иконку Спасителя, Вера, как и прежде, истово молилась об упокоении души своего невинно убиенного мужа и умершего в двадцать лет от тифа старшего сына Евгения. Просила милости Божией для остальных детей, ее заботами и стараниями сумевших пережить лишения, голод и гонения семьи, заклейменной страшными словами: «враги народа».
При мысли о детях сердце наполнялось тревогой, но вскоре появлялись радость и гордость за них: невзирая на испытания и тяготы судьбы, все выросли честными, трудолюбивыми, достойными людьми.
Володя, ее второй сын, родившийся через год после Жени, был здоровяк, огромного роста, он обладал красивым, редким тембром голоса – глубоким, раскатистым, глуховатым басом, совсем как у отца Александра! Его вокальные данные оценили даже в Большом, пригласив петь в театральном хоре.
Дочери Нина и Лида, родившиеся после Володи, были умницами и красавицами, но считались «невестами войны», как и многие их сверстницы, они не создали семей, потому что большинство молодых людей их возраста погибли во время Великой Отечественной войны. Старшую дочь судьба не пощадила: будучи юной девушкой, переходя дорогу, она попала под машину. Приехавшие на место аварии врачи скорой помощи не обнаружили у пострадавшей пульса и прямиком отвезли ее в морг. Там она очнулась, изрядно всех напугав. В результате этой аварии и ошибки врачей дочь осталась инвалидом, но это не помешало ей окончить институт, получить диплом инженера‑строителя и стать главным инженером одного из строительно‑монтажных управлений Москвы.
Лида окончила техникум и работала бухгалтером солидного московского института.
Младшие сыновья Леня и Сережа очень дружили между собой. После окончания техникума Леня устроился на крупнейший вертолетный завод в Ростове‑на‑Дону и проработал там всю жизнь, сначала мастером участка, затем – в секретном цехе по сбору новейших моделей вертолетов.
Последыш Сереженька был ее любимцем, может, потому что был очень похож на нее саму в молодости: высокий лоб, брови вразлет, большие, окаймленные густыми ресницами, искрящиеся радостью и оптимизмом серые глаза и обворожительная, добрая, открытая улыбка. А может быть, оттого, что редко его видела: он единственный из сыновей выбрал профессию офицера. Окончив военное училище и женившись на моей маме, Сергей уехал с женой по направлению командования служить на Дальний Восток, в самый отдаленный уголок Приморского края России – на китайскую границу, где я и родилась. Он прошел трудный путь – от лейтенанта до полковника, а вернувшись в Москву, стал командиром воинской части – школы сержантов.
И вновь матушка Вера усердно молилась за всех, свято веря, что по ее молитве Господь будет милостив к ней и ее детям. Она втайне окрестила в церкви всех внуков, чтобы не было неприятностей у их родителей, поскольку в советские времена крещение детей запрещалось властями.
Как смогла она смиренно вынести на хрупких плечах все тяготы, уготованные судьбой, не сломаться, не озлобиться, не потерять веру? Она уйдет из жизни, так и не узнав, что ее муж, протоиерей Александр, через пятьдесят два года после своей смерти будет реабилитирован прокуратурой Воронежской области и признан жертвой политических репрессий в СССР, его имя внесут в список новомучеников и исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке.2
Фото из личного архива. Отец Александр и Матушка Вера
Отпевали матушку Веру в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, верной прихожанкой которого она была много лет.
2.Наташа
Бабушка Ефросинья хлопотала на крохотной уютной кухоньке малогабаритной квартирки. Когда их большую семью переселяли из коммуналки с Тверской в окраинное Тушино, в 70-е годы, четырехкомнатная квартира считалась большой роскошью, пусть и имела площадь всего сорок квадратных метров и располагалась не в центре Москвы. А уж сейчас, когда привыкли гулять в тушинском лесу, обжились, купили и мебель, и кухонную технику, все аккуратно расставили, – грех жаловаться на судьбу.
Бабушку Ефросинью все считали премудрой. Слова лишнего от нее не услышишь, а уж повторять по два раза никому не будет, ни старому, ни молодому.
Каждое лето мы с тремя сестрами и бабушкой отдыхали на даче. Заведенные ею порядки и правила никем не обсуждались. К дарам леса бабушка, пережившая две большие голодовки и тяготы Отечественной войны, относилась с почтением. Только открывался ягодно-грибной сезон, а это, к бабушкиной радости, происходило уже в конце мая, у нас появлялась обязанность – ходить в лес и собирать грибы и ягоды. Начиналось все с земляники, ее сменяли брусника, черника, малина, потом появлялись ранние лисички, и так до конца лета. Если бабушка сказала, то ранешенько, в шесть утра, все вставали и с полузакрытыми глазами, спотыкаясь, гуськом шли за ней. И попробуй ослушаться! Ее охи, вздохи, нашептывания, покачивания головой наводили на нас такое раскаянье, что приходила только одна мысль – это непослушание в последний раз.
Режим дня был строгим, после завтрака – дежурство по очереди: кто дом убирает, кто половики стирает, кто посуду моет. Поменяться разрешалось только по договоренности с исполнителем. И мы это делали. Я любила дом убирать, мыть пол и выбивать пестрые половики. После завершения уборки я всегда открывала окна, запуская свежесть, и в маленькую глиняную вазочку на столе ставила свежие полевые цветы. Мои сестры любили мыть посуду в огороде в больших желтых эмалированных тазах, перекладывая чашки, тарелки из одного таза с водой в другой. Ягоды и грибы перебирали вместе. Но иногда бабушка так радовалась урожаю, что освобождала нас от этой работы. В пять вечера, если тяжелые черные тучи обходили наш дом стороной и пророческий гром и темное небо не приносили долгожданного дождя, все страстно мечтавшие хотя бы о его капельке отправлялись поливать огород теплой, отстоявшейся в бочке водой.
Мы давно привыкли, что бабушка с нами вроде бы и говорила, но как будто на другом языке. Произнесет кто-нибудь рядом: «Утро вечера мудренее», а бабушка всегда, посмеиваясь, тихонечко добавляет: «Жена мужа удалее». Никогда ни про кого она плохо не говорила, но как бы про себя бурчала. Вот скажут про молодого человека, который ей не нравился: «Идет первый парень на деревне», – а она, посмеиваясь, шепнет тихонечко: «А в деревне один дом». И всегда-то у нее в запасе имелись такие прибаутки да поговорки. Сетует, например, соседка на свою жизнь, и тут ей лукавый ответ: «В чужую дуду не наиграешься» или «Кобыла вздыхает, а траву хватает». Очень не любила она, когда мужики приходили проситься на работу, а сами с утра уже навеселе. Никогда она никого не поучала, и только в сторонку ворчала: «Церковь близко – да идти склизко, кабак далеко – да идти легко». И для себя у нее всегда находилось что-нибудь поучительное: «Думаешь так, а выйдет никак» или «Сказал бы словечко, да волк недалечко», или «Нищему собраться – только подпоясаться», и мое любимое: «Загад не бывает богат». И это истинная из правд, потому что именно так с нами часто и происходит. Вот поделишься с кем-то своими планами, так обязательно появится что-то непредсказуемое и все пойдет не так. Но мечты – это совсем другое дело.
«Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон…»
Что взять с мечты? Это же просто веселый сон, как написал Александр Сергеевич Пушкин. Как можно поделиться мечтой? Ну, если только с очень близким человеком. И как к ней серьезно относиться? До сих пор я стараюсь ничего не загадывать, а только мечтать. И чем легче мы относимся к мечте, тем быстрее она сбывается.
Бабушка позвонила, когда я сидела дома и готовилась к институтскому семинару по политэкономии. Как я ни старалась вникнуть, но великий смысл прибавочной стоимости от меня ускользал. Почему при социализме прибавочная стоимость – это хорошо, а при капитализме – плохо? Неосмотрительно задала этот вопрос преподавателю и получила в ответ такой угрожающий взгляд, что поняла – теперь не сдам экзамен во веки веков. Учила наизусть Карла Маркса: «При капиталистическом способе производства прибавочная стоимость присваивается капиталистом в виде прибыли, в чем и выражается эксплуатация им рабочего». Как будто при социализме прибыли нет и она не присваивается.
– Приходи через часик чаю попить с куличами. Как раз первый будет готов. Горяченькие, вкусные.
Мы жили рядом. Бабушка открыла дверь. Как всегда, опрятная. Волосы аккуратно зачесаны назад и собраны в пучок. Редко вылезет один волосок, и тут же она его гребнем ловко в пучок подберет. Аромат ванили был слышен уже от лифта, а в открытую дверь – и дрожжей, и цукатов, и свежеиспеченных куличей.
– Молодец, успела. С пылу с жару, пятачок за пару. Господи, прости! – осенила себя знамением несколько раз, склонив голову.
На столе красовался первый, еще не порезанный кулич, а рядом – вазочка с распустившейся зелеными листочками вербой, корзиночка с яйцами, простенькими, крашенными шелухой от лука, но такими родными.
– Бабушка, а почему ты нам в пост разрешаешь есть куличи, а сама даже не попробуешь? Пост строго-настрого держишь, а нам ничего не запрещаешь.
– Вам можно, ешьте. Все до поры до времени. Еще немного ждать осталось.
– А чего ждать?
– Большие изменения придут. Пройдет еще малость времени, и так все преобразится. Вот тогда все и поймете. А сейчас нечего и говорить-то. Загад не бывает богат. Не волнуйся – я за вас за всех молюсь. А ты взяла бы да уважила бабушку да и помылась сейчас у меня. А то ведь потом у тебя времени не будет. Пообещаешь мне, да не сделаешь, скажешь: некогда. Одно «нынче» лучше двух «завтра». Тем более что нынче чистый четверг, так что завтра будет поздно. Пока ты мыться будешь, новые куличи испекутся, я тебе с собой дам. Иди, выбери там, в шкафу, и полотенце, и халатик, и платочек.
Мне нужно было заниматься, скоро сессия, сейчас зачеты и эта прибавочная стоимость, которая не помещается в голове. Но я с неохотой пошла к шкафу. Открыла. Как всегда, идеальный порядок. Знакомые аккуратно сложенные полотенчики, халатики, узелок на смерть, давно приготовленный, – лежит на верхней полке. А вот и стопочка белых платочков. Здесь и с каймой, и с горошками, на любой вкус. Выбрала беленький с нежным голубым узором по краю. Вот правда, какая же она премудрая. И времени у меня нет, но так скажет, что отказать не могу. А сама она никогда за стол не сядет, пока ее три раза не позовешь. Придет она, бывало, в гости, так я ей прямо с порога предлагаю чаю выпить, но она отказывается. Поставлю чайник на плиту, опять предложу, и опять откажется. Начну чай наливать в чашку и в третий предложу. И, как всегда, услышу в ответ: «Ты мне три раза предложила, тогда выпью с тобой чаю». И каждый раз я ей отвечаю:
– В следующий раз я тебе сразу три раза предложу.
Но почему-то никогда этого не делаю.
Никто не умел так заступаться за близких, как бабушка. Всего-то каких-то пятьдесят лет назад двадцатипятилетняя незамужняя девушка находилась под пристальным вниманием родственников и соседей. Они вздыхали: ох, и что же она у вас такая умная и красивая, а до сих пор не замужем? И бабушка Ефросинья всякий раз отвечала с особой гордостью, как хранительница великой тайны, только ей известной:
– Руку набьет – сокола убьет.
Да, бабушка знала много секретов. Никто так не разгадывал сны, как она. И шли к ней люди за советом, и звонили. И всегда-то она знала, где пустые хлопоты, а когда нужно отказаться от задуманного или приготовиться к дальней или ближней дороге. Даст она такой совет – и тут же перекрестится и попросит прощения у Бога, как будто она его тайну рассказала.
Много секретов она хранила, но вот один неустанно повторяла. А мы все время хохотали и пророчили ей долгую жизнь. Бабушка только бормотала:
– Смейтесь, смейтесь, коли весело, но просьбу мою выполните. Вот будете потом диву даваться.
Она знала, что умрет летом, когда будет стоять жара. Она знала, что гроб с ее телом не пустят для отпевания в церковь, потому просила:
– Обещайте, что поставите меня хоть на десять минут рядом со входом в храм.
Бабушка Ефросинья действительно умерла, когда стояла невыносимая жара, температура поднималась выше тридцати пяти градусов. Батюшка храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище не пустил гроб с ее телом на отпевание, так как не хватило нужной казенной бумаги. И когда махнувшие рукой – «да, ладно, что за прихоть!» – двинулись, неся гроб, моя мама – тишайшая и скромнейшая женщина – по праву старшей в роду встала у них на пути и железным голосом скомандовала:
– Поставить у входа в храм и ждать десять минут!
Она исполнила волю покойной, а мы до сих пор диву даемся, откуда бабушка знала.
Бабушка провожала меня с куличами и крашеными яйцами:
– Иди да промеж двери пальцы не клади! Выучи что надо, вопросов ненужных не задавай… Главное – жди. Скоро, скоро придет время!
– А какое время? Чего ждать?
***
В 2011 году часть Пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре на горе Афон, впервые за всю историю покинула стены монастыря и была привезена в Россию. Группа афонских монахов, сопровождавшая Пояс, на специально арендованном самолете и специальных поездах за 39 дней посетила 14 городов и Серафимо-Дивеевский монастырь. Маршрут перемещения Пояса Пресвятой Богородицы по России специально определили в виде восьмиконечного православного креста: с запада на восток – от Калининграда до Владивостока и с севера на юг – от Норильска до Ставрополя. По приблизительным оценкам, Поясу Богородицы поклонились более трех миллионов паломников.
О том, что Пояс привезут в Россию, сообщили заранее. Мы с подругой Милочкой сразу решили, что обязательно пойдем поклониться Поясу Богородицы. Не верили такому чуду и повторяли вновь и вновь:
– Этот пояс сплела сама Богородица и носила его до конца жизни! К этому поясу прикасался Иисус Христос!
И вот настал тот день, когда Пояс Богородицы привезли в Москву, разместили в храме Христа Спасителя и 19 ноября 2011 года открыли доступ паломникам для поклонения. Все телевизионные каналы рассказывали о Поясе Богородицы и приглашали всех желающих.
Сразу к Поясу образовалась огромная очередь. Сначала мы с Милой не могли согласовать общий день, потом ждали, когда основной поток пройдет и народу поубавится. В это время в Москве стояли сильные морозы. И это тоже являлось для нас оправданием отложить. Мы ждали, что холода отступят и потеплеет.
Моя родственница Х., услышав, что я собираюсь в храм Христа Спасителя, предложила мне помощь. Ее приятель работал в храме, он мог нас провести без очереди. И, какое счастье, как раз вчера знакомый сам ей звонил и предлагал. Сначала я обрадовалась, но что-то меня останавливало, поблагодарила и сказала, что подумаю.
Спохватилась, когда услышала в новостях по радио, что осталось всего три дня. А морозы-то к этому времени только окрепли, и ночью температура опускалась уже ниже десяти градусов. Вот и нашлось новое оправдание: я так себя плохо чувствую. А если я заболею, в такой-то мороз вообще немудрено, а можно еще и осложнение получить, если всю ночь в такую-то погоду на улице простоять.
На следующий день, вечером, около одиннадцати часов, мы собирались ложиться спать и услышали, как в очередной раз диктор телевидения в вечерних новостях объявил, какие очереди к Поясу Богородицы, сколько часов люди стоят и сколько дней пребывания Пояса в Москве осталось. О ужас! Как два дня?! Решение пришло молниеносно, откладывать нельзя, еду сегодня. Но как я в такой час могу позвонить Миле? А если они уже спят? А если я их разбужу? Слишком поздно. Решено. Поеду одна.
Муж лежал в кровати. Смешно думать, что человек вылезет из постели и в такой мороз, в ночь куда-то поедет. Даже и спрашивать не хочется, чтобы не смущать человека. Еще и не знаю, как ему вообще объяснить, что я буквально срываюсь, и поверит ли он. Ну какая могла быть у мужа реакция, когда он узнал, что я так неожиданно и так поздно собираюсь к Поясу Богородицы, вы, наверное, представляете. Его лучшие слова изливались в самом начале, когда он меня просто отговаривал. Когда же отчаялся и понял, что всякие сравнения меня с кем-то и красноречивые уговоры не действуют, переменился и посоветовал потеплее одеться:
– Обещали, что ночью температура опустится до пятнадцати градусов. Бери мои носки из верблюжьей шерсти, и спортивные брюки с начесом, и мою шапку-ушанку из соболя. Когда будет совсем холодно, опустишь у шапки уши. И надень две шубы.
Быстро преобразившись в гордого за свою жену и заботливого, муж собирал меня, как на Северный полюс.
В то время мы жили не очень далеко от храма Христа Спасителя, и вообще это был мой родной район и все мне здесь было знакомо, каждая улица, каждый переулок. На машине я добралась быстро, за десять-пятнадцать минут.
Добралась уже ближе к полуночи. От храма очередь паломников выстроилась по Пречистенской набережной и далее по Фрунзенской. Оставив машину недалеко от храма, я пошла вдоль очереди в самый конец. Где-то в середине Фрунзенской набережной она заканчивалась, недалеко от знакомого ресторана-корабля «Мама Зоя», стоящего на Москве-реке.
Вместе со мной подошло сразу несколько человек.
Паломники к Поясу Богородицы. Фото из личного архива.
Река, поток из людей, преимущественно женщин, стремился к храму не тоненькой вереницей, а плотно стоящими группами по пять, а то и десять человек. Прикинув, сколько придется стоять, решила, что около девяти часов утра, максимум – в десять я должна пройти. По крайней мере, так объявляли все телеканалы каждый день, сообщая подробности о том, какой длины очередь, сколько времени люди стоят и в котором часу заходят в Храм. Каждый день я слушала эти подробности, и моя готовность становилась крепче.
Осматриваясь, изучая соседей, я, полная сил, ждала приказа «штурмовать гору», но мы стояли без движения. Очередь замерла. За полчаса люди не сдвинулись с места. А в это время практически каждую минуту подъезжали автомобили, из них выходили новые паломники, иногда группами, и за эти полчаса за мной уже выстроился хвост, которому не было видно конца. «Как вовремя приехала», – радовалась я.
Наконец мы продвинулись чуть вперед и опять остановились. И так какой-то период то медленно двигались, то вовсе стояли. В эти первые часы две шубы надежно защищали меня от холода. Я читала «Богородице, дево, радуйся» и, как и на канавке в Дивеево, через каждый десяток «Отче наш». Сколько раз я прочитала, я не знаю. Может быть, тысячу, может быть, две и больше.
Не было и не могло быть людей, которые приехали просто посмотреть. Всех объединяла одна вера. Рядом со мной шла молодая женщина с девочкой лет двенадцати. Они без остановки пели гимны Богородице! У мамы в руках был небольшой блокнотик, в котором записаны песни-гимны. Слова любви к Богородице, такие трогательные, нежные и самобытные, иногда наивные, возможно, придуманы знакомыми или ими самими. Я поинтересовалась, откуда они приехали. Оказалось, из Тверской области. Рядом со мной шла бабулечка лет восьмидесяти, укутанная пуховыми платками, в пуховых варежках и валенках. Она держала в руках обычную старую тетрадочку за две копейки, исписанную мелким почерком, и тоже пела молитвы. Она знала их наизусть, но тетрадочка, видимо, придавала ей уверенности. А впереди меня шел старичок в странной шапке из неизвестного животного. Серый с черными перьями мех торчал стрелочками в разные стороны. Старичок поворачивался, кивал и всем улыбался. Шли большие паломнические группы по тридцать-сорок человек, приехавшие на больших экскурсионных автобусах. Все делились радостью и счастьем, что попали сюда. Кто-то ехал весь день, а некоторые добирались целые сутки. Все эти истории очень поддерживали и воодушевляли остальных. В очереди царило абсолютное счастье и любовь. Люди прижимались друг к другу, так было теплее. Но мороз к ночи крепчал. К четырем часам я почти окоченела. Это было самое тяжелое время.
Меня хорошо защищала теплая одежда, но повышенная влажность рядом с рекой, мороз и ветер делали свое губительное дело. Я стала потихонечку замерзать. В сознание гремучей змеей постоянно вползала мысль, что уж если будет совсем тяжело, я воспользуюсь телефонным звонком и пройду без очереди. Но я прогоняла эту мысль, я даже ее боялась. Я себе убеждала: «Нет, ты должна стоять, так нужно».
Две мои шубы, верблюжьи носки и даже соболиная шапка с ушками меня не спасали. Мороз щипал лицо, я кутала его в теплый вязаный шарф. Но от дыхания влага собиралась на ниточках шерсти, становилось трудно дышать, а кожа лица начала сохнуть и шелушиться. И я перестала укрываться шарфом, старалась дышать носом, постепенно привыкая к морозу.
Я вспоминала свою бабушку. Да, она была очень набожна, но ее вера была тихой. Молилась она долго и, чтобы никто не видел, рано утром. Да, в те времена людям приходилось скрывать свои убеждения. В ее доме иконы не висели в красном углу, а лежали в шкафу, завернутые в полотенца. Да и как их повесить, если сын – народный судья? Бабушка Ефросинья никогда не произносила вслух молитв. Что она обращается к Богу и святым, можно было судить по ее направленному вдаль, очень сосредоточенному и одновременно отрешенному от нашего мира взгляду, по шевелению губ. Молилась ли она Богу, Богородице, Спасителю или какому-то святому, теперь я не узнаю.
Писателю Максиму Горькому больше повезло. Его бабушка молилась открыто, без оглядки. «В своих молитвах Акулина Ивановна обращается к Богу как к лучшему другу, с которым можно поделиться всеми своими горестями… всегда молилась своими словами, искренне и от всего сердца, полагая, что Господь в любом случае услышит ее молитвы».
Богородица была для меня такой близкой и родной, что тоже захотелось молиться ей своими словами и просто рассказывать о жизни, о проблемах, о семье, просить совета.
Опять мы встали. А стоять холодно, лучше двигаться. Я на месте перестукиваю ногами, спрятав руки в рукава, как в муфту. Как обычно это бывает со всеми, первыми у меня замерзли руки и ноги, а от них холодок потянулся по всему телу. Что же делать? Как себе помочь в таких условиях? Я решала очередную любимую арифметическую задачку. Что мы имеем? Плюсы: я не являюсь пожилым человеком, у меня неслабый иммунитет, про меня не скажешь, что кожа да кости, органы прикрыты кое-где плотным жирком. Минусы: я уставшая и голодная. Как нарочно, разыгрался аппетит, а я непредусмотрительная, не взяла никаких продуктов, даже просто перекусить. Хоть леденец, хоть печеньку. Но ведь в очереди никто не ест и не пьет, значит, и я буду терпеть. Да и какая ночью еда? Кожа моя высохла от холода и сморщилась. И опять не предусмотрительно я не намазала лицо хоть каким-нибудь жирным кремом и даже просто маслом. Однозначный большой плюс – моя меховая шапка-ушанка. Голова, уши закрыты. Я вспоминала институтский конспект в общей тетради в клеточку из сорока четырех листов в черной клеенчатой обложке. Открываю страничку с подчеркнутым заголовком вверху: «Первая помощь при переохлаждении». Все условия невыполнимы: перенести пострадавшую, то есть меня, в теплое помещение, растереть конечности спиртом, опустить замерзшие участки в теплую воду, дать теплый чай. Получается, что я себе ничем помочь не могу. И вновь я гоню мысль, что нужно потерпеть до девяти часов, что у меня есть вариант – в крайнем случае позвоню.
