Приключения Миши в царстве забытых слов
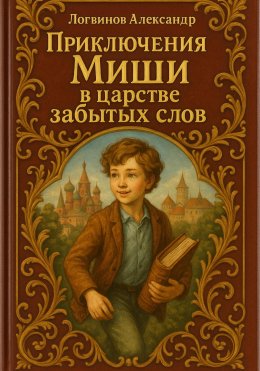
Эта книга – увлекательное путешествие в мир старинных русских слов, которые когда-то звучали в устах наших предков, а теперь стали редкими гостями в речи. Но здесь они оживают заново: каждое слово сопровождается историей, забавным рассказом или лингвистическим анекдотом, чтобы даже самые трудные архаизмы запомнились легко и весело. Читателя ждут не сухие определения, а живое общение с языком: вы узнаете, почему «выя» – это вовсе не выя, что общего у «персей» с античными мифами и каким образом слово «почивать» превратилось из «отдыхать» в «умирать».
Книга сочетает в себе познавательность и юмор, превращая чтение в игру и тренинг памяти. Упражнения помогут закрепить новые (старые!) слова, а занимательные истории и примеры из литературы и быта сделают материал ярким и близким. Она адресована широкой аудитории – от подростков до взрослых, всем, кто любит язык и хочет расширить свой словарный запас необычным и редким.
Это не только учебник по забытым словам, но и веселая энциклопедия русского духа. Читайте, улыбайтесь и удивляйтесь тому, как богат и остроумен наш язык!
Глава 1. Таинственный гость из словаря
Миша сидел в пыльной библиотеке своего деда и лениво перелистывал старую книгу. Ему было тринадцать лет, и сейчас летние каникулы казались бесконечно скучными. Друзья разъехались по лагерям и бабушкам, а телевизор и игры уже порядком надоели. В поисках приключений Миша полез на чердак дедушкиного дома, где хранились старые вещи и книги. Среди сундуков с пожелтевшими газетами и паутины он нашел массивный кожаный фолиант с потертыми буквами на обложке.
«Толковый словарь живого великорусского языка. В. И. Даль» – прочитал Миша вслух старомодное название. Он слыхал про этот словарь на уроках русского: огромный труд, где собрано множество слов, многие из которых уже давно никто не употребляет. Для школьника это звучало не слишком заманчиво, но делать было нечего – хотя бы картинки посмотреть, если они там есть.
Устроившись поудобнее среди сундуков, Миша открыл толстый словарь. Пыль взлетела в воздух, и он чихнул. На первой странице витиеватым шрифтом было написано: «Издание второе, исправленное и дополненное». Ни иллюстраций, ни картинок – один сплошной текст мелким шрифтом. «Скукотища…» – вздохнул Миша, пролистывая первые страницы. Но вдруг его взгляд зацепился за странные слова:
… Аз, буки, веди, глаголь…
Страница выглядела необычно. Вместо привычных определений там шел какой-то стих или заклинание. Мальчик провел пальцем по строчкам. Буквы были старинные, местами использовалась та самая буковка «ять» (Ѣ), о которой учительница рассказывала как о музейном экспонате.
Вдруг лампочка на чердаке замигала, тени закружились по углам. Мише почудилось, что буквы на странице зашевелились, словно мелкие жучки. Он протер глаза: на строках действительно что-то происходило! Буквы складывались и расходились, слова меняли порядок. Порыв ветра пронесся по чердаку, страницы словаря зашелестели и начали сами собой перелистываться.
Миша в испуге выронил книгу. Фолиант упал на пол и раскрылся где-то посередине. Оттуда ударил яркий свет. Прямо из книги поднялось полупрозрачное облачко пыли, которое стало собираться в чей-то облик.
Через мгновение перед Мишей возник высокий худощавый старик с длинной седой бородой и в старомодном сюртуке. На носу его красовались круглые очки в тонкой оправе, а под мышкой он держал точно такую же книгу, что лежала на полу.
Миша отпрянул и чуть не упал, спотыкаясь о сундук.
– Не бойся, отрок, – раздался негромкий, но четкий голос старика. – Аз есмь дух Словаря, а точнее – дух самого господина Даля, коли тебе угодно.
Мальчик застыл с открытым ртом. Он не знал, что более удивительно – говорящий призрак или язык, на котором тот говорил.
– К-кто вы? – только и смог выдавить Миша.
– Я – Владимир Иванович Даль, – старик учтиво поклонился, прижав книгу к груди. – Точнее, часть его души, что живет в каждом экземпляре сего словаря. Ты пробудил меня, юный читатель.
Миша потряс головой: неужели задремал и это сон? Он ущипнул себя – больно. Старик-призрак не исчез.
– Тот самый Даль, что словарь написал? – недоверчиво спросил Миша. – Но ведь вы умерли сто лет назад…
– Для слов нет преград ни во времени, ни в пространстве, – таинственно отозвался гость. – Раз словарь мой доныне читает молодое поколение, значит, и дух мой живет. Вижу, тебя занимают старые слова?
Мальчик замялся, не зная, что ответить. Признавать, что от скуки ковырялся на чердаке, не хотелось.
– Ну… вообще-то да, – соврал он для приличия. – Нам в школе как раз рассказывали про устаревшие слова.
Старик сверкнул глазами из-за очков.
– Прекрасно! Тогда, быть может, ты поможешь мне в одном дельце? Видишь ли, мой юный друг, за десятилетия, что минули, многие слова из моего словаря забылись и выпали из живой речи. Для слова нет смерти хуже забвения. А для меня, как для их собирателя, каждая утраченная словечко – истинная туга.
– Туга? – переспросил Миша, незнакомое слово прозвучало как-то жалобно и грустно.
– Туга, то бишь печаль великая, горесть, – вздохнул Дух Словаря. – Сердце болит, когда язык нищает. Я-то надеялся, что потомки будут знать все на ять…
– На ять? – не понял Миша. – Это как?
– Есть такой старый оборот, – объяснил старик. – «Знать на ять» означает знать дело досконально, в совершенстве. Когда-то давно была буква «ять», которую школьники никак не могли запомнить. Кто знал орфографию настолько хорошо, что мог ставить яти без единой ошибки, про того так и говорили – знает предмет на ять.
– Ух ты, – удивился Миша. – Так вот откуда это… Мы в классе думали, что «на ять» – это просто звук какой-то смешной.
Призрак Даля усмехнулся в бороду.
– Видишь, ты уже узнал нечто новое. А впереди ждет гораздо больше. Итак, готов ли ты отправиться со мной в путешествие по страницам словаря?
Миша огляделся. Чердак выглядел по-прежнему, лампочка мирно освещала пыльные углы, скрипел пол под его ногами. Только вот напротив стоял настоящий оживший дух из XIX века и звал в приключение. Разве от такого откажешься?
– Конечно, готов! – выпалил мальчик, чувствуя, как внутри вскипает азарт. Такое летом точно ни с кем из друзей не случалось.
– Хвала небесам, – с улыбкой произнес старик. – Не будем мешкать. Путь наш далек, а страниц много. Держись покрепче!
Не успел Миша спросить, за что держаться, как Дух Словаря раскрыл свою книгу и быстро пролистал десяток страниц. Он начал вслух быстро читать какие-то слова, похожие на заклинания.
– Аз, буки, веди… – звучало надрывно. – Сей, оный, к тому же, дондеже…
Вокруг них поднялся вихрь из слов и пылинок. Чердачные стены задрожали и растаяли, словно мираж. Комнату заполнил яркий белый свет. Миша зажмурился, крепко сжимая свою находку – дедов словарь – как спасательный круг. Ему показалось, что пол уходит из-под ног и он куда-то проваливается вместе с вихрем букв и слов…
Когда он решился открыть глаза, они с Далем уже стояли посреди совершенно иного места.
Глава 2. Перси, уста и гордая выя
Миша огляделся. Они стояли в тенистом парке перед старинным особняком. Липовые аллеи, ухоженные клумбы – все дышало дореволюционной эпохой. На мраморной скамье у фонтана он увидел молодую барышню в пышном светло-голубом платье, а рядом с ней – бледного худого юношу с романтическим локоном на лбу. Юноша что-то читал девушке из томика стихов, сильно жестикулируя свободной рукой.
– Где это мы? – шепотом спросил Миша у Даля.
– Похоже на усадьбу конца XIX века, – отозвался старик, тоже вполголоса. – Сейчас услышим, как в те времена изъяснялись о телесной красоте. Это прекрасный повод узнать некоторые старинные слова.
Миша насторожился. Юноша декламировал вдохновенно:
– "О, позвольте склонить пред вами выю гордую, – произнес он, обращаясь к девушке. – Взирая на ваши очи чарующие, на ланиты румяные, на уста сладкие, готов воспевать я вашу красоту бесконечно!"
Миша удивленно уставился на незнакомца. Тот явно говорил по-русски, но некоторые слова звучали совершенно непонятно. Девушка же смущенно хихикнула, прикрыв лицо веером.
– Что он сейчас сказал? – прошептал Миша Далю. – Какие еще выи, ланиты… Он что, ругается?
Призрак тихонько усмехнулся:
– Отнюдь, он осыпает даму комплиментами. Например, слово "выя" означает шею, загривок. Попросту говоря, он склонил перед ней гордую шею. Красиво, правда?
– Хмм… необычно, – протянул Миша, наблюдая, как барышня заливисто смеется.
Юноша, окрыленный ее реакцией, продолжил еще более патетически:
– "Очи ваши, словно две бездонные бездны" – тут он прижал руку к сердцу, – "а ланиты нежны и пылают ясным светом зари. Уста ваши подобны розе в росе утренней!"
Миша наконец понял пару слов.
– А, очи – это глаза, я такое где-то слышал! И уста – это губы или рот, да?
– Верно, – кивнул Даль. – "Очи" – поэтическое название глаз. Помнишь песню "Очи чёрные"? А "уста" – губы. Юноша вот сравнил их с розой.
– Странно звучит: уста… – Миша попробовал повторить шепотом. – Мы сейчас так не говорим.
– Ну да, в наше время сказали бы просто "губы" или "рот", – согласился старик. – Такие слова теперь редкость. Разве что в стихах или сказках можно услышать.
Девушка покраснела от комплиментов. Юноша же, воодушевившись, встал на одно колено перед ней.
– "Ваши перси – точно белоснежный лебедь…" – начал он было пафосно.
Но тут барышня ойкнула и захлопнула веер прямо ему по носу:
– Что-что вы сказали, сударь? Какая пошлость! – Она вспыхнула и вскочила со скамьи.
Юноша опешил:
– Простите… я имел в виду – э-э… грудь, то есть бюст, то есть… – залепетал он, хватаясь за ушибленный нос.
– Ах вы, похабник! – строго раздалось позади.
Миша увидел, что к парочке стремительно подходит солидный господин в цилиндре – видимо, отец девушки.
– То есть нет, я не похабник! – взвизнул несчастный поклонник, вскакивая. – Я всего лишь хотел воспеть ее красу! В старинных стихах так принято, право!
Но разгневанный отец не слушал. Он уже поднял тяжелую трость, готовясь проучить наглеца, покусившегося на честь дочери.
– Пожалуй, нам пора, – вполголоса сказал Даль, потянув Мишу за руку в сторону от тропинки.
– Что происходит? – зашептал Миша, пятясь следом за призраком. – Что такого ужасного он сказал?
– Ха-ха, видишь ли, слово "перси" хоть и означало просто "женскую грудь", но уж очень оно смелое в обращении к незамужней барышне. Старшее поколение сочло это похабным, непристойным намеком.
Миша еще раз посмотрел на взбешенного папашу, гоняющего бедного поэта вокруг фонтана, и присвистнул:
– Да, парню не повезло… Слово выучил, а когда использовать – не подумал.
– Это уж точно, – усмехнулся Даль. – Что ж, нам пора дальше. Мы уже узнали несколько хороших слов: выя, ланиты, очи, уста, перси. Но впереди ждет еще много нового.
Старик вновь поднял книгу и легонько коснулся страницы. Картина старинного парка начала меркнуть.
– Подождите, а как же остальные части тела? – спохватился Миша. – Вдруг пригодится… Например, руки, ноги – у них тоже были какие-то особые названия?
– Конечности как таковые назывались похоже на современные – рука, нога, – ответил Даль. – Но были интересные слова для конкретных рук. "Десница" – это правая рука, а "шуйца" – левая. В старину правая считалась благой, правильной – недаром ею крестятся. Левая – наоборот, от слова "шуй" – значит "неправый, неумелый". Отсюда, кстати, слово "шулер" – плут, жульничающий левой рукой.
– Вот оно как! – Миша помотал головой. – А плечи?
– Плечо называли "рамо", а во множественном числе – "рамена". В былинах витязей часто описывали, какими широкими раменами они обладают.
– Рамена… – повторил Миша. – Слушается непривычно, но здорово.
– Еще, например, вместо слова "палец" часто говорили "перст". Отсюда перстень – кольцо на палец.
– Перстень – знаю, – кивнул Миша. – А десницу мы тоже в истории проходили – десница божья, значит символ силы. Теперь ясно.
Вокруг все окончательно поблекло, словно акварельный рисунок, размытый дождем. Только голос Даля звучал четко:
– Ты хорошо схватываешь. Но чтобы все запомнить, нужно потренироваться.
В руках призрака появился пожелтевший листок. На нем каллиграфическим почерком было написано несколько фраз с пропусками:
Упражнения
Склонил он гордую ___ перед царём. (шею)
Алые ___ её залились румянцем. (щёки)
В темноте ___ не видать. (глаз)
Улыбнись же, разомкни свои ___. (губы)
Правою ___ он перекрестился. (рукой)
Миша принял листок и вслух прочитал первое предложение:
– "Склонил он гордую…" – э-э, как там было? Выю! Правильно: склонил он гордую выю перед царём.
– Верно, – улыбнулся Даль. – А дальше?
– "Алые… ланиты её залились румянцем". Ланиты – это щёки.
– Совершенно точно. Третье: "В темноте… не видать". Наверное, "ни зги"… Хотя "зга" – это вроде вообще не то…
– Постой, постой, – старик приподнял брови. – Не забегай вперёд, "ни зги не видно" разберём позже. Тут-то явно про глаза: в темноте очей не видать. "Очи" – множественное от "око".
– Ах да, очи не видать! – хлопнул себя по лбу Миша. – Четвертое: "улыбнись же, разомкни свои… уста". Это легко.
– Уста, верно. И наконец пятое: "Правою… он перекрестился". Вы говорили – десницей называют правую руку.
– Правильно. А левая тогда, помнишь?
– Шуйца, – уверенно ответил Миша.
Листок с упражнениями вспыхнул и растворился в воздухе. Словно кто-то невидимый поставил галочку: задание выполнено.
– Отлично справился, – подвёл итог Даль. – Продолжим наше путешествие!
Глава 3. Вежа и невежа: урок хороших манер
Следующее мгновение они оказались посреди шумного деревенского двора. Со всех сторон слышались смех, разговоры, гармонь наигрывала веселый мотив. Вокруг длинного стола под открытым небом толпился народ – шла свадьба.
– Вот это антураж! – удивился Миша, оглядевшись. Кругом гуляли люди в русских народных костюмах: женщины в ярких сарафанах и кокошниках (как на картинках из учебника истории), мужчины – в косоворотках и сапогах. Молодые – жених и невеста – сидели во главе стола.
– Самое подходящее место поговорить о родстве, обрядах и старых обращениях, – улыбнулся Даль. – Давай посмотрим поближе.
Они приблизились к столу. Никто не обращал на странную парочку внимания – похоже, в этом мире их воспринимали как своих. Мише это было на руку: можно смело ходить и рассматривать все.
За столом тем временем поднялся на ноги седобородый староста – видимо, главный на празднике. Он поднял деревянную чарку и провозгласил:
– Люди добрые! Сей денечек – радостный и знатный: наш Иван да Марья теперь – законные супруги, навеки соединены в супружестве! Пожелаем же им совета да любви!
– Совета да любви! – дружно повторили гости и залпом выпили.
– В супружестве – значит, в браке, – шепнул Даль Мише. – Ты слышал, как староста сказал "сей денечек"? "Сей" – это старое слово для "этот".
– Ага, как "сей час" – прямо сейчас, – догадался Миша.
– Верно, – кивнул старик. – А слово "супружество" ты и сам знаешь, но ведь редко задумываешься, откуда оно. Происходит от "упряжь" – ведь муж и жена как два вола в одной упряжке, трудятся вместе.
– Ха, забавно, – усмехнулся Миша, – жену волом назвали.
– Образно, – улыбнулся Даль. – Партнеры, запряжённые вместе. Сейчас об этом смысле уже не думают.
За столом началось веселье: гости закусывали, громко разговаривали. Несколько ребятишек лет пяти-шести бегали вокруг, проказничая. Одна бойкая старушка в платке пыталась их поймать:
– Эй, чада бесёнковы! Постойте, постойте, сейчас бабушка вас обнимет! – Она наконец подхватила самого маленького мальчика и расцеловала, совсем замарав его нос губной помадой. – Ох ты, радость моя! – лепетала она, явно обожая детей.
– Настоящий чадолюбец, – одобрительно заметил Даль, любуясь сценой.
– Чадо… любец? – переспросил Миша.
– Чадо – это дитя, ребенок. А чадолюбец – тот, кто любит детей. Так раньше могли назвать, скажем, сердобольного дедушку или любого, кто очень добр к малышам.
– Вон оно что, – кивнул Миша. – Прикольно звучит.
За их спинами раздался вдруг пьяноватый голос:
– А ну, посторонись, не видишь – старший идет!
Миша обернулся: позади стоял высокий плечистый мужчина лет сорока, навеселе. Он явно собирался пройти к столу, а наши герои загородили ему тропинку.
– Простите, – быстро сказал Миша и уступил дорогу.
Мужчина смерил его недовольным взглядом:
– Совсем молодежь невежливая пошла, лезут под ноги. Невежа!
Миша смутился: вроде же извинился… Он хотел что-то ответить обидчику, но тот уже прошествовал мимо.
– Эй, что за хам, – пробормотал мальчик. – Сам едва на ногах стоит, а я у него невежа!
Даль положил руку Мише на плечо:
– Не обращай внимания. Хотя ты верно отметил: мужлан повел себя невежливо. Слово "невежа", которым он тебя назвал, как раз означает "невоспитанный человек, грубиян".
– Вот именно, – проворчал Миша. – А я ведь вежливо сказал "простите".
– Ты все сделал правильно, – успокоил его старик. – Просто некоторые, выпив лишнего, сами делаются невежами. Кстати, интересный факт: изначально "невежа" значило просто "неуч", человек без знаний. То есть почти как "невежда".
– Невежа и невежда – это разные слова? – удивился Миша.
– Сейчас – да. "Невежда" – это тот, кто ничего не знает, необразованный. А "невежа" – тот, кто невоспитан, ведет себя плохо. А вот изначально значение у них было почти одинаковым – просто человек без знаний. Со временем "невежа" приобрел значение грубияна, а "невежда" осталось для несведущего в науках.
– То есть тот дядька – и невежа, и невежда, раз не знает разницы, – хихикнул Миша.
Даль подмигнул ему:
– Может быть. А вот смотри, сейчас кое-что занятное будет.
Он показал на середину двора, где жених с невестой встали из-за стола. Их окружили дружки и подружки. Начинался свадебный обряд: похоже, собирались снимать фату. Однако тут вмешался все тот же нетрезвый гость – он крикнул:
– Эй, погодите, у меня слово! – и, покачнувшись, полез в карман за бумажкой. Глаза его разбегались, но он явно напустил на себя важность. – Я… я вот тут… сказать хочу…
Все обернулись в его сторону. Староста неодобрительно нахмурился:
– Федул, ты чего расшумелся? Дай церемонию провести как надо.
Но Федул – очевидно, имя этого гостя – упрямо развернул помятую бумагу.
– Сейчас, я быстро… – Он прочистил горло и начал громогласно читать, запинаясь на каждом слове: – "В сем… в сем селе Привольном… в лето сие… или в год сей… обручаются, значица, раб божий Иван Петров сын, оный жених, с Мариею, он… она же, значица, невеста законная… да будут в супружестве и…" – тут он совсем сбился. – "И пребудут с ними радость и счастье во веки веков, аминь!" – закончил он коряво и махнул рукой.
Гости захохотали и зааплодировали, радуясь такому развлечению. Видно было, что Федул хотел произвести впечатление умными, торжественными словами, да в грамоте не силен – вот и смешно вышло.
Даль тихо пояснил Мише: – "Вежа" – значит человек сведущий, знающий. Федул хотел показаться умником.
– Хотел казаться вежею, а вышло невежда, – усмехнулся Даль.
– Он такие странные слова читал… "в лето сие", "оный жених"… – Миша покрутил пальцем у виска. – Никто же так не говорит!
– А вот раньше говорили, – заметил старик. – Федул, можно сказать, пытался воспроизвести стиль старинных записей. "В лето сие" – значит "в этом году". Слово "лето" раньше значило "год". А "оный" – это указательное слово "тот самый". Например: жених – оный, невеста – оная.
– Понятно. Он, видать, выписал откуда-то шаблон и сам не все понял, – хмыкнул Миша.
Вокруг тем временем начали водить хоровод и петь. Невесте сняли фату и надели платок – обряд завершился под всеобщее ликование.
Даль положил руку на плечо мальчика:
– Ну что ж, продолжим путь. Здесь мы тоже узнали много: и о том, кто такой чадолюбец, и чем отличается невежда от невежи, и даже услышали старое "оный" вживую.
– Да, было познавательно, – согласился Миша. – А куда дальше?
Старик лишь многозначительно приподнял брови и раскрыл свой словарь. Строчки на страницах вновь засветились мягким светом.
Упражнения
Как одним словом назвать человека, который очень любит детей? ___
Кто невежа: грубый невоспитанный человек или просто неуч?
Какое слово использовалось в старину вместо "тот, та, то" (например: тот человек)? ___
Закончите пословицу: "Не нужен и клад, коли в семье ___ и лад". (Совет: речь о согласии и мире в семье.)
Миша ощутил под ногами легкую дрожь – картинка деревни замерцала, будто сигнал на старом телевизоре. Но голос Даля был слышен отчетливо:
– Первый вопрос: любителя детей называли…
– Чадолюбец, – уверенно ответил Миша. – Я уж точно запомнил эту бабулю!
– Правильно. Второе: невежа – это хам, грубиян. А невежда – просто незнайка.
– Точно. Третье: слово "оный" значит "тот самый". Им раньше заменяли "тот" в официальных бумагах.
– Верно. И пословица: "Не нужен и клад, коли в семье совет и лад". Тут хоть слово и не из нашего списка, зато смысл хороший.
– "Совет и лад" – значит взаимопонимание, – добавил Миша. – Помню, нам бабушка так говорила.
– Отлично, – похвалил старик, и опять вокруг засверкали белые искры, смывая веселую свадьбу.
Глава 4. Аспидовы нравы и любостяжание
Глаза Миши снова привыкали к новой обстановке. Теперь они с Далем оказались внутри богатого господского дома. Повсюду – дорогая мебель, ковры, на стенах – картины и охотничьи трофеи. В высоких окнах сиял солнечный день.
По залу сновали слуги: кто-то нес серебряный поднос с графином, кто-то вытирал пыль с резного буфета.
– Барин приедет с минуты на минуту! – раздавался резкий голос. – Челядь, живее! Чтобы все было готово, слышите!
Миша обернулся на звук. У массивного стола стоял низенький дородный мужчина лет пятидесяти в богатом камзоле и раздавал указания. Лицо его было красное и сердитое.
– Верно, приказчик тут за главного, – тихо пояснил Даль. – Или управляющий, как сейчас сказали бы. Всей челядью командует.
– Челядью? – спросил шепотом Миша.
– Челядь – так называли дворовых слуг, прислугу в богатом доме. Видишь, сколько их бегает? Все – чья-то челядь, – ответил старик.
Мужчина в камзоле продолжал раздавать распоряжения:
– Петрушка! Где Петрушка, окаянный мальчишка? – рявкнул он. Из соседней двери выглянул испуганный мальчик лет двенадцати, видимо, слуга на побегушках.
– Здесь я, Филимон Тимофеич… – пролепетал мальчуган.
– Я все глаза проглядел, наветь бы воды стакан принёс, бездельник! – прикрикнул приказчик. – Живо беги к колодцу, да принеси барину студёной!
– Сейчас, сейчас! – Петрушка сорвался с места и выбежал во двор так быстро, что только пятки засверкали.
Миша нахмурился:
– Грубый какой… Бедный парень.
Даль тоже выглядел недовольным:
– И правда. Приказчик ведёт себя как аспид.
– Аспид? – переспросил Миша. – В смысле змея?
– Точно. Аспид – это ядовитая змея, гадюка. Так прозвали чересчур злых и коварных людей.
– Вполне подходит, – кивнул мальчик, наблюдая, как управляющий негодует, глядя вслед Петрушке. – Сейчас как укусит кого-нибудь!
Тот самый Филимон Тимофеич тем временем подошёл к огромному буфету, отпер дверцу ключом и достал оттуда тяжёлый холщовый мешочек. Миша услышал характерный звон.
– Там деньги? – догадался он.
– Похоже на то, – подтвердил Даль.
Приказчик быстро пересчитал содержимое мешочка – судя по звуку, это была горсть монет – и довольно хмыкнул, пряча его в карман камзола. Затем оглянулся – не видел ли кто.
Миша прижался вместе с Далем к стене за массивным шкафом. Судя по всему, управляющий совершал что-то недоброе.
– Украл! – горячо зашептал мальчик. – Он же украл деньги!
– Выходит, барин об этом не знает, – вполголоса ответил старик. – Вот тебе и любостяжание во всей красе.
– Любостя… что? – не расслышал Миша.
– Любостяжание – жадность, страсть к наживе. От слова "стяжать" – копить, наживать имущество. Видишь, как он денежки загребает? Ясно, сребролюбец.
– Сребролюбец? – снова не понял мальчик.
– Ну, тот, кто "сребро" любит – деньги, – пояснил Даль. – Синоним любостяжателя, по сути. Старые слова оба, ныне почти не услышишь.
