Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах
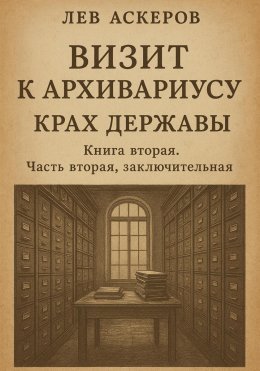
ЛЕВ АСКЕРОВ
ВИЗИТ К АРХИВАРИУСУ
(Исторический роман в двух книгах)
КРАХ ДЕРЖАВЫ
(Книга вторая. Часть вторая.)
Тьма, пришедшая от Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город… Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете. Всё пожрала тьма, напугавшая всё живое в Ершалаиме и его окрестностях.
М.Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Глава одиннадцатая
ПРЕМИЯ ИУДЕ
Мальтийский сговор. Оплеуха. Последняя командировка. Печальная весть.
1
Уэбстера убрали без особого скандала. Все решилось в кругу домашнем – в Белом доме.
При всей своей амбициозности, он не стал перечить Рейгану, объявившему ему об отставке. После провальных разведывательных операций в Персидском заливе, измены Бена Ладена и зубодробительных заявлений сената по поводу его недееспособности – крыть было нечем.
Стюарту стало легче. Больше никто с операцией «Реквием» ему не мешал.
Новый шеф Роберт Гейтс, проработавший в их же епархии пару десятков лет и, быстро разобравшись, что к чему, не мог не по достоинству оценить того, что Билли сделал за это время. Хотя в ЦРУ Боб вертелся не пятым колесом в дилижансе, тем не менее, о «Реквиеме» он услышал только в день своего назначения. И не от Стюарта, а от самого президента. Это он, с глазу на глаз. посоветовал ему подключиться к Биллу.
– Более важного дела, чем «Реквием», – отрешённо, глядя перед собой, произнёс Рейган, – для меня в твоем ведомстве нет. Кстати, ты слышал о нем?
– Первый раз слышу.
Рейган знал: новый шеф ЦРУ не врет. И то, что он не в теме, ему понравилось. Значит, у Стюарта все без протечки.
– Билли молодец, – похвалил президент, – он даже провалы Уэбстера обернул в пользу нашей операции.
Гейтс вопрошающе посмотрел на Рейгана.
– Через дэзу сумел сделать так, что Советы бухнули в Персидский залив незапланированный ими довольно солидный транш.
– Вы имеете в виду…
– И вооружение и мани-мани, – откинувшись на спинку кресла, засмеялся президент. – Ради господства в мире они бухают вне всяких планов громадные средства.
– И они нас обыграли, – вставил Гейтс.
– То тактическая победа, но отнюдь не стратегическая. Обрати внимание, Боб, все их победы, в конечном счете, оборачиваются в нашу пользу. Внешне выглядит так, что они в выигрыше, а в реальности… – Рейган качает головой. – На деле же те страны, в которые они вкладывают громадные средства на борьбу с нами, затем становятся нашими союзниками. Потому что насаждаемая там Советами политика губила их экономику. Они начинали нищать… Вместе с тем, обескровливаются и коммунисты. В Персидском заливе они сожгли деньги, необходимые им для внутренних проблем и, как правильно подметил Билли, в пользу нашего «Реквиема».
– Один Афганистан им что стоил! – напоминает Гейтс
Расплывшись в улыбке, Рейган развел руками, мол, о чем речь.
Этот неулыбчивый, с каменным лицом человек, сидящий перед ним, знал что говорит. Именно он, Гейтс, со своими людьми перекусил хребет вторгшемуся в пределы Афганистана русскому войску, называемому Москвой «ограниченным контингентом». Он, на пару с Беном Ладеном, устроил позорный исход Советов. Если начистоту он стал, не лучше того унижения, какое пережила Америка, когда ее побитая армия покидала Вьетнам.
Там, во Вьетнаме, Москва, стоявшая за узкоглазыми недомерками, сумела раздолбать их, а в Афганистане Вашингтон поквитался. Причем с лихвой, без особых потерь и трат. И понятно почему. Дело там делали не солдафоны-начальники и не коммандос зеленых беретов, а всего лишь сотня агентов разведки, под командованием двух людей – Гейтса и его резидента, арабского миллиардера, Бена Ладена. Благодаря им все вожди пуштунских племен и даже узбеков, на которых Москва делала ставку, взяли сторону американцев. Они устроили им такую партизанскую баньку, что уже через полгода Кремль стал подумывать, как уволочь оттуда свои задницы, чтобы сохранить лицо. Их азиатчине афганцы противопоставили свою – рафинированную, первобытную. У Рейгана волосы становились дыбом, когда он читал приходящие из театра военных действий отчеты. Хотя как таковых действий, в их классическом понимании, то есть решающих, масштабных сражений, там, по существу, не происходило. Шли, так сказать, бои местного значения, засады, ночные набеги…
Нэнси, взявшая почитать один из афганских отчетов, несколько ночей не могла сомкнуть глаз. Ее мучили жуткие кошмары. Пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта. Потом врач, в удобоваримых формах, выговаривал Рейгану:
– Сэр, что может вынести мужская психика, то может быть невыносимым для женской.
– Моя Нэнси сильная, док.
– Когда люди говорят о женщине «сильная», они имеют в виду характер. Но характер и психика – вещи разные. Психика – мать характера…
– Она у меня феномен природы.
– Феномен… – лицо врача тронула ироническая усмешка, и он едва не ляпнул: «Феномен – это отклонение от нормы. Грань шизофрении». Другому не постеснялся бы и вмазал. Тут же случай особый – президент США и первая леди. Подумать можно о чем угодно и как угодно, а вот озвучить то, о чем подумал, не всегда можно. И док быстро нашелся, чем оправдать свою неуместную усмешку.
– Сэр, – сказал он, – характер и склад ума входят в структуру психики. Женщина может обладать выдающимся характером и необыкновенным складом ума. Как наша первая леди. Но она – женщина. Дочь, мать, жена… В этом ее сила и фатальная слабость… От такого, что она вычитала, даже моя психика запаниковала. А я, как вы понимаете, профессионал, обладающий определенным арсеналом защиты психики от самых неожиданных атак…
– Ну, хватит, док! – раздраженно обрывает его Рейган.
Он злится не на врача, а на себя. Ему нельзя было позволять Нэнси читать те злосчастные бумаги, приложенные к очередному отчету об афганской кампании. А как он мог отказать ей? Она была в курсе всего. Она имела право, как соавтор разработанного им с Кейси изощрённейшего плана, значащегося в секретной службе страны под кодовым названием «Реквием». Причем доминирующим соавтором.
В первый же «а-ля фуршет», устроенный Рейганами для родственников и друзей в честь его избрания, она, перед их приходом, поправляя на нем, скошенную на бок бабочку, сказала:
– Стать президентом, Рони, – полдела.
– А с другой половиной дела, дорогая, надеюсь, мы с тобой справимся.
– Оно, милый, должно быть таким, которое могло бы увековечить тебя в истории.
– Я уже в ней. Спросят: «Кто был сороковым президентом Америки?» И потомки ответят: «Рональд Уилсон Рейган!»
– Это статистика. Портрет в веренице предыдущих и последующих президентов… И все! – справившись с бабочкой, усмехается она. – И еще, – ласково оглаживая его фрак, продолжала Нэнси, они спросят: «А что он такого замечательного сделал?»
– Снизил налоги, поднял экономику, страна благоденствовала…
– Милый! – останавливает она, глядя на него как учительница на школяра, зазубрившего урок, но не понимающего его сути. – Почти все, кто был до тебя, плохо или хорошо делали это. А вот когда произносят:«Джордж Вашингтон», – тут же, помимо того, что он Первый, еще, как синоним к его имени, добавляют: «Независимость страны»… Авраам Линкольн, хотя и 16-й по счету, но с ним связана отмена рабства… 32-й Франклин Рузвельт – победоносная война над Гитлером… Гарри Трумэн – холодная война… Они вошли в историю прогремевшими на всю планету теми или иными громкими делами, делавшими историю…
– Что ты хочешь сказать, Нэнси?
– В одном из своих предвыборных выступлений ты хорошо сказал: «СССР – империя зла». Блестящий экспромт! Твоими устами в тот миг говорил сам Господь…
Нэнси тут немного и очень по-женски слукавила. Эту мысль, приблизительно теми же словами, она высказала ему в тот день, когда стало известно, что Рональд стал одним из двух кандидатов, реально претендующих на пост президента страны. Он был в состоянии эйфории. Впереди маячила победа. Пусть еще призрачная, зато воодушевляющая. Из десятка претендентов в лидерах двое. И он, Рональд Рейган, один из них.
Один из двоих – не единственный. Соперник был не из простых. За ним стояла сила. Он располагал хорошими средствами. Но за ним тянулась одна червоточинка в репутации. Средства массовой информации обсасывали ее и так и эдак. И вдоль и поперек. Тем не менее, могло перетянуть первое. Оно существеннее… Тем более и его журналисты не обходили соперника своими злыми перьями. Вышли на первую жену, воспитывавшую его сына. Вышли и ушли с носом. Кроме комплиментов в его адрес ничего дурного о нем они не услышали.
Пытаясь из первой благоверной вытянуть что-нибудь с запашком, дотошный корреспондент «Вашингтон пост» упрямо талдычил: «Почему же вы расстались?»
«Мы были молоды, – сказала она. – Мне хотелось больше внимания. А он – трудоголик. Для него важнее всего дела. Без них он загибался»…
Умная женщина. Не стала вымазывать его, хотя между ними бывало всякое. Рональд обижал ее. Чуть ли не в открытую крутил с не дающими ему прохода поклонницами. Ночи напролет кутил с друзьями. Ну, кто, спрашивается, по молодости не грешил?… А он еще красавец, популярный артист…
Писаки пытались ухватиться и за это. Не обрыбилось. Они так и норовили ткнуть людям в глаза, мол, человеку легкомысленной профессии доверить президентство – дело несерьезное. Прямые вопросы и намеки на его актерское прошлое приводили Рональда в ярость. Но, как учила его Нэнси, он не избегал их, а, скрывая гнев за добродушно-снисходительной улыбкой, старался отвечать на них с юмором. Пожалуй, он единственный раз не пожалел, когда ему задали такой вопрос. Это было на чаепитии с отцами города Бостона. Оказавшийся на нем репортер «Нью-Йорк таймс» подошел к нему, когда Рональд стоял в тесном окружении хозяев города.
– Мистер Рейган, вам доводилось играть роль президента на съемочных площадках, а не сложно ли вам будет сыграть ее, став президентом?
Рональд, лучезарно улыбаясь, сказал:
– Если я, вдруг, стану президентом, я сделаю все, чтобы сыграть ее так, как достойно президента великой страны. Во всяком случае, лучше, чем на экране.
– В таком случае я вот что вам скажу: мистер Рейган, вы станете президентом.
Все рядом стоявшие зааплодировали. От столь неожиданного предсказания Рональд, аж, растерялся.
– Спасибо, – мастерски смутившись, поблагодарил он.
Предсказание журналиста окрылило претендента. И уже в номере гостиницы, где остановилась чета Рейганов, он, с тайным намерением снова пережить тот приятный момент, спросил жену:
– Нэнси, ты слышала, как тот паренек из «Нью-Йорк таймс» сказал: «Мистер Рейган, вы станете президентом»!.. Репортер, а славный парень!
– Всё слышала и видела, – с явным намерением сбить с него флер мальчишеского восторга, бесцветно проговорила Нэнси. – Рони, он не оракул. Сказал, сделал тебе приятное, и ладно.
– Чем ты недовольна? – зная хорошо жену, насторожился он.
– В твоих встречах с избирателями, в том числе, и в этой, с бостонцами, я заметила, что в речах своих ты вроде избегаешь проблем внешней политики. Они у тебя размыты. Не имеют четкости, позиции, целенаправленности.
– Людей интересует внутренняя жизнь. Их благосостояние.
– Ошибаешься. Благосостояние – хорошо, очень хорошо. Но, какое оно может быть без благополучия? То есть его защиты извне?
– Что ты имеешь в виду?
– Рони, помни и ни на секунду не забывай: ты замахнулся на то, чтобы быть президентом страны, а не губернатором штата… Хозяин Белого дома, глядя в окно, видит не улочку со сквером, а мир и свою страну в нем. Люди хотят видеть Америку первой страной мира. На подсознательном уровне каждый американец понимает: если его страна лидер – значит их президент лучший из всех. Американцы хотят этого. И очень не хотят с боязнью оглядываться на тщедушного, голодного монстра с атомными зубами, который с алчной плотоядностью посматривает на них. Я имею в виду царство рафинированного зла. Зоологически ненавидящий нас Советский Союз. Его, как Карфаген, надо разрушить. И я, американка, от своего будущего президента хотела бы услышать, что мы будем обладать мощной армией с не имеющим аналогов вооружением и что хитроумной своей дипломатией покончим с исчадием ада – коммунистическим царством зла… Ты этим выстрелишь сразу по нескольким вальдшнепам. Оно понравится массе обывателей, а главное – монополиям, производящим оружие, и интеллектуальному срезу общества, определяющему потенцию развития страны…
Нэнси излагала свою точку зрения, избегая обидного критического тона. Без намека на менторство. Словно рассуждала вслух, сама для себя. Он, казалось, ее не слушал и находился под гипнозом тех медоточивых слов репортера, произнесенных им на чаепитии. Но она слишком хорошо знала своего мужа. Он слушает ее, а главное – слышит. И для многочисленных советников, приставленных к нему, бывало всегда неожиданным, когда он отступал от написанных ими текстов и высказывал мысли, не стыкующиеся с их задумками. Правда, потом они признавали их приоритет. Но то потом. После того, как резонанс от них имел большую эффективность, чем та, на которую они рассчитывали.
Им долгое время было невдомек, что многое из этого шло от держащегося в тени советника – Нэнси. Наверное, они не догадывались об этом, потому что она была все время на виду и не вмешивалась в их дебаты. Стоя возле мужа, светло и радостно улыбалась и позволяла себе говорить только в случаях, когда к ней обращались. Но она зорко следила за всем. Все подмечала. Не упускала ни одной реплики, наводишие ее на точно выверенные тактические шаги. Разумеется, не свои, а мужа.
И если обстоятельства требовали того, она, обаятельно улыбаясь, показывала острые, жалящие зубки. Ей хорошо помнилось, как один из советников, известный в Республиканской партии под прозвищем «мозговой лис», возмутился и пенял Рональду на то, что тот назвал СССР империей зла.
– Вы пока не президент, чтобы позволять себе бряцать оружием…
Мило улыбаясь «мозговому лису», Нэнси, не без морозца в голосе, заметила:
– Сэр, на мой взгляд, позицию кандидата в президенты только недруги страны могут отнести к агрессивности его намерений. Позиция – это не угроза, а озвученное гражданином понимание ситуации с точки зрения национальных интересов… И, если хотите, это утверждение высокого достоинства народа Америки, демонстрирующего свою приверженность к идеям мира, человеколюбия и демократии…
«Мозговой лис» смешался и, что-то пробормотав о демагогии, отошел в сторону, всем своим видом показывая, что не хочет связываться с ничего смыслящейв большой политике, женщиной. В тот же вечер политобозреватели национального телевидения и радио показывали и вещали свои блиц-интервью, взятые у простых американцев, называвших Рейгана «своим парнем», настоящим патриотом, радетелем безопасности народа… И почти каждый из опрошенных отмечал его очень образную и точную характеристику Советскому Союзу. Уже на следующий день фраза «империя зла» стала крылатой. Страну коммунистов так теперь все и называли. Рейтинг Рейгана взлетел сразу на порядок.
«Мозговой лис» был посрамлен. А команде советников только тогда и стало понятным, кто в действительности ходит у шефа в главных наставниках.
Расчет Нэнси был точен и бил, как говорится, в десятку. За валом позитивных публикаций стоял богатейший денежный мешок Америки – военная монополия.
… И вот все позади. Рональд Рейган – президент. И он с Нэнси на своем ранчо, по этому случаю, для родичей и друзей устраивают а-ля фуршет.
Гостей еще нет. Они одни. Нэнси еще раз придирчиво осматривает его.
– Ты, Рони, теперь всегда должен выглядеть безукоризненно. Быть бодрым, светиться изнутри… Ты – лицо нации… Ну-ка, подними руки, – командует она. – Опусти. Под мышками не жмет?
– Хватит, Нэнси, – останавливает он жену. – Не уводи разговора.
– Какого разговора, Рони?
– Не прикидывайся. Не ты ли сейчас задвигала мне об истории?..
– А-а-а, – припоминает она, – ты вот о чем?.. Тогда присядем на минутку.
Она усаживает его в кресло и садится напротив.
– То, что я хочу сказать, очень серьезно, – в ее улыбчивых глазах сверкнули острые искры наледи. – Я тебе, дорогой, «задвигала не об истории», – ядовито надавив на эти его слова, продолжала она, – а о том, как остаться в истории. Так вот, для того, чтобы в ней остаться, надо делать ее. Судьба тебе дала такой шанс. И предоставила очень удобный момент для этого. У тебя реальные рычаги, широкие возможности – деньги, армия, разведка.
– Суть! Нэнси, суть! – потребовал он.
– Тебе нужна победоносная война.
То была не просто фраза, произнесенная хрупким, изящным существом женского рода, то был гром среди ясного неба. И не от звука грудного голоса этого существа, а от смысла сказанного ею у Рейгана раскрылся рот.
– Подними челюсть, Рони. Я не о кровопролитной бойне, которую следует развязать. Ни в коем случае! Я о той, которая идет… О той, что развязали без тебя много лет назад. Пришло время побеждать. Господь вывел тебя на это время.
– Холодная война, – уходя в себя, догадывается он.
– Она самая, милый. Сокрушишь ее, «империю зла», – и вечная память тебе… У них, судя по поступающим оттуда сведениям, большие проблемы. Народ ропщет. Лишь жесткий диктат держит его в узде…
– Теперь я буду знать обстановку из первых рук… Надо будет подстегнуть ЦРУ.
– Именно! – с воодушевлением поддерживает Нэнси. – Об ахиллесовой пяте Советов хорошо было известно Гитлеру. Он, когда шел на Москву, рассчитывал ударить по ней. Полагал, что Советский Союз заполыхает межнациональными конфликтами… Небеса, однако, были неблагосклонны к нему. Не дали ему того удобного момента, какой предоставляют тебе… Надо тебе сыграть на этом. Обескровливать экономически, стравливать, дать ход таким козырям, как демократия, свобода слова, права человека…
– Нужна полная картина того, что там происходит. Чтобы проанализировать, выявить наислабейшее и перспективное… Мне нужен свой человек в ЦРУ.
– Тебе везде нужны свои люди.
– Само собой, – согласился он.
В дверь постучали. Это был слуга.
– Гости! – просунув голову в комнату, сообщил он.
Рональд вел себя как обычно – шутил, смеялся, рассказывал и слушал анекдоты. Старался подойти к каждому и с каждым пообщаться так, как это принято было на их семейных и дружеских вечеринках. Чтобы – Боже упаси! – кто из них не смел подумать: Рони стал другим. И всем своим поведением он давал всем понять: «Ребята, я все тот же».
Может, кто и не заметил разницы между тем, недавним, бесшабашным и открытым в кругу близких ему людей, только не Нэнси. Занятая гостями, она, тем не менее, не выпускала его из виду. Он был весь в себе. Верней не в себе. Нэнси знала его как саму себя. Она знала причину. Он весь в их разговоре. Он задел его за живое и ему не терпелось действовать. И поэтому, когда Рони вдруг исчез, она нисколько не удивилась. Более того, не любившая врать Нэнси, чтобы прикрыть мужа и отвести от него обиду гостей, сказала, что кому-то из официальных лиц понадобилась его консультация и он вынужден был отлучиться.
– Теперь все, ребята, Рони ни нам, ни самому себе не принадлежит, – резонно заметил кто-то.
Гости отнеслись с пониманием к его внезапному исчезновению.
Едва успела закрыться дверь за последним из гостей, Нэнси подошла к телефону и набрала номер.
– Добрый вечер, Кейси. Как чувствуешь себя?.. Рони у тебя?
– Рони, она вычислила тебя, – крикнул он другу, а в телефон спросил:
– Подозвать?
– Не надо. Передай, что гости ушли и он может не торопиться… Пока. Больше не болей.
– Есть! – бодро откликнулся он и, пожелав ей доброй ночи, дал отбой.
2.
Нэнси была в курсе всего. Она прочитывала все отчеты, представляемые Рональду по афганским событиям. Она знала день и час, когда они поступали в канцелярию президента. Иной раз, с его позволения, конечно, Нэнси сама забирала их. Бывало это в тех случаях, когда он по макушку увязал в других проблемах. Потом она пересказывала ему самое главное и они обговаривали варианты действий…
Так у ней в руках оказался и тот Отчет с приложениями.
Рейгану и самому стало не по себе, когда он прочел тот самый, присовокупленный к Отчету, дневник советского солдата. Он так потряс Нэнси, что пришлось звать к ней психотерапевта.
И сейчас, сидя у себя в кабинете и дожидаясь врача, проводившего в их домашних покоях последний сеанс психотерапии, после которых, как он уверял, с нервами Нэнси будет все в порядке, Рейган снова стал перелистывать тот злополучный Отчет, ставший причиной психического срыва жены. Повернул одну страничку, другую и… незаметно для самого себя, вновь, с головой, окунулся в эти, имевшие гипнотическую силу записи…
Выдержки из дневника сержанта Советской Армии Мунира Аглиуллина и тексты, обнаруженных в нем писем от матери. (Переводчик, специалист высшей категории майор военной разведки Самарий Калиберда)
21 сентября 82 г. Ночью упал с полки. Наверное, резко дернулся с места паровоз. Упал удачно, на гору рюкзаков, сваленных в нашем купе такими же новобранцами, как и я. С нее скатился на нашего «покупателя» – капитана. Он был мертвецки пьян и даже не шелохнулся. Его напоили провожавшие меня мои однокурсники по вечернему политехническому институту. Водки было хоть залейся, а жратвы – две буханки хлеба, куча отварной картошки в мундире и кастрюля кислой капусты. Мой друг Васька Редин прибежал на вокзал позже всех, зато на чемодан, служивший нам столом, выложил деликатесы – консервированных бычков в томатном соусе, которых в Красноярске достать сейчас можно было по большому блату. Целых три баночки. Капитан, взяв консервы, сказал, что мы здесь богато живем и что у них, в Оренбурге, за бычки в томатном соусе могут пришить, не моргнув глазом. Он пил много, жадно, с удовольствием. От каждого стакана, что ребята вливали в себя, меня передергивало. Я на дух не переношу даже запах водки и ненавижу, когда курят. Купе было все в дыму. Опьяневший капитан клятвенно обещал моим друзьям определить всех нас в команду для школы сержантского состава. И во все горло, обнимая, поплывших от водяры моих однокашников, вдруг запел.
Как по речке, по реке, плыли две дощечки.
Эх, еп-твою-мать, плыли две дощечки!..
«Петь со мной!» – приказал он. И я с ребятами пел вместе с ним. Мы тянули первую строчку, а он, хлопая себя по ляжке, с вдохновенной отчаянностью выгаркивал вторую.
Мой полет с полки и русская народная песня в интерпретации капитана обещают хорошую службу. А мне было все равно.
Иссяме1, мой дорогой, единственный и бесценный мальчик!
Каждый день вижу тебя во сне. Сегодня видела большую реку. Вода в ней прозрачная-прозрачная. И ты в ней плаваешь. Я с полотенцем жду тебя на берегу, а течение уносит тебя далеко-далеко. Мне сказали, что сон очень хороший.
Слушайся командиров и, очень прошу, не водись с плохими ребятами. Они могут научить тебя курить и пить. Знаю, ты весь в папу. Он ненавидел водку и не переносил табачный дым.
Здесь у нас сплошная пьянь. Прямо ужас. И девчонки пьют.
Что тебе хочется, сынок? Что тебе послать? Если холодно, мы с Альфией свяжем тебе шерстяные носочки и варежки. Вчера испекла перемячи, и Альфия три перемяча отложила в сторону. Сказала, что она их отошлет своему любимому братику Мунирчику.
Как кормят там вас? Здесь с продовольственными продуктами напряженка. Но мы обходимся. Хорошо, ввели талоны на продукты. Теперь убегать с работы в очередь за маслом или мясными изделиями не приходится. На Новый год, как я тебе писала, нам выдали талоны на полкило конфет. Альфушка умяла их за милую душу. Учится она хорошо. Недавно получила тройку по математике, так я ее припугнула, что напишу тебе. Как она плакала, дурешка. К концу недели звонит мне на работу и радостно сообщает, что исправила тройку на пятерку.
Вчера в профсоюзном комитете мне пообещали, что где-то в мае или июне, как сдадут строящийся дом, нам, как семье погибшего на производстве кормильца, дадут квартиру.
Вот и все, мой любименький. Береги себя. Будь умницей.
Крепко-крепко и много-много раз целуем. Мама и Альфия.
5.01.83 год
9 января 83 г. На моих погонах две лычки. Я младший сержант. Теперь я также могу командовать и издеваться над рядовыми, то есть, «воспитывать» их, как «воспитывали» все три с половиной месяца меня. Весь выпуск разъехался уже по частям. В казарме нас осталось пятеро: лезгин из Баку Хазрат Рагимов, башкир из Салавата Ралиф Юсупов, казах из Акмолинска Раджап Артыков и туркмен из Небит-Дага Нияздурды Клычев.
Нас на место новой службы доставят самолетом. Куда – разглашать нельзя. Так приказал нам начальник особого отдела дивизии подполковник Бондарев. Нас к нему доставил замполит школы. «Давай своих чурок по одному» – приказал подполковник замполиту. На гражданке слово «чурка» меня оскорбило бы. Здесь же, когда подъем по команде «… твою мать!» и отбой под «… твою мать!», слово «чурка» не обижает.
«Ты умный парень, – сказал мне подполковник, – поэтому ходить вокруг да около не стану. Мы присмотрелись к тебе и решили направить на самый ответственный для Родины участок, в одно из элитных подразделений Ограниченного контингента Советских войск, выполняющего в Афганистане интернациональный долг. Наши воины, как ты знаешь, по просьбе твоих братьев мусульман освобождают их от баев, продавших свою страну американцам… И на твою долю, сержант, выпадает благородная миссия защитить интересы афганского народа»…
Я сразу понял, почему он назвал нас «чурками», и сказал, что у меня нет военного опыта. Подполковник взбесился. «Когда наши отцы и деды, – зашипел он, как змей, – шли на войну с немцами, у них тоже не было опыта. А ты – сержант Советской Армии! Тебя учили! Государство тратило деньги на тебя… Что написано в Уставе? Приказ – закон для подчиненных… Ты, после возвращения оттуда, как участник боевых действий, будешь пользоваться громадным уважением и большими государственными льготами. Захочешь квартиру – пожалуйста. Дачу – пожалуйста! Учиться в любом вузе – пожалуйста!.. Что тебе еще надо?!»
«Это приказ?» – спросил я у него. «Да! – ответил он. – Только с одной формальностью: вы должны на имя командира дивизии написать заявление. Я, такой-то такой, комсомолец и патриот великой нашей Родины, прошу направить меня добровольцем в действующую армию, выполняющую в Афганистане миссию интернационального долга»…
Подполковник дал лист бумаги с ручкой и стал диктовать.
Не знаю, как остальным, но этот умник-солдафон испортил мне радость от полученных лычек.
Мы пятеро «добровольцев» четвертый день в пустой казарме и ждем самолета на Кабул. Едим ржавую селедку, кирзовую кашу и постный борщ. Хочется сахара. Утром его дают полтора кусочка и столько же на ужин. Я еще иногда балую себя. Раз в неделю в военторге покупаю полкирпичика белого хлеба и бутылку ситро. Вкусно до головокружения. Ребятам приходится хуже. Их три рубля восемьдесят копеек уходят на «Аврору»2. Думали, что в Афгане нам будут платить больше. А новый начальник школы, который после полученного там ранения был назначен сюда, задавшему этот вопрос Артыкову показал пятерней между ног: «А ху-ху не хо-хо! Будете, как сержанты получать 10 рублей. Вы же солдаты срочной службы»…
Здравствуй, дорогой мой сыночек!
Считаю каждый день, когда ты вернешься. На календаре, у себя на работе, зачеркиваю числа.
Как тебе служится? На конверте твоего последнего письма странный адрес – г. Бузулук, п/я… Почему?
Ты смотри не завербуйся в Афганистан. Ты помнишь в соседней пятиэтажке Петю Новожилова? Тот, который пришел из Афганистана за полгод до того, как тебя забрали в армию. Он воевал в Афганистане. Вернулся с двумя орденами, зато без руки и без ноги. Он совсем спился и попрошайничает. Пенсия по инвалидности – кот наплакал. Продуктов достать не может. Пошел в военкомат, чтобы там ему помогли с талонами. А военком сказал ему, что не он посылал его в Афганистан и здесь у него не отдел социального обеспечения. Нахамил, оскорбил. Тогда Петька возьми и тресни его костылем. Хотел по голове, а попал по плечу. Так в милиции бедного калеку избили до полусмерти, а дело передали в суд. Осудили на три года. Сделали «поблажку» – не в тюрьму посадили, а отправили на вольное поселение. Когда его после десяти суток в кутузке отпустили домой, он за «поллитру» водки продал орден боевого Красного Знамени и орден Красной звезды. Напился и плакал, как ребенок, выпрашивая у людей мелочь на хлеб.
Нашей верхушке плевать на тех, кто проливал за них кровь. Они только на словах, по газетам и по телевизору коммунисты. Нет на них Сталина.
Умоляю тебя, не лезь ты в этот Афганистан.
У нас все хорошо. Страшно скучаем по тебе. Спасибо за поздравление с Первомаем. Были очень рады.
Горячо целуем, крепко обнимаем. Мама, Альфия.
9.05.83.
26-29 марта 83 г. Пишу в каптерке. Не помню, как здесь оказался. Вчера выворачивало меня наизнанку. Всю жизнь буду помнить… Взводный приказал моему отделению пройтись, с целью разведки, по сопке, где ночью шустрили душманы. Все мои ребята были в сборе, за исключением ефрейтора Мишки Свиридова. Его нигде не могли найти. « С утра за дурью пошел», – предположил командир взвода и, матерно выругавшись, приказал выступать без него. Мы цепью, в пяти-шести метрах друг от друга, осторожно, прыгая козлами с камня на камень, пробирались к макушке горы. Идти между скалами опасно. Удобное место для мин. Правда, стоя на глыбе, ты на виду, зато верный шанс не подорваться на мине.
С вершины внизу, среди скал, мы заметили едва заметный столбик дыма. Я решил, что духи собрались там позавтракать, и дал команду взять то место в кольцо. Между теми скалами находилась довольно широкая, уходящая покатом к подножию глинистая площадка. На ней два догорающих костра, стоявших друг от друга метрах в трех. Над их раскаленными углями, иногда оживающими огнем, вырывались языки пламени, облизывающие днища мятых, с вековой копотью, казанов, что стояли на треножных таганах. От них тянуло запахом вареного мяса. На расстеленной газете лежало несколько черствых, покрытых плесенью лепешек, нарезанный репчатый лук, полпачки крупной соли и кулечек с рассыпанным красным перцем… «Духи бежали и оставили нам пожрать», – потирая руки, сказал Гунин. «А ложек не оставили», – заметил рядовой Дегтярев. «Они дикий народ, жрут руками», – объяснял Гунин, заглядывая в казан поменьше.
На его поверхности, в сгустках жира, плавали волосы. Меня передернуло. «Поленились почистить», – подумал я. Гунин вытащил из чехла нож и стал ковыряться в нем. «Баранью бошку варили», – сказал он, тыкая во что-то твердое. Наконец, нащупав мякоть, он надавил на нее и вытащил наружу. И… я услышал свой крик: «Брось!». На ноже, из-под ослизлых желтых длинных волос покачивалась человеческая голова. Нож пронзил обе щеки, и она, зацепившись челюстями в зазубрины лезвия, повисла над казаном. «Так это Мишка Свиридов», – узнал Гунин и отшвырнул исходящую паром его голову в сторону. Она шлепнулась на сухую глину и покатилась вниз по склону. «А в этом котле его требуха» – вытягивая из нее стволом автомата кишки, сказал друг Свиридова Витька Воронков.
Все происходило для меня, как в чужом, нечеловеческом мире. Хотелось проснуться, но я не спал. Все наяву. Им, Гунину, Воронкову да и остальным, хоть бы хны! Они с утра уже под дурью. «Без нее, салака, – еще на днях, ширяясь, говорил мне Свиридов, – здесь никак нельзя».
Хочу закрыть глаза – они не закрываются. Хочу не слышать, а слышу. Из-за ватной, прозрачной стены доносится голос Гунина. Он кричит: «Здесь, на валуне, солдатская книжка с жетоном, а под ней роба3».
«Робу не трожь», – кричит ему Воронков. Он самый опытный из нас. Уже год в Афгане. Гунину – наплевать. Он тянет на себя запиханное под валун солдатское обмундирование. И тут – ослепительный всполох огня. Мина! Взрывная волна меня с корточек (я рвал) швырнула навзничь и лицом провезла по сухой глине. Что-то больно ударило между лопаток. «Осколок. Мне конец!» – мелькнуло в голове. Я вскочил и… О ужас! С моей спины упал облитый кровью сапог, с торчащей оттуда берцовой костью Гунина.
«Все живы?» – услышал я из-за ватной стены Воронкова. Камни от разлетевшегося валуна, под который душманы засунули и заминировали робу Свиридова, многих поранили. Больше всех досталось Пантюхину и Жукову. Пантюхину срезало ухо, а Жукову раздробило локоть.
«Ну, командир, – посмотрев на меня, неуместно весело рассмеялся Воронков, – у тебя рожа такая, будто бешеная баба исцарапала».
Отделением командовал уже не я, а Воронков. Они в одну из плащ-палаток вывалили сваренного Свиридова, а в другую собрали куски, оставшиеся от Гунина.
Я был никакой. Я никак не мог уснуть. Только забудусь, как перед глазами – на лезвие ножа сваренная голова Свиридова, кишки на дуле автомата, Гунинский сапог с костью… Я, видимо, независимо от себя дико вскрикивал… Воронков и другие «деды», которым до смерти хотелось спать, пригрозили мне, салаке, начистить харю, если я еще раз заору. Я встал и вышел в коридор к дневальным. Немного походил, а потом, сев на ступеньки перед входом в казарму, чуть задремал и снова от привиденного взвизгнул так, что из караульного помещения, с автоматами на изготовку, выбежали ротный и прапорщик Романенко. Поняв, в чем дело, ротный посоветовал: чтобы все прошло, дать мне курнуть анаши. Я сказал, что не курю. «Тогда ширните героинчика», – приказал ротный.
Я не знал, что они так и сделают. Прапорщик ушел, а затем, пряча за спиной руки, вернулся. Потом он, с двумя дневальными, повалили меня… Я не успел даже обидеться, как мне стало легко-легко. Мне было на все на свете наплевать…
Как я оказался в казарме – не помню. Не помню, что вытворял. Кажется, я зашел в караулку и потребовал у ротного спирта. Кажется, мы – я, ротный и прапорщик – пили его. Может, мне все снилось. Ведь я даже запах водки ненавидел, а тут спирт…
Меня никто не беспокоил. Я лежал на шинелях. Было здорово. И день минувший таким жутким уже не казался. Жалко Свиридова, но он сам виноват. Ему афганцы отомстили. Мне хорошо вспомнилось, как дней десять назад, когда я со своим отделением ближе к полудню вышел патрулировать по этому городку, ефрейтор вел себя по-хамски. Явно был под наркотой. Приставал к уличным продавцам, дергал женщин за паранджу. Я сделал ему замечание. «Под трибунал захотел?!» – пригрозил я ему. «Заткнись! Ты салака, а я «дед». Мы быстро научим тебя любить советскую власть».
«Научим и проучим», – острием локтя ткнул меня в бок Воронков.
Я смолчал. С ними, с «дедами», и офицеры не связываются. Они прошли школу покруче, чем наша школа СС4, – школу зеков. На гражданке были бандюгами, а здесь, как не раз говорил сам комполка, стали «гвардии паханами»…
Я с группой «молодых» отстал от них. Впереди, с засаленной чалмой и видавшим виды халате, трусил на ослике пожилой пуштунец. Отделение как раз выходило на базарную площадь, и тут с минарета неподалеку стоящей мечети запел муэдзин. Начался полуденный намаз. Я украдкой от своих, как мусульманин и как человек чтящий Аллаха, провел ладонью по лицу. Мне, комсомольцу, нельзя было показывать, что я верующий.
Чтобы не мешать упавшим на колени, прямо на площади молящимся людям, я дал команду остановиться. Свиридов с Воронковым продолжали идти. Им начихать на мою команду.
Пуштунец, что трусил впереди нас на ослике, остановился, расстелил коврик, опустился на колени и припал лбом к земле. Свиридов, показывая другу на выпирающий зад молящегося пуштунца, с разбега пнул его так, что тот кубарем покатился под стеллажи выставленных на продажу овощей и фруктов. Этого я уже стерпеть не мог. Подбежав к Свиридову, я ударил его ногой по яйцам, а затем двинул в скулу. Воронков же сзади прикладом автомата звезданул меня по затылку. Я упал, и они вдвоем с ефрейтором стали топтать меня. Краем глаза я видел, как тот пуштунец снова опустился на коврик и как ни в чем ни бывало продолжал молиться… «Молодые» уговорами сумели оттащить меня от «гвардии паханствующих стариков» и усадили, прислонив к глинобитной стене какого-то строения. «Мы тебя порвем, чурка», – пригрозил ефрейтор. «Тебе не жить!» – сплюнул Воронков.
От удара по затылку глаза мои будто крутились в орбитах, и с ними вместе – в мутном мареве вращались базар, мечеть и люди. Кто-то на затылок плеснул мне пригоршню холодной воды. Это был тот самый пуштунец, а рядом с ним еще несколько обступивших меня торговцев, которые с сочувствием что-то говорили мне. Я их понимал. За два месяца мне удалось немного изучить их язык. Пуштунец спросил меня, мусульманин ли я? Я в ответ кивнул, сказал, что я татарин, и добавил все, что знал религиозного от бабки с дедом – «Аллах акпер! Бси милах Иррахман Рахим, Аллах, Мухаммед я Али!..»5
Умный, на редкость благодушно-глубокий взгляд пуштунца, тепло огладил меня. «Хорош шурави» – сказал он и удалился в сопровождении уважительно обращавшихся с ним людей. Хоть одет и в рубище, подумалось мне тогда, а, видимо, из местных авторитетов.
Уже в расположении части, куда тут же дошел слух о случившемся, мне сказали, что, вероятней всего, тем пуштунцем был не кто иной, как сам Араб, предводитель всего мятежного Афганистана. Если это так, то Свиридову несдобровать…
Придя в казарму, я у себя в кармане обнаружил большие деньжищи, каких сроду не видел – три стодолларовые бумажки.
Здравствуй, дорогой, самый-самый хороший братик!
Я так соскучилась, ты даже не знаешь как. Когда меня обижают мальчишки, я говорю им: скоро приедет Мунир и он вам бошки поотрывает. Они после этого не лезут ко мне.
А еще я пишу потому, чтобы ты поругал маму. Я так плакала, так плакала, думала, что останусь совсем одна на свете. Хорошо, что тетя Катя раньше времени пришла домой и услышала в чулане шум. Открыла дверь, а там мама на веревке бьется. Молодец тетя Катя – отрезала веревку, вызвала скорую помощь. Ее с трудом спасли. В тот день она потеряла талоны на продукты и еще ей на заводе сказали, что нам квартиру не дадут. Самое обидное ей было, что секретарь райкома партии, кому она пошла жаловаться, сказал ей, что ваш муж, наш папочка, спьяну попал под пресс и его смерть на производстве не дает семье никаких льгот. Мама стала с ним ругаться. Сказала: папа на заводе нашем проработал 20 лет и она уже работает 20. Тогда он ее взял и выгнал из кабинета. И она вот так поступила. Скажи ей, что жить в уплотнении ничего плохого нет. Если бы мы жили не в одной квартире с тетей Катей, она тогда бы не спасла ее.
Мунечка, ты не говори ей, что я об этом тебе написала. Хорошо?
Учусь хорошо. Перешла в 8-й всего с одной четверкой по физкультуре. Моя фотография на доске «Наши отличники».
Жду не дождусь, когда ты вернешься. Очень люблю тебя и горячо целую.
Твоя сестра Альфия.
3 июня 1983г.
22 августа 83 г. Романенко – жук. Страшный жучила и вор. Последнее время на афганские толкучки он без меня не ездит. Я получше него объясняюсь и нахожу общий язык с местными. Теперь я хожу у него в любимчиках. Это после того, как недавно я помог ему продать по фантастической для него цене два ящика патронов со смещенным центром тяжести и два «калаша».
«Сержант! – подозвал он меня. – Ты давеча, когда патрулировал, здорово трепался на пушту».
«Подучился немного», – скромно подтвердил я.
«Вот как?!» – проговорил он и задумался, а потом, что-то решив для себя, приказал: «Завтра спозаранок едешь со мной на базар. У меня там дела. С ротным и взводным, считай, я договорился. Оставь за себя Воронка».
К базару мы подъехали до рассвета. К машине, за рулем которой сидел Романенко, тут же подошел часто попадавшийся мне на глаза таджик. Кроме слова «товар» по-русски ни бельмеса.
«Товар в кузове», – показывая большим пальцем назад, говорит прапорщик и, кивнув мне, соскакивает наружу.
В кузове два ящика. Таджик открывает их. Они доверху набиты патронами. Он роется в них, как в семечках. Смотрит маркировку. Потом поворачивается и, показывая понятными жестами, спрашивает: «Пух-пух?»
«Пух-пух в кабине», – успокаивает его Романенко. Таджик бежит за ним. Под сидением водителя два «калаша», обернутых в промасленную заводскую бумагу. «Якши! Якши!» – облизывает губы таджик и отсчитывает полторы тысячи долларов. Романенко хочет убрать их в карман. «Это за все?» – спрашиваю я у таджика. «Как договаривались», – бубнит он. Я поворачиваюсь к Романенко, незаметно для покупателя подмигиваю, выхватываю из его рук деньги и сую их обратно таджику. «Ты с ним договаривался, а товар мой. За такую цену я не продаю».
«Мало что ли? – не ожидая такого поворота, лепечет таджик. – Возьми еще пятьсот»…
«Раз я шурави – значит дурак? – накидываюсь я на него. – Ты продашь за 20 тысяч долларов, а мне даешь две?.. Так правоверные не поступают».
«Не за 20… От силы за 15», – проговаривается он.
«Нет, не продаю, – закрывая автоматы, говорю я и добавляю, что у меня есть клиент, который берет мой товар за 4500 долларов. – Он что-то опаздывает». Говорю, и демонстративно отворачиваюсь, делая вид, что кого-то высматриваю. «Ты что, сержант, делаешь?!» – матерится Романенко.
Я строю ему гримасы, чтобы он не вмешивался, а громко, на местном наречии, объявляю: «Мой товар за гроши не продам!»
Таджик отбежал к кому-то, стоящему тут же, за углом, и наблюдавшему за нами. Его отсутствие показалось мне очень долгим. Прапорщик шипел: «Убью, твою мать!..» Я знал: таджик с реальным покупателем следит за нами. И тут я иду на отчаянный шаг. Машу в толпу рукой и кричу: «Сеид! Сеид! Я здесь!» Радостно бью Романенко по плечу и деловито иду к кабине. И передо мной, как из-под земли, вырастает таджик. «Даю пять тысяч!» Я озабоченно оглядываюсь в сторону, куда только что кричал. К нашей машине направлялись двое мужчин. «Даю пять тысяч», – снова повторил таджик. «Хорошо! Быстро забирай!» Он свистнул, и к нам подбежало несколько человек. Таджик отсчитал мне все пять тысяч долларов.
Романенко стоял столбом.
«Поехали, товарищ прапорщик», – толкнул я его.
Немного отъехав, Романенко заглушил мотор. Вытащил деньги, пересчитал и опять, но уже доброжелательно, выматерился. Он не верил своим глазам: «Пять тыщ! Ну, ты и бестия, татарин!»
Отсчитав от полученных денег 500 долларов, он со словами «Твоя доля!» бросил их мне.
Тронувшись с места, он стал предупреждать меня, чтобы я держал язык за зубами и никому не рассказывал, куда мы ездили и, тем паче, что продавали и за сколько продали.
«В крайнем случае – за полторы тыщи. Если будут интересоваться командир полка или ротный… Понял!?»
«Могила», – успокоил я его.
Он с интересом посмотрел на меня.
«Что-то не так?» – спросил я.
«Все так, татарчонок, – засмеялся он. – Ты напомнил меня самого. Я такие же дела проворачивал вместе с капитаном-тыловиком в Анголе…»
«В Анголе?» – удивился я.
«Мы и там бывали. Куда только наша страна не засовывала носа!.. Так вот однажды нас, 20 человек, взяли там в плен. Полковника Балюкова, политического советника, и капитана Карпухина, моего наставника, африканцы на наших глазах разрубили на куски, а потом жарили на углях и ели. Их требуху бросали нам. Хорошо, что наши вертушки налетели. Лизнули напалмом по деревушке. Люди превращались в черные кочерыжки – женщины, малые ребятки… Я чуть не спятил. Как ты после Свиридова и Гунина… Ты видел, как горят живые люди?»
«Видел…»
Романенко ударил по тормозам. «Где?» – резко спросил он.
«В школе СС. Нам показывали документальные кадры, как американцы напалмом обдали людскую толпу… Страшное зрелище»…
«Адово. Не приведи Господь! – скукожившись, поддержал прапорщик. – Они там зверствовали».
«Вы и во Вьетнаме были?»
«Сослуживцы рассказывали. Но и мы с вьетнамцами дали им там дрозда под хвост. Да так, что они бежали оттуда без оглядки… Вообще, я должен сказать, американцы – не вояки. Без кофе и омлетов в бой не пойдут. Все норовят придумать роботов, чтобы воевали за них… Не то что мы, русские. Нам дай остограммиться и – вперед!»
Романенко был авторитетом в полку. Всех ротных и взводных посылал куда подальше. Признавал только батю – командира полка. Ни с кем особо не дружил. Выпивать выпивал со многими, но держал всех на расстоянии. И всем было удивительно его открытое расположение ко мне. С его подачи мне присвоили старшего сержанта и назначили заместителем командира взвода. Воронков стал заискивать передо мной, а так как он держал шишку над другими «дедами», заставил и их уважать меня.
Сегодня мы с прапорщиком толкнули новый Уазик командира полка. Взяли целых 12 тысяч долларов. На мой вопрос, а не спросит ли командование, куда подевался вчера только выделенный бате наш советский новенький джипик, он ответил: «Это проблемы начфина. Война все спишет. И нас с тобой, татарчонок, спишет», – по-деревянному засмеялся он.
Из сегодняшнего барыша Романенко отстегнул мне еще 500 долларов. У меня скопилось 1800 долларов.
16 февраля 84 г. Ротный подлец. Чтобы он сдох. Не могу без дозы. Ломка – невмоготу. Это он меня посадил на иглу. Что я буду делать на гражданке? Там дурь на вес золота. Где буду ее доставать? На что? Как буду жить?.. Я же законченный наркоман. Лучше погибнуть здесь. А как мама? Как Альфия? Без меня они пропадут. Да и с таким, какой я сейчас, тоже пропадут… Я решил мои накопления переслать домой. Вчера об этом сказал прапорщику. Он обещал помочь. И вот буквально сейчас велел идти во вторую роту к некоему сержанту Дегтяреву, который после ранения едет на побывку домой, в Новосибирск, и по дороге может завезти посылочку в Красноярск. Бегу туда.
Миленький Мунечка, здравствуй!
Пишет тебе твоя сестричка Альфия. Поздравляю тебя с Днем Советской Армии. Какой ты у нас молодец! Получили от тебя 1500 долларов. Принес их нам твой сослуживец, с которым ты в Монголии строишь тоннели. Он говорит, что большие командиры тебя уважают и всем солдатам там хорошо платят.
Подожди, кто-то барабанит в дверь.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Мунечка, миленький, я одна. Я не знаю что делать? Мама в тюрьме. Ее арестовали милиционеры за американскую валюту, которую она меняла на наши рубли. Это, оказывается, преступление против государства. Так они говорят.
Барабанили нам в дверь милиционеры. Делали обыск. Все перевернули вверх дном. Разбили телевизор.
Я одна. Спаси, пожалуйста, маму. Срочно приезжай. Два дня с утра до ночи стою возле милиции. Меня к ней не пускают. Милиционеры злые, как звери.
Твоя сестренка Альфия.
26 февраля 1984 г.
1 марта 84г. Реву над письмом Альфии. Мама в тюрьме. Из-за меня, идиота! «Из-за тебя, сукин сын! – чуть ли не кулаками набросился на меня Романенко, когда прочел ее письмо. – Не мог послать нашими деревянными?! Чурка татарская!..»
«Что делать, товарищ прапорщик?»
«Что делать?! Что делать?!– передразнил он. – Спасать девчушку и матушку. Наши легавые хуже душманов… Жди здесь. Я к бате».
Сграбастав Альфушкино письмо, он побежал в штаб. Его не было часа два. Я уж думал, его поход к бате – пустой номер. И что может сделать командир полка?..
Я уже отчаялся, а тут в каптерку вбегает посыльный из штаба. «Товарищ старшина, вам приказано немедленно явиться к командиру полка».
В кабинете у полковника – начальник особого отдела и Романенко. «Что же ты так, Аглиуллин, подставил родных и нас?» – говорит начальник особого отдела.
А у меня текут слезы.
«Успокойся, – говорит батя. – Мы тут подумали и решили поступить так. Ты должен быть в курсе…»
Полковник протянул мне фирменный бланк Ограниченного контингента войск.
ПРОКУРОРУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Как стало известно, в Красноярске, органами внутренних дел за валютные операции взята под стражу мать старшины срочной службы Аглиуллина Мунира Гайнановича – гражданка Аглиуллина (Козырева) Галина Филипповна. Ей инкриминируется серьезное деяние по спекуляции валютой. При задержании и обыске у ней в квартире было изъято 1500 долларов США.
В связи с этим инцидентом, для Вас и для следствия сообщаем следующее:
Означенная сумма действительно принадлежала сыну гражданки Аглиуллиной Г.Ф. старшине Аглиуллину М.Г. и он ее переслал матери через отбывшего в отпуск сослуживца сержанта Дегтярева Константина Алексеевича.
Взвод под командованием старшины Аглиуллина М.Г. в кровопролитной схватке с душманами овладел караваном, груженым оружием, героином в количестве 150 килограммов и 20-ю миллионами долларов. Трофеи были оприходованы в надлежащем порядке. Валюта целиком поступила в казну.
Старшина Аглиуллин М.Г. был представлен к правительственной награде и премирован высшим командованием двумя тысячами долларов США. Начальник финансовой службы, по причине отсутствия в кассе советских рублей, выдал ему всю сумму валютой.
Старшина Аглиуллин М.Г., не согласовав с командованием и не переконвертировав доллары США на рубли, послал их вышеназванным путем домой.
Сообщая об этом, просим Вас вмешаться в ход следствия и снять с гражданки Аглиуллиной (Козыревой) Галины Филипповны обвинения в спекуляции валютой.
С уважением
Командир в/ч Начальник Особого отдела
полковник КУЛЕШОВ К.И. полковник МАЗЕПОВ А.С.
«Думаю, для освобождения вашей матушки этого будет достаточно», – обнадежил меня батя.
«А если они сделают запрос: была ли боевая стычка и трофеи?» – спросил я.
«Ишь, какой?! – смерив меня насмешливым взглядом, произнес особист.
– Раньше надо было проявлять свою смышленость. Однако докладываю: такой факт имел место. Совсем недавно. У наших соседей».
Я еще раз убедился во всесильности прапорщика Романенко. Если он сейчас мне прикажет: «Прыгай в огонь!» – прыгну. Не моргнув глазом. Мне сейчас море по колено. Я ширнулся.
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ РАЗВЕДСЛУЖБЫ ГЕНЕРАЛА ХИКМАТИЯРА РЕЗИДЕНТУРЕ ЦРУ.
…18 марта, во время передислокации военной части полковника Кулешова летучий отряд талибов подорвал три бронетранспортера и сбил вертолет. Погибло 22 шурави. В вертолете в живых никто не остался. Под одеждой одного из трупов извлечена тетрадь, а в кармане гимнастерки письмо, полученное адресатом, судя по штемпелю, 17 марта. То и другое направляем вам, как документы, представляющие определенный интерес…
Для завершения эпизода, связанного с судьбой старшины Советской Армии Аглиуллина, считаю необходимым в сводном Отчете воспроизвести текст обнаруженного письма.
Мой родненький братик, Мунечка, здравствуй!
Это я, Альфия. Маму отпустили! Она дома. Немного нездорова. Ее мучили там, чтобы она призналась в преступлении. Следователь посадил ее к плохим теткам, которые били маму и рвали волосы, чтобы она созналась. А 8 марта следователь вызвал ее и сказал, что в честь женского праздника он снимает с нее все обвинения и отпускает домой.
Денег твоих они не отдали. Пусть подавятся. Главное, отпустили маму. Как немножко придет в себя, она тебе напишет.
Пожалуйста, скорей возвращайся. С тобой нам будет полегче.
Крепко целуем. Обнимаем. Очень ждем.
Альфия.
9 марта 1984 г.
Переводчик
майор военной разведки Самарий Калиберда,
3.
Проводив врача, Рейган не стал возвращаться в домашние апартаменты, полагая, что Нэнси, как обычно, после сеансов дремлет и мешать ей не следует. Он направился к себе в кабинет, чтобы захватить очередную порцию бумаг, которые теперь могут пригодиться, если, сидя не у дел на ранчо, ему захочется писать мемуары. В них уже не было такого, что могло ударить по психике жены. Ту копию «Сводного отчета» он по рассеянности оставил на письменном столе домашнего кабинета. И эта его рассеянность обернулась для Нэнси нервным расстройством. Она знала все, а в детали этого всего ей вникать как-то не доводилось. Она о них и не задумывалась, хотя в них-то и крылся ужас большой игры, в которой перемалывались жизни и судьбы массы никому неизвестных людей.
Здесь, в Белом доме, и там, в Кремле, игроки двигают фишки по схемам замыслов своих и не видят тянущихся за ними по земле рваных борозд, полных дымящейся кровью и кипящих людскими слезами. А тем, кто видит – наплевать и растереть. Так уж устроен мир: одним бросать кости на других, а другим следовать воле тех костей.
Сложив в стопку отобранные им еще с утра документы и, вложив их в папку, Рейган, облокотившись на нее, исподлобья осматривает свой кабинет. Уже, по-существу, не его. Через пару недель за этим столом и на этом кресле усядется новый президент. А может, он заменит их. Если станет менять, он выкупит их и перевезет в кабинет своего ранчо. За восемь лет он привык к ним.
Все здесь стало ему родным. «Мы приходим и мы уходим, а Земля пребывает во веки», – вставая из-за стола, он грустно улыбается и ловит себя на том, что сказанное им когда-то давным-давно уже кем-то говорилось… Медленно, как занавес, закрывая за собой дверь, он вспоминает: «Ну да, Екклесиаст».
Он не торопясь идет по коридору. Невидимая ранее стража становится видимой. Он каждого благодарит за службу и, не оборачиваясь и не прибавляя шага, продолжает идти – так, словно он в кадре на съемочной площадке, под пылающими софитами и объективами кинокамер, настроенных на крупный план…
В кадре – он и арка Римского сената. Он входит под ее своды… Команды: «Стоп! Снято!» – нет. И он продолжает шагать все с той же поступью Цезаря и с той же, нужной режиссеру, открытой, светящейся искрами доброжелательности улыбкой. Она у него хорошо получается. По губам режиссера он читает: «Дубля не будет». Он не видит его, но он его чувствует. И чувствует его только он, Рональд Рейган. И больше никто… Он пересекает арку и снова оказывается в до боли знакомом коридоре Белого дома. Команды: «Стоп! Снято! Дубля не будет!» – нет. А съемка продолжается…
Ему приходит странная, но не лишенная смысла мысль: за жизнью кто-то наблюдает и, режиссируя, выстраивает сюжеты, сцены, события, и кадр за кадром. Все-таки не случайно наблюдательные люди приходили к выводу: жизнь – театр, а люди в ней актеры. И эта вдруг возникшая мысль, как возникла, так и неожиданно улетучилась. Ее сменила другая. В права вступила иная мизансцена. Он чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Нэнси.
– О, Рони! – воскликнула она. – Я к тебе в Овал. Думала, что ты там.
Овалом Нэнси называла его официальный кабинет.
– Как ты себя чувствуешь? – смотрит он на жену.
– Великолепно. С психотерапевтом ты перестарался. Хотя, признаюсь, его сеансы прилили мне свежих сил. Время от времени к его услугам надо прибегать даже здоровым людям.
– Ты была в такой прострации…
– Не в прострации, а под впечатлением, – перебивает она его. – Неужели тебя не тронула судьба того мальчика?
– Спрашиваешь! Конечно! – сев вместе с ней на диван, он продолжил: – Его судьба – капелька из тысяч подобных ей. В ней весь Советский Союз со всеми его проблемами…
– Все проблемы России в престарелых недоумках у власти. Я тут полистала ее прошлое, поговорила с историками и знаешь к какому выводу пришла?
– Любопытно, – сказал Рейган.
– Причиной всех их проблем, кровавых потрясений и, так сказать, русской непредсказуемости была всего лишь одна, очевидная и страшная сила. Бездушная, патологически корыстная и неуправляемая бюрократия. Ее стараниями была развязана война с Японией, преподнесшая революцию 1905 года. По ее вине не состоялась такая многообещающая реформа Столыпина и Россия была втянута в Первую мировую войну. Только тирания Сталина могла загнать это чудовище в темный угол, а уже Хрущев, освободивший народ от пут животного страха, тут же поплатился за это. И с тех пор по сей день она, патологически корыстная и неуправляемая бюрократия, пожиратель детей своих, опять стала безраздельным властителем страны…
– Свобода бюрократии при отсутствии массовой свободы – это коллапс, – задумавшись о чем-то своем, произносит Рейган.
– Это риторика, Рони. А факт в том, что то же самое чудовище бездумно и как ему заблагорассудится вертит номинально стоящими над ними – тем же самым Горбачевым, а, стало быть, всем народом.
– Нэнси, разве только бюрократия им вертит? – хитро прищурившись, многозначительно замечает он.
Нэнси смеется. Они друг друга хорошо понимают.
– Бесспорно, и Раиса. Но, согласись, в оркестре, управляемом тем русским чудовищем, он же, держит ее на месте первой скрипки.
– Да кремлевскому окружению хорошо известны ее слабость и сила. Я имею в виду силу влияния на Майкла. Играя же на ее слабости, бюрократия имеет и эту силу.
– Имеют, как хотят. И не только они, – подхватывает Нэнси, мягко боднув плечо мужа.
– Два пробных шара Стюарта оказались точно в лузе. В Париже год назад, помнишь?
– Еще бы! Раз десять просматривала видеозапись.
– Тогда через Хачиксона, вручившего ей старинную Библию, доставленную им отсюда, из штатов, Стюарт умудрился через него же подарить ей комплект из белого золота с крупными бриллиантами и бирюзой.
– Раиса смотрела больше на комплект, чем на Библию. Тогда мне показалось, что именно по этой причине она, спотыкаясь на каждом слове, благодарила армянскую делегацию… А уже здесь, когда мы с ней ходили по объектам культурной программы, где ей приходилось что-то говорить, мне стало ясно – таков ее уровень.
– Я тоже обратил внимание.
– Рони, первый шар – комплект, а второй?
– Ты забыла?! Второй – «Рено».
– Что значит «Рено»?
– Французская национальная гордость – автомобильный завод. Кривая прибыли его сползала вниз. Надо было что-то делать. Решили сыграть на рекламе. Усадить за руль «Рено», прибывшего в Париж лидера коммунистов – Горбачева. А как это было сделать, если в программе его пребывания завод не значился. Владелец «Рено» своим заветным желанием поделился со Стюартом. С нашим Билли. Они дружили. Сказал, что если Генеральный секретарь явится на завод и сядет за руль их автомобиля, он выплатит ему миллион долларов. «А тому, кто это сделает?» – поинтересовался Стюарт. «Заплачу столько же», – пообещал он. Друзья ударили по рукам… В тот же день, с подачи Билли, Хачиксон вышел на помощника Меченого.
– На Шаха?
– Значит, ты вспомнила?
– Нет, первый раз слышу эту историю. А кличку «Шах» я знаю по отчетам.
– А-а-а, – протянул Рейган, – понятно. В общем, Хачиксон назвал ему сумму, которую хозяин «Рено» посулил Генсеку лишь только за то, чтобы тот сел за руль машины. Шах сказал: «Это сделать будет трудно». «Здесь ничего политического. Чистый бизнес, – убеждал его Хачиксон и шепотом змея-искусителя добавил: – За содействие вам выплатят 100 тысяч». Эту сумму назвал ему наш деловой Стюарт. Немного поразмыслив, Шах сказал: «Полагаю, Раисе Максимовне понравится миллион долларов». В тот же вечер программа пребывания Горбачева в Париже претерпела изменение. В ней появилась строчка: «Посещение завода «Рено».
Нэнси покачала головой.
– Знаешь, Рони, думая о ней, мне все время навязывается одна и та же мысль.
Рональд вскидывает голову.
– Генетически голодных нельзя подпускать к власти. Опасно для государства.
– Круто! – обняв жену за плечи, восклицает он.
– Хватит о ней, Рони. Давай поговорим о твоих действиях в эти дни.
– О каких, милая? О нашем с тобой переезде?
– Дожми их, Рони… Все созрело. Поспеши. Время уже не за тебя. Но на финише его еще можно обойти.
– Кого? Меченого?
– Не кого, а чего – время. У тебя еще пара недель есть.
– Для политики это не время. Но я сделал свое. В Мальте будет поставлена точка.
– Но ставить ее не тебе, – сокрушенно вздыхает она.
Задетый за живое, Рейган поднимается с места.
– Твоя правда. Ее поставит Джорди. Ничего не поделаешь. Срок президентства продлить невозможно… Я сделал, однако, самое главное – необратимость процесса. Деревце поднялось, окрепло, но, чтобы оно стало основательным, взметнулось выше, его за ветви тянуть нельзя. Всему свое время. Принципиальные договоренности достигнуты. Команды работают над документами. Через считанные месяцы на Мальте Майкл сдаст нам Восточную Германию, оставит Кубу и распустит Варшавский договор… На шельфе Мальты, на кораблях, в обстановке строжайшей секретности они с Джорди обговорят детали и поставят подписи…
Рональд подошел к жене и, ласково, за подбородок, подняв ее лицо к своему, произнес:
– Подготовленная мною сделка века состоится на Мальте. Ее у меня никто не отнимет.
– Его-то, Майкла, интерес какой?
– Прежде всего государственный, – смеется он. – В оказании ему с нашей стороны всяческой помощи в начатой им, так называемой, перестройке. В предоставлении им неограниченных кредитов в организации демократических структур и самых широких возможностей экономических преобразований… И еще сугубо личный – сделать его лауреатом Нобелевской премии мира. Поэтому Майкл настаивал на супервысокой секретности. «Чтобы, – как сказал он, – ни одна душа не прознала о наших договоренностях».
– Нобель перевернется в гробу, если небеса донесут ему слух об этом.
– Он, дорогая, давно уже с гневным возмущением стучит костями по крышке гроба. «Какой кретин, – вопит он оттуда, – додумался учредить такую премию?!»
– Действительно, я как-то об этом не задумывалась, – роняет Нэнси. – Ее надо было бы или назвать по-другому, или выдавать только таким, как мать Тереза… священникам… миссионерам… учителям… врачам, победившим страшные болезни… писателям…
– И я об этом, – говорит Рейган. – Ну, какой, спрашивается, мир и Ясер Арафат… Мир и политика – браки символические…
– И какой, спрашивается, мир и предательство Майкла? – вставляет Нэнси.
– Вот-вот! – соглашается Рональд. – Тем не менее, что бы мы ни говорили, согласись, эта премия – неплохой рычаг в политической игре.
Нэнси глубоко и не без горечи вздыхает.
– Что так?! – с настороженностью спрашивает он.
– Ты взрастил, при тебе вызрело, а плоды рвать другому.
– Вот ты о чем? Не терзай себя! Так или иначе, историки скажут: это яблочко сорокового президента.
– Помнят тех, кто срывает, а не тех, кто взрастил, – не без резона замечает Нэнси.
– Да, срывать и вкушать будет Буш. И у него будет другой Меченый.
Нэнси с удивлением смотрит на мужа.
– Судьба Майкла, дорогая, предрешена. Его сметут свои же… Конечно же, не без нашей помощи. Мавр сделал свое дело – Мавра надо убирать.
– Может прийти такой, кто повернет все вспять.
– Не беспокойся. Придет такой, какой нам нужен. Судя по объективке наших ребят, лучшая кандидатура на роль марионетки.
– Кто он?
– Я остановился на Борисе Ельцине. Он из колоды коммунистов. Бывший первый секретарь Свердловского областного комитета партии, вроде губернатора штата, бывший коммунистический лидер Москвы, а ныне задвинутый в строительное ведомство высокопоставленный чиновник… Выпивоха, простак и в плотном окружении симпатизирующих нам людей…
– Буш может не согласиться.
– Вряд ли. Он наиболее предпочтительней из всех.
– Жаль, что срывать и вкушать будешь не ты.
– Жаль, – глухо отзывается Рейган.
4.
Он один. Не спится. Тоска черной пиявкой всосалась и сушит, и сушит. Он думает о Баку, об острове Святом. Думает об Аге, Бахазе, Таирове… Слышит, стонущие от накатов Беркутины… Видит Рыбьего Бога… Видит и слышит заливисто смеющегося маленького Илюшку, не помнящего ни мать свою, ни отца… Его карябает по-живому мысль о том, как сложится судьба его единственного и долгожданного Бориски. Все может случиться. Уже под занавес уходит жизнь. И Ивушка не совсем здорова…
И еще болен мир. Болен человеком. Мир мог бы быть без человека, но как быть человеку без него? Он этого не понимает. Он делает больно самому себе, себе подобным и миру, давшему жизнь ему.
За тысячи и тысячи лет человек нисколько не изменился. Каким был по натуре своей, таким и остался… Семен встрепенулся. Нечто такое он уже где-то слышал или читал. Ну, конечно же! У Булгакова! В «Мастере и Маргарите». В той самой книге, что обнаружили после смерти Таирова в его сломанном «жигуленке». Там Воланд, да, именно он, представляясь, в набитом людьми театре, профессором черной магии, оглядывая зрительный зал, говорил, что его интересует важный вопрос: изменился ли человек за многие века его отсутствия на земле? Оказалось – нисколько!
Не воспринимающего фантастики Семена сперва поразил неведомо откуда появившийся на Патриарших прудах по-неземному проницательный Воланд… И еще его поразила одна строчка, дважды и жирно отчеркнутая черной пастой шариковой ручки. Вероятно, это сделал Илья.
«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…»
Наверное, он знал о встрече на Мальте. А кто, собственно, не знал о ней? В газетах и по телевидению, не жалея красок, расписывали, какая это была уникальная, не имевшая, по секретности, аналогов, встреча в верхах.
«За несколько дней до встречи, – писал корреспондент французской “La Monde”, – остров Мальта был взят в кольцо лучшими военными кораблями НАТО. В небе, сменяя друг друга, беспрестанно барражировали вертолеты». Над гладью моря круглые сутки летали оснащенные самой современной электронной аппаратурой слежения самолеты-разведчики класса «Авакс».
О том, что делалось в акватории по всему периметру острова, приходилось только догадываться. Каждый дюйм суши и морских глубин мальтийского архипелага – прибрежье и твердь Гоцци, Камино и других островов – просматривался, прощупывался и прослушивался.
Валлетта за всю свою историю не видела такого разноязычного нашествия журналистов со всей планеты. Репортеры и телевизионщики толпились на берегу, всматриваясь в даль, где, по их предположениям, находилась та субмарина, в которой было оборудовано специальное помещение для переговоров. Услышать, о чем говорится за его бортом, как утверждают инженеры, невозможно ни одному земному средству прослушивания. Журналисты по силуэтам судов пытались определить квадрат местонахождения субмарины. Строились самые различные догадки. Никто ничего точно не знал.
За пределами догадок находилось лишь два общеизвестных факта: то, что встреча лидеров двух сверхдержав – США и СССР – будет проходить в толще Средиземного моря, и то, что на ней, наконец, будет поставлена точка на многолетней и изнурительной, не только для Америки и Советского Союза, но и для всех государств мира, «холодной войне». На каких условиях ставилась точка, в чем суть компромиссов и на какие уступки идут друг другу сверхдержавы – никому и ничего известно не было.
Команды переговорщиков находились в плотной изоляции. И всё-таки, наиболее проворным и удачливым удавалось пообщаться с некоторыми из них. Но и это ничего им, в сущности, не дало. Ничего конкретного, им узнать не удалось.
У меня сложилось впечатление, что об уступках и компромиссах знают четверо: Джордж Буш со своим Государственным секретарем и Михаил Горбачев с министром иностранных дел. Остается одно – ждать итоговой пресс-конференции. Но для этого должна состояться встреча.
Сегодня, в объявленную дату, она может и сорваться. Над Средиземноморьем с утра нависла вязкая черная туча. Море ощетинилось загривками многотысячной своры диких зверей и бросалось несущимися друг на друга мутными валами, взбивая мыльную пену. К рычавшему и белому от ярости прибрежью страшно было подойти. Два потока ветра с Востока, от Балкан, и с Запада, из Атлантики, столкнулись как раз здесь, у Мальты. Все куролесило, выло и визжало. Деревья гнулись, чуть ли не доставая верхушками земли. Их словно кто насильно заставлял кланяться то в одну, то в другую сторону. Валлетта запахнулась ставнями. Такие встречные ураганы, по словам мальтийцев, случаются здесь очень и очень редко. Их они называют «балом козлоногих»…
Многие мои коллеги, в том числе и я, увидели в этом некий потаенный намек небес на нечто, что было недоступно нашему пониманию. То ли это было нежелание Господа проводить в этот день эту встречу, то ли это был восторг нечистых сил по случаю того, что она состоится.
И она состоялась.
Никто из нас не заметил, когда, откуда и на чем Буш и Горбачев со своими командами были доставлены на таинственную субмарину. Возможно, карнавал козлоногих внес коррективы и они встретились на каком-то надводном корабле. Очень возможно. Но вышедшие к нам, в гостиничный холл, пресс-секретари той и другой стороны обошли этот вопрос молчанием.
– Исторический диалог начался, – объявил американец.
Все зааплодировали.
– Как чувствуют себя президенты? Не станет ли качка помехой для конструктивных переговоров? – поинтересовался мой коллега из Испании.
– Как нам стало известно, – сообщил русский пресс-секретарь, – главы государств чувствуют себя комфортно. Несмотря на непогоду, они полны энергии и нет признаков того, что качка станет помехой переговорам.
На мой вопрос, когда ждать результатов и обещанной пресс-конференции, американец сказал:
– Ваш вопрос, как я понимаю, интересует всех здесь присутствующих. Ожидается, что переговоры завершатся ближе к вечеру и сразу же, как бы поздно не было, состоится пресс-конференция. К полудню, как обещают синоптики, столь необычный ураган уляжется.
Вязкая тягучая туча, заволокшая архипелаг, еще до полудня никак не поддавалась на разрыв сверкающим лезвиям желтых молний. А потом медленно поползла в сторону Балкан.
Море еще шумело, но ураган затих. Распахнулись ставни Валлетты. Город робко смотрел в еще сердитое небо, дожидаясь со стороны моря вертолетов с главами государств. И они не заставили себя ждать. Спешившись с винтокрылых птиц, президенты подошли к нам. Они сияли. Они явно были довольны.
– Холодная война канула в Лету! – объявил Горбачев. – Мир отныне станет другим! – Затем, кашлянув в кулак, он вставил свою коронную фразу:
– Процесс пошел.
Буш, обняв советского лидера за плечи, выразился образней:
– Топор «холодной войны» мы с президентом Горбачевым похоронили на дне Средиземного моря».
Об этом писали и на все лады вещали все средства массовой информации. Мишиев конечно же читал, слушал и смотрел. И во всем том, что сливалось в наивный мир, он видел то, что для других было скрыто за обильно подаваемой кельнерами прессы клюквой по рецепту папаши Дюма и за лапшой в сиропе от Буша. Он догадывался: там, в шельфе архипелага Мальтийских островов, один продавал за не понюх табака, а другой, по такой же цене – покупал. А товаром тем был пустячок – всего лишь сверхдержава.
Многие тогда догадывались об этом, а доподлинно знали единицы. И уж подавно никто не знал, кто привел к этому торгу и кто сделал его возможным. Даже в окружении Буша и до него, в команде Рейгана, о нем, Билле Стюарте, никто не знал. В лицо он был известен, пожалуй, каждому из них. Более того, все они были в курсе того, чем он занимается. Должность говорила сама за себя.
Но то, что Стюарт, руководил операцией «Реквием», о существовании которой никто и не подозревал, никому из его знакомых, близко стоящих к президенту, в голову не приходило. Билли всегда держался в тени. И тогда в Валлетте, после пресс-конференции, он, прячась за спинами сопровождавших президента людей, плелся вслед за остальными. У самых дверей в отведенный ему номер Буш остановился и, отодвинув Бейкера, заслонявшего всю президентскую рать, стал выискивать кого-то.
– Стюарт! – позвал он.
– Я здесь, сэр, – выглянув из-за спин, откликнулся Билл.
– Зайди! – велел он.
Все, как по команде, расступились, и они втроем – Джордж Буш, Джеймс Бейкер и он, Билл Стюарт, вошли в президентский номер. Стоявшая в шеренгу обслуга почтительно склонилась.
– Шампанского! – распорядился Буш.
– Более чем уместно, – потирая руки, широко улыбнулся Бейкер.
– Еще бы! Все как по нотам! Сплошной мажор! – глядя на Стюарта, с понятным для него значением, произнес Буш.
– С нами Бог! – сказал Стюарт.
– Только одна неувязка вышла, Билли… Ты не предусмотрел погоды.
– Да, это прокол, – поняв шутку президента, той же монетой отреагировал он.
Буш взял с подноса фужер и, прежде чем что-то произнести, обернувшись в сторону обслуги, попросил оставить их одних. Дождавшись, когда они уйдут, Буш, указав фужером в сторону моря, проговорил:
– Друзья, мы сегодня, с Божьей помощью, взяли за поводья самую своенравную в мире из кобыл, имя которой Победа. За нее!
– За победу! – воодушевленно выдохнул Бейкер.
Стюарт мгновенно уловил скрытый смысл тоста босса. И, давая знать, что он понят, сказал:
– Мы не упустим её, сэр!
– Вот-вот! Это-то я и хотел сказать, – мягко крякнув от удовольствия, Буш ставит фужер на поднос. – Так что, Билли, не торопись скидывать «Реквием» в архив. Продолжай в том же духе. Отслеживай каждый шаг. Мне не нужна его пустая фраза – «Процесс пошел!» – а реальное и, лучше всего, ускоренное движение этого процесса.
– Их надо дожать!– выкрикивает Бейкер.
Буш оборачивается к нему и в голос, громко начинает хохотать.
– Джимми, ты знаешь я о чем? – утирая выступившие от смеха слезы, спрашивает Буш.
– Понятия не имею, – бурчит Госсекретарь.
– Ну, как же?! Вспомни! Рональд вводил меня в круг дел. Я в тот день пришел с тобой. Он говорил нам о «Реквиеме» и о том, что Меченый на грани. Он, в обмен на помощь его бредовой перестройки, согласится на все выставленные условия, и с ним уже принципиально обговорена вот эта самая встреча на Мальте.
– Это я помню, – говорит Бейкер.
– А то, как он крикнул: «Их надо дожать, ребята!» – забыл?
– Точно! Ты смотри, запамятовал, – цвикнул губами Бейкер.
– А я помню! Ты сейчас крикнул «Их надо дожать!» голосом Рони. Кстати, ему надо позвонить. Хотим мы того или нет, мы пожинаем его труды.
– Позвольте не согласиться, сэр, – искренне возмутился Госсекретарь. – Не помню кто, но один из выдающихся людей как-то очень правильно заметил: «Если я чего-то и достиг, то это благодаря тому, что я стоял на плечах исполинов». До Рейгана еще девять президентов не безуспешно вели эту холодную войну с коммунистами. Каждый вносил свою долю в нашу победу, поводья от которой, милостью Божьей, получил 41-й президент.
Буш хмыкнул.
– Приятно слышать, Джимми. И все-таки, – он подмигнул Стюарту, – распорядись соединить меня с Рони. Он должен знать первым и из первых рук… – а потом, посмотрев на Бейкера, добавил:
– Хорошо говоришь, Джимми. Приятно слушать, – и, указав на бутылку, бросил:
– Наливай.
– Сэр, ранчо Рейгана. У телефона его супруга, – протягивая президенту трубку, сообщил Стюарт.
– Здравствуй, Нэнси!
– Здравствуй, Джорди! Давно не слышала вас.
Голос ее хорошо был слышен, хотя Бейкер и Стюарт вежливо отошли в сторону. Буш, не обращая на это внимания, ходил возле них по кругу, все сжимая и сжимая его.
– Как чувствуешь себя? Голос что-то у тебя усталый.
– У меня все хорошо… Вот с Рони проблемы.
– Поподробней, Нэнси, – просит Буш.
– Стали появляться странные мозговые явления. Недавно, глядя на меня, он удивленно спросил: «Кто вы? Кто вас послал?» Я сначала подумала: он прикидывается. Махнула рукой и вышла. Через четверть часа захожу, а он, как ни в чем не бывало говорит: «Где ты, Нэнси? Мы что, сегодня без вечернего моциона?»… Такое с ним стало случаться все чаще и чаще. Днями вбегает к прислуге и требует объяснить, что за животное бегает по дому? Почему никто не следит за дверьми?.. Вы представляете, Джорди, это он говорил о нашей с ним собачке… А утром, как будто ничего не случилось, взял ее в поводок и долго с ней гулял… Беспамятство то наплывает, то исчезает.
– Что врачи?
– Пока полного обследования не провели, они не могут дать точного диагноза. На вскидку – склероз.
– Будем надеяться ничего страшного, – успокаивает Буш.
– Надеюсь.
В фоне эфира слышится приглушенный голос Рейгана: «Кто это, Нэнси?»
– Джорди, – отвечает она. – Он хочет с тобой переговорить.
– Давай! Давай! – требует Рейган и тут же из трубки рвется его радостное приветствие:
– Ты куда пропал, сукин сын?!
В эфире встревоженный голос Нэнси: «Рони, это не жокей Джорди Кемп!»
– А кто?
– Джордж Буш…
Рональд, судя по всему, с непониманием уставился на жену. «Президент США Джордж Буш», – четко выговаривает Нэнси.
– Да-а-а, – тянет он и уже в трубку вежливо говорит:
– Слушаю вас, сэр.
– Ты что, меня не узнал, Рони?
– Узнал, – неуверенно бормочет он.
– Вот и хорошо. Я звоню тебе из Мальты.
– Откуда?
– Из Мальты, Рони… Хочу поздравить тебя и себя. Мы загнали их в угол. Мы, как ты и хотел, дожали их. Твой «Реквием» сработал как часы.
Наступила пауза. Затем приглушенный голос Рейгана:
– Нэнси, у Джорди поехала крыша. Он там с кем-то кого-то загнал.
Лицо Буша багровеет, глаза становятся свинцовыми.
– Это не Джордж Кемп, – шипит жена и вырывает у него трубку.
– Джорди, извините, пожалуйста… У него снова началось.
– Сочувствую, Нэнси. Как просветлеет, передайте, что на Мальте мы добились большего, чем он хотел.
– От души поздравляю, Джорди. Обязательно передам… Ради Бога, простите, – и дала отбой…
Ему не спится. Уже которую ночь. А ночи – чудо! Тихий восторг небес. Роскошные сказки искрящихся звезд в синем отливе черной парчи. Песня песен Соломоновых. Как эта, которая, затаив дыхание, обмерла, словно девица, слушая в себе сладкую истому первой в ее жизни любви.
Интересно, какие ночи тогда стояли над Хатынью и Ходжалами? Сказать мрачные, с перекошенной в злобе мордой? Сказать, что в поздний час тот звезды в небе щелкали искрами, аки волки зубами?..
Сказать можно. Любая ночь, как и день, – не просто время суток. Это чувство. Это ощущение жизни и себя в ней. Это – ты, мир и Бог. Для тех, кто рвал в ту пору плоть людскую, тот мрак над миром, разрывавшийся криками о пощаде и слезной мольбой ребенка – «Не убивайте, дяденька!» – была благодатью небесной. А для тех, кого нещадно губили, та ночь казалась апокалипсисом. Она умирала вместе с ними.
Подробности той ночи в Ходжалы Семен узнал от Центуриона. Он показал ему видеозаписи.
– Утро после шабаша, – комментировал он. – Вот село. Ходжалы. Оно под боком древней столицы Азербайджана – Шуши. В двадцати километрах от Степанакерта.
– Да что ты мне говоришь?! Азербайджан – моя Родина. Я все знаю в ней. И в Ходжалах доводилось бывать. Большое село.
– Вот оно дымится… – не отрываясь от экрана, продолжал комментировать Алекс. – Из шести тысяч человек остались в живых те, кто находился за его пределами… А вот посмотри… Его жители…
– Где? Не вижу?
И тут Семен увидел полуобвалившуюся каменную ограду и вдавленного в нее небритого средних лет мужчину. По обе стороны его надломленных рук свисало что-то бесформенное.
– Что это? – тычет Семен в схваченное багровым инеем и вмёрзшее к его бокам месиво.
– Не что, а кто, – поправляет Алекс. – Его дети. Он стоял, прижавшись с ними к ограде. Их вмазал в нее танк. Очевидно, механик-водитель именно этого и хотел. Обрати внимание, забор под мощным давлением накренился в сторону, противоположную движению танка. Верхние два ряда камня-кубика упали не вперед, а назад, и потому голова мужчины сохранилась. Дети – в лепешку… А вот их мать… Она, видимо, бежала впереди их с годовалым ребенком и мальчиком лет пяти. Увидев, как на ее старших детей и мужа наезжает танк, она бросилась к ним. Ее и мальчонку искромсала пулеметная очередь. По следам траков видно: разворачивая танк, механик-водитель проехал по нему. От малыша остались головка и плечико…
– Это горят люди? – следуя за объективом камеры, спрашивает он.
– Сейчас будет крупный план. Вот один… второй… третий…
– Неужели применили напалм?!
– Я тоже сначала так думал. Нет, то какая-то липкая горючая смесь. Ее сливали с вертолетов. Сверху прожектором высвечивали скопившиеся кучки людей и… обливали. Съемка велась спустя пять часов после бойни. А люди, вспыхивая иногда язычками пламени, тлели еще долго.
– Вертолеты? – Семен с недоверием смотрит на Алекса.
– Да! Да! Их было три. Сначала на спящие дома они скинули фугаски, а потом, двигаясь по кругу, на окраине села совершили посадку, высадили десантников и снова поднялись в воздух.
– В Ходжалах стояла военная часть азербайджанцев?
– Если бы! – вздохнул Алекс. – Всего 16 милиционеров. Это личный состав сельского участка из трех человек, усиленный, в связи с конфликтом, тринадцатью милиционерами соседних Агдамского и Агджабединского районов. Шестерых из них схватили, затолкали в один из вертолетов, а потом с высоты скинули на землю.
Вульфсон вдруг умолк.
– Сейчас будет страшный кадр… Это после шабаша. Азербайджанцы ищут живых и собирают трупы. Смотри…
Тело молодой женщины, располосованное от горла до междуножья. Остекленевший взгляд ее застыл на склоне. Объектив движется туда же… На взгорье, среди острых каменьев, которые от заиндевелости кажутся седыми, – одеревеневший на морозе пестрый свёрток. Один из мужчин, заметив его, карабкается туда. Вот он рядом. Он в оцепенении. Он трясет головой, словно ему хочется очнуться ото сна, а затем, обезумело, озирая все вокруг, судя по широко раскрытому рту, кричит. Затем нагибается и поднимает.
«Кажется, кукла», – думает Семен. Камера наплывает вплотную. Она сначала показывает искривленный судорогой, широко разинутый рот мужчины. Он явно издает вой. А потом на весь экран глаза той куклы. Никакая это не кукла. Это девочка. Распахнутые два большущих агата глаз, в уголках которых застыли две хрустальные струйки замерзших слез…
– Боже, Алекс! Выключи. Здесь, до не могу, все страшно.
– Я по сию пору в шоке.
– Кто снимал?
– Наш человек. Он там оказался раньше съемочных групп, прилетевших из Баку.
– Понял, – угрюмо вперившись в пол, глухо произнес Мишиев. – Значит, твоих рук дело?
– Кретин! – взвился Вульфсон. – Также спросил меня и Стюарт. Он связался со мной и без предисловий и жестким голосом по эфиру, как железом по стеклу, провел: «Кто вам давал право без согласования со мной устраивать эту кровавую вакханалию?»
«Я к ней никакого отношения не имею, Бобби», – сразу поняв, о чем речь, ответил я.
«Не Бобби – сэр!» – ледяным тоном поправляет он.
«Сэр, ни я, ни моя команда к этому не имеет никакого отношения…»
«Президент и Бейкер, посмотрев видеозапись – ужаснулись. Джеймс сказал: «Это Хатынь сегодня»…
«Поверьте, сэр, меня самого потрясло увиденное…»
«Я поверю вам, когда буду располагать достоверными фактами, подтверждающими ваши слова. К вам летит группа экспертов для служебного расследования. Рекомендую оказывать им всяческое содействие, вплоть до контактов с агентами и людьми, работающими на вас».
«Сэр, что так круто? Ваши подозрения беспочвенны».
«Вы знаете, что это неслыханное варварство вешают на нас?.. Слушай, что пишет русскоязычная бакинская газета «Новое Время»: «Вашингтон» взял на вооружение методы кровавого палача-коммуниста Пол Пота, который, загнав в концентрационные лагеря собственный народ, методично, с первобытной жестокостью и садизмом истреблял его. Американцы делают то же, только с народом, живущим совсем на другом материке. Сотворенное ими в Ходжалы заставило мир содрогнуться… Неужели это еще одна кровавая страница геноцида в истории человечества?..» Эта, взятая в красный фон, публикация, с отдиктованной мною выдержкой, пришла к нам из канцелярии Белого дома с резолюцией: «Разобраться! Мне нужна правда! Дж. Буш».
«Как, по-вашему, нам нужно было реагировать?.. Если мы докажем обратное, я первый, кто попросит у вас извинение».
– И он сдержал свое слово. И тебе, полковник Боливар, придется извиниться. – Центурион сделал паузу, нагнулся к тумбочке, что стояла справа от него, вытащил из нее довольно объемистую папку и, порывшись в ней, извлек несколько скрепленных стэплером машинописных листов.
– Читай! – потребовал он.
Совершенно секретно
О Т Ч Ё Т
Служебного расследования Президентской Комиссии по факту причастности к Ходжалинской трагедии Московской резидентуры ЦРУ
Анализ документов, предоставленных резидентурой, а также фактов, обнаруженных Комиссией собственными возможностями, как то: выезд на место происшествия, опрос непосредственных участников события и иных должностных лиц различных ведомств – позволил установить следующее.
1. Событие произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года и имело все признаки спланированной и осуществленной с особой жестокостью военно-карательной операции.
По утверждению членов Комиссии, побывавших на месте события, село Ходжалы подверглось внезапному нападению армейскими регулярными силами России, дислоцированными в Нагорном Карабахе, с применением вертолетов, артиллерии, танков, бронетранспортеров и автоматического стрелкового оружия.
Населенный пункт, со всеми его жилыми строениями и инфраструктурой, уничтожен на 90 процентов. Погибло 983 человека мирных граждан. В том числе: детей от одного года до 15 лет – 193; женщин возрастом от 16 до 80-и и старше – 409, из которых 26 беременных; мужчин в том же пределе возраста – 408;сотрудников внутренних дел – 6 из 16-и числящихся в списке на 25 февраля.
2029 ходжалинцев пропали без вести.
Из 6323 человек, официально считающихся ходжалинцами, в живых осталось 2311. Из них бежало во время нападения 410 человек. 283 человека находились вместе с семьями по месту работы в соседних районах; 18 – в служебных командировках. Оставшаяся часть населения Ходжалов – студенты и учащиеся различных учебных заведений, а также те, кто давно переехал и проживают в городах Баку, Сумгаите, Кировабаде (ныне Гянджа), Мингечауре и Евлахе.
2. Означенную операцию осуществлял командир батальона 366 полка Советской, а ныне Российской Армии, армянин по национальности, майор Самвел Бабаян.
Связь и какие-либо другие контакты командира 366 полка полковника Голубева (ныне генерала) с сетью агентов Московской резидентуры – не установлены и не просматриваются.
Оперативные мероприятия, проведенные Комиссией, с подключением агентов, работающих в непосредственном контакте с Лэнгли, то есть, скрытно от влияния Московской резидентуры, пролили свет и выявили тесную связь Голубева с лидерами мятежников Нагорного Карабаха – Робертом Кочаряном и Сержем Саркисяном. Последний, являющийся военачальником мятежного ополчения, из называющих себя «федаинами», находился в особенно доверительных отношениях с командиром 366 полка. В разговоре с агентом, внедренным в команду Кочаряна и Саркисяна, оба они были весьма откровенны с ним. (Аудиозапись приложена к развернутому Отчету).
Вместе с тем, считаем необходимым привести отдельные выдержки из них. (Перевод с армянского осуществлен капитаном разведки Арамом Татуляном).
Фрагмент записи разговора Агента с Сержем Саркисяном, при котором присутствовал Роберт Кочарян.
Серж Саркисян. Я по следующим соображениям назвал наше боевое патриотическое формирование федаинами. Оно понравится нашим американским друзьям и кремлевскому алкашу. С именем федаинов связано установление на севере Ирана, сразу после войны, Азербайджанской Демократической Республики – АДР. Ты знаешь, кто стоял там за этой, смешно сказать, революцией? Ты знаешь, по чьей идее и инициативе, под боком мусульманских выродков, создавались и вооружались боевые, так называемые революционные отряды?.. И с чьей легкой руки их стали называть федаинами?.. Да будет тебе известно – это был наш армянин, генерал КГБ, резидент Советской разведки в Тегеране Вартапет Карапетян. Мы федаины, а значит – за демократию, нужную Бушу и Ельцину.
Агент. Не повторить бы судьбы АДР. Она просуществовала всего год. Кто ее породил, тот ее и погубил.
Серж Саркисян. С нами такого не произойдет. Во-первых, потому, что Штаты заинтересованы в нас не меньше, чем мы в них. Им, как любит говорить мой друг и наш идейный голова Робик джан, «нужен еж в трусах России». Тот же интерес к нам и Москвы. И там и там у нас позиции сильные. Сейчас нам предпочтительней американцы. Они платят. Так что в нашем распоряжении хороший люфт – к кому в тот или иной момент мы сможем склониться.
Во-вторых, мы должны… Нет, мы обязаны быть самостоятельными в своих действиях. Не слепо действовать указкам всяких там Бушей с Ельцинами, а, прикрываясь их зонтиком, проводить свое. Не правда, Робик джан?.. Мы умнее и хитрее всех. Не зря говорят: «Где один армянин, там троим евреям делать нечего».
Роберт Кочарян. Если и был в раю змей-искуситель, то это был армянин.
Серж Саркисян. Целую тебя, Робик джан! Правильно! Мы пойдем за теми указками, которые выгодны нам. Мы медом вползем в любую из душ, а когда нужно, покажем волчий клык. Кто кроме нас так еще может?..
Из аудиозаписи, сделанной Агентом 1-го марта, во время застолья в гостевой комнате директора каменного карьера Володика Манучаряна, на котором присутствовал самый доверенный состав команды Роберта Кочаряна – Серж Саркисян, сам Манучарян и командир батальона 366-го полка Самвел Бабаян. (запись произведена до нашего прибытия в Ходжалы).
Серж Саркисян. Я поднимаю бокал за тебя, Робик джан. Ты – большая умница. Мне в голову не приходило, как использовать полковника Голубева.
Самвел Бабаян. Не приходило потому, что ты слишком занят был его Голубкой.
Володик Манучаров. Наш герой завидует.
Серж Саркисян. Что значит деревня! Ничего не скроешь.
Роберт Кочарян. Самвел, с Голубкой у него работала другая голова. И не перебивай пожалуйста. Мне, – шутит Кочарян,– приятно слушать о себе… Продолжай, Сержик.
Серж Саркисян. Я бы тебя, Робик джан, назвал бы хитроумным, но ты выше. Ты мудрый и дальновидный человек! Так просчитать, как просчитываешь ты, по уму только единицам. И Ходжалы этому блестящее подтверждение. За тебя!.. Прошу стоя.
Роберт Кочарян. Спасибо, друзья. Но…
Серж Саркисян. Но победу нам принес Самвел. Блестящая победа! Поэтому, друзья, выпьем за будущего маршала великой Армении. Крепкого здоровья ему и всем членам его домовой книжки.
Роберт Кочарян. От имени руководства Всеармянского патриотического движения я выражаю майору Бабаяну благодарность и премирую суммой вдвое большей, чем получил от нас полковник Голубев.
Володик Манучаров. Пятьдесят тысяч долларов?!
Роберт Кочарян. Так точно!.. Пользуясь случаем, сообщу другую приятную новость. Серж и Володик также премированы. Каждому по двадцать тысяч баксов.
Саркисян, Бабаян, Манучаров (в разнобой почти хором) Да здравствует свободный Арцах6! Да здравствует Великая Армения!
Роберт Кочарян. Однако я предлагаю поднять тост за человека, который, хотя и находится далеко, все делает для возрождения Великой Армении. Без него мы сейчас не праздновали бы победу.
Володик Манучаров. Куда бы мы делись без его денег.
Самвел Бабаян. Заткнись!
Роберт Кочарян. За всеармянского лидера, председателя героической партии Дашнакцутюн Эдди Хачиксона…
Далее к настоящему Отчёту прилагаем свидетельства Шахназарова (Шаха) и Эдди Хачиксона подтверждающие непричастность Московской резидентуры к бойне мирного населения в Ходжалах.
Операция, – пишет в своем объяснении Комиссии Эдди Хачиксон, – готовилась в строжайшем секрете и по инициативе руководства, восставшего за независимость Нагорного Карабаха. Я был не только в курсе ее, но и выделил на ее проведение 300 000$, которые, по утверждению Кочаряна, пошли на подкуп русских военачальников. Этой акцией мы одним выстрелом убивали двух зайцев: выбрасывали за пределы Нагорного Карабаха турков и – в их глазах, и в глазах международной общественности – компрометировали Россию. Зная, что официальные и соответствующие структуры Америки, в силу бюрократических проволочек, затянут ее проведение, я не стал ее ни с кем согласовывать. Поскольку эта операция была беспроигрышна во всех отношениях. И не вступала в противоречие с государственными интересами США.
Итак, исходя из изложенного, Президентская Комиссия по расследованию факта причастности к Ходжалинской трагедии Московской резидентуры пришла к однозначному выводу: фактов, подтверждающих ее причастность – не установлено.
Председатель Комиссии,
бригадный генерал Теодор Сойерс
Отложив в сторону папку, Мишиев протянул руку.
– Прости, Алекс, – сказал он. – Но после такого, – Семен показал на телевизор, – заподозришь и самого себя.
– Понимаю. Потому и прощаю, – мрачно проскрипел Вульфсон.
Ведь те дни едва не стоили ему карьеры.
Тогда в посольстве считали, что дни Вульфсона сочтены. Неспроста посылаются Комиссии. И потому, когда вскоре после отъезда Комиссии Стюарт вызвал его в Лэнгли, никто, и прежде всего сам Вульфсон, ничего хорошего от этой поездки не ждал.
В приемную он вошел в точно назначенный час. Хорошо знакомая ему референт Стюарта, мисс Джессика встретила его обычной для всех лучезарностью. Она всех так встречала и так же провожала, независимо от того, чем заканчивалась встреча с ее шефом. Попросив его присесть, Джессика сказала, что Стюарт занят и ему придется подождать.
«Значит, дело дрянь», – подумал он.
Раньше, заходя сюда в назначенный час, Джессика его не останавливала и он, в сопровождении ее светлой улыбки, свободно проходил к нему. А тут: «Подождите, сэр».
Минуты через три из кабинета Стюарта вышел Тедди Сойерс. С тем же предобрейшим выражением лица, пожимая руку Вульфсону, он сказал:
– Рад снова видеть вас, генерал! Как долетели?
– Не генерал – полковник, – подчеркнуто сухо поправил его Алекс.
Сойерс отреагировать не успел. В приемную, широко улыбаясь, вышел Стюарт.
– Так точно, Алекс. Указ президента о присвоении вам воинского звания генерал-майор подписан был сегодня утром, – и, положив ему на спину ладонь, Билл по-дружески подтолкнул его к своему кабинету.
– Поздравляю, сэр! – услышал он позади себя голос Джессики.
Стюарт, показав жестом на стул у приставного стола, сел на свое место.
– Итак, Алекс, я тебе говорил, что первым извинюсь перед тобой, если Комиссия не подтвердит твоего участия в этом варварстве?
– Говорил, – согласился Вульфсон.
– Так вот, не подтвердила. Извиняюсь.
– Спасибо, Билл. Ты не представляешь – гора с плеч.
– Прошу, генерал, ознакомиться сначала с этим документом.
Стюарт вытащил из ящика стола бумагу. Это был указ президента.
– Бейкер настоял немедленно подписать его. «Джорди, – сказал он, – я же тебе говорил, что Ходжалы мог сделать кто угодно, только не еврей».
– Так и сказал?
Стюарт кивнул, а потом, взяв стопку скрепленных степлером бумаг, что лежали сбоку от него, на высокой «башне» из пяти папок, тоже протянул Вульфсону.
– Ознакомься и с этим.
То была справка Тэдда Сойерса. Она, как сразу же заметил Алекс, лежала на самой первой из папок. На её обложке наклеен квадрат белой бумаги с набранной на компьютере надписью: «Операция Реквием».
Прочитав справку, Алекс повторил: «Гора с плеч».
– Все хорошо, что хорошо кончается, – произнес Стюарт и, хитро улыбнувшись, взял ту первую папку, в правом верхнем углу которой стояла римская цифра I.
– Смотри сюда, – пригласил он и размашисто, наискосок написал:
«В архив! Содержание не подлежит разглашению 50 лет.
Заместитель директора ЦРУ Билл Стюарт».
– Поздравляю, Билл!
– А я вас, Алекс.
– Кстати, Билл, почему вы этого не сделали раньше?
– Хочешь сказать сразу после Беловежья?
– Да. Когда Союз уже официально приказал долго жить.
Стюарт, усмехнувшись, вскинул указательный палец вверх:
– Решено было еще присмотреться. Хочу признаться, Беловежский вердикт стал для нас сюрпризом. Такой глупости мы не ожидали… Кретины отмежевывались не только от своих территорий, но и от собственных народов, других национальностей и вероисповеданий. От славянства и православия… И, принимая решение о сдаче «Реквиема» в архив, Бейкер справедливо заметил: «Если раньше мы видели агонию Союза, то Ходжалы, Чечня и Прибалтика стали его смертью – окончательной и необратимой»…
Стюарт прервался. В кабинет, в сопровождении Джессики, с подносом, уставленным напитками и легкой закуской, вошел официант, обслуживающий в особых случаях высшее руководство ЦРУ.
– Что будете пить? – спрашивает официант.
– Что бы ты посоветовал?
– Рекомендую коньяк «Москва». Букет отменный. В запаснике осталось бутылок пять-шесть. Запросил прислать, а мне говорят, что поступлений оттуда уже давно нет.
– Вам солгали. Москва, если бы они ее попросили, с удовольствием пришлет его в необходимом для нас количестве.
– Этот коньяк, сэр, называется «Москва», а производят его в Азербайджане.
Стюарт с Вульфсоном переглянулись.
– Что ж, давай «Москву», – распорядился Стюарт.
Дождавшись, когда кельнер с Джессикой уйдут, Вульфсон хмыкнул:
– Я смотрю, Азербайджан крепко держит меня за ноги.
– Естественно. Первые такты «Реквиема» прозвучали там.
Алекс красноречиво посмотрел на папку с его резолюцией и добавил:
– И там же отзвучали.
– Ну что, Алекс, за генерала?
– Не возражаю! Спасибо!..
– Слушай, действительно хорош, – причмокивая напиток, покачал головой Стюарт.
– Это оценка или приглашение ко второй? – прищурившись, спрашивает Вульфсон.
Билл, смеясь, сам наливает себе и ему. Потом, подняв свой бокал на уровень переносицы, он, словно любуясь шоколадным цветом коньяка, неожиданно произносит:
– Во искупление вины моей тебя ждет еще один сюрприз.
Почмокивая и жмурясь от удовольствия, он ставит бокал на поднос.
– О нем я тебе сообщу в конце месяца.
Как Алекс его ни упрашивал, Стюарт о нем, об этом сюрпризе, так и не проговорился. Но свое слово сдержал.
Где-то через пару недель, здесь же, в своем кабинете, Билл сообщил ему, что он в ближайшее время уходит в президентский аппарат, а его кресло займет… генерал Алекс Вульфсон. Это был не сюрприз. Это был гром среди ясного неба…
– Ты где, Алекс? Что с тобой? Тебе плохо? – тормошит его Мишиев.
– А, это ты? Все в порядке. Мысль увела, – тряхнул он головой.
А что он мог ему сказать? Семен не был в курсе «Операции «Реквием». Он всего-навсего один из тех, кто работал на нее. И что положено было знать Цезарии и Центуриону, не обязательно было знать полковнику Боливару. И говорить ему сейчас, куда завели его размышления, Алекс не собирался.
– Мысли могут завести в такие дебри – не приведи Господь. Особенно после такого, – согласился Мишиев, извлекая из видеомагнитофона кассету с ходжалинской жутью.
Она не выходила у него из головы. Потому и не спалось. Он, воочию, увидел и в подробностях услышал о Ходжалах только сейчас, спустя год. Почти из первых рук. «Почему почти? – говорит он себе, откладывая в сторону «Мастера и Маргариту». – Центурион в Цезарии был не последним кашеваром на той кухне, где по-живому освежевывали великий Советский Союз».
Семен гасит торшер и подходит к окну.
Ночь. Изумительная ночь. Звезды будто смеются и живо разговаривают и друг с другом, и с Землей, и с людьми. Люди их не понимают. Да большинству из них это и не нужно. Жизнь идет себе и идет.
Каждый день рождает ночь. А ночи рождают дни. Все они неповторимы. А если они родятся – значит и умирают. Как все живое и неживое. И все они, когда родятся, ангельски чисты. Как люди. Правда, с одной, и весьма существенной, разницей. Они чистыми и уходят. А люди – нет. Хорошо по этому поводу написал Маяковский:
Люди – лодки.
Проживешь свое пока,
Много всяких и разных ракушек
Налипают им на бока.
Семен Маяковского не любил. Слишком уж оригинальный он был для него. Слишком уж пичкали им в школе. Как-никак, поэт партии. Основоположник новой поэзии – поэзии социалистического реализма… «Мы говорим Ленин – подразумеваем партия. Мы говорим партия – подразумеваем Ленин»… Кого из ровесников Семена не спроси, все знают эти строки. Их вбивали в мозги, как гвозди. Но строчки о людях-лодках ему никто не вбивал. Они запомнились ему – и всё. Наверное, потому, что люди своим поведением уже тогда заставляли его задумываться о них… Они гадят этот мир. Они вываливают друг друга в грязи, бьют в спину, жалят в сердце. Все они разные, и одинаковое у всех у них, делающее их равными друг с другом – смерть и недолгая память о каждом из них. Они даже на кладбищах лезут вон из кожи, чтобы продемонстрировать, что они, то бишь, их усопшие, а стало быть, и они сами – не такие, как все. Лучше остальных хотя бы тем, что могут поставить шикарное надгробие…
А память – девка-однодневка. Очень уж забывчивая, бестия. Кто помнит о прежнем из тех, кто не пережил его? Да кто и пережил, помнит немногое… Люди помнят Каина больше, чем Авеля. И Иуду помнят, и хорошо помнят тех, кто больше умертвил людей и ни во что их не ставил. Помнят не приносящих добро, а творящих зло.
Люди порочны. И порок их в разуме. Хотя, в принципе, он устремлен к познанию. К познанию себя, мира и миров. Разумеется, в идеале. Таков он в единицах. В подавляющем же своем большинстве он далек от идеала… Уж кто-кто, а он, Семен, неоднократно размышляя об этом и, наблюдая за людьми, и за собой, в свои полста, пришел к этому убеждению, сломать которое он не находил аргументов.
Вывод его был однозначным: порочность разума – в некоей провоцир ующей сущности, делающей каждого из нас неоднородными, разными. Беда не в «разноязыкости», не в нациях, традициях и обычаях, а в другом. В самом главном. В неодинаковом мышлении, понимании и связанных с этим реакциях на окружающее. На ту или иную ситуацию. То есть порок разума – в разной разумности людей. Горе от ума не в том, что он много знает, а в том, что знания его не находят отклика у себе подобных. Его не понимают.
Как этого не заметили те самые единицы, составляющие идеал разумности? Не могли они на это не обратить внимание. А кто их, впрочем, слышал? Находились, конечно, такие. Но их так всегда мало! А другие не слышали не потому, что не хотели – они не могли этого. Не позволял не багаж начитанности и просвещенности, а дефект разума, заложенного в нем той самой сущностью.
А она, та самая провоцирующая сущность, делающая род людской несовершенным, более животным, чем человеческим, лежит на поверхности. Ее не видят, но все ощущают. Может, эта мысль покажется кому дикой, но это не что иное, как Время. Его Пространство. У каждого человека свое пространство времени, в котором он живет, думает, воспринимает и реагирует. И дело не в антагонизме выдуманных Марксом классов, а в антагонизме, вызванном разным пониманием людьми одних и тех же вещей, ценностей и самого бытия. Он то и порождает поступки, мораль, образ жизни…
Над всем и вся – и в обиходе, и в науке – господствуют люди с ограниченным пространством личного поля времени, определяющего их позицию. И не потому ли зачастую мир нам кажется адом? Хотя не для мук земных мы пришли сюда, а для того, чтобы стать людьми – Человечеством. И Господь подсказками своими подталкивает нас к этому. Мы видим их, но не утруждаем себя познать их. Хуже всего то, что господствующее большинство отмахивается от них. И мы проходим мимо. Проходим и творим Хатынь, Ходжалы, Хиросиму, Соловки, Бухенвальд…
Но не Господь опустится до нас, а мы должны подняться до него…
Мишиев отходит от окна и, кряхтя от боли в пояснице, тяжело опускается под торшер, на кресло.
«Любопытно, – говорит он себе, – большинство начинают понимать это под занавес жизни. Наверное, потому, что личное поле времени каждого начинает замыкаться на потустороннее, Божье…»
Он уже спал, не чувствуя, что спит. Он был уверен, что бодрствует и продолжает смотреть в ночь. Она навевает ему печаль. На глаза наворачиваются слезы. Он видит и глаза свои. Они в золотой поволоке слез. И слышит он себя, читающего Лермонтова.
В небесах торжественно и чудно!
Вся Земля в сиянье голубом.
Отчего мне больно так и грустно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Нет, не жду от жизни ничего я.
И не жаль мне прошлого ничуть…
«Я жду и я жалею», – бормочет он спросонок, а ответить себе же, что ждет и о чем жалеет, – он не в состоянии. Мысль скользит по вязкой синеве лунным зайчиком. И ловить ее ему не хочется. «Она меня сама ведет», – лениво думает он. И снова слышит себя, уверенно декламирующего то, чего никогда не помнил. То, что в юности читал. То, что, его впечатлило. Но этого он не заучивал.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края…
… Без сожаленья и участья
Смотреть на землю станешь ты.
Где нет не истинного счастья,
Ни долговечной красоты.
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить… 7
Это же «Демон», – с радостью узнает он. И вдруг чувствует и видит, как возглас радости его, срываясь, летит в бездну. И все меняется. Ни зги. Темь, тучи, рев моря и злой ветер. И, аки волки, щёлкают искрами звезды…
Он задыхается. Ему страшно. Мгла свинцовой грудью плющит камни и людей. И во всполохах молний он видит, как, извиваясь в судорогах и, обливаясь кровью, пропадает целая страна. Пропадает в муках. И он слышит отчаянный детский крик: «Не убивайте, дяденька!»…
Рядом с ним еще кто-то. Его появление Семена нисколько не удивляет. Не удивляют и странные одежды его. Так одеваются арабы в жарких странах. Шелковый платок закрывает лицо. И карие с бездонной грустью глаза его, никуда не смотрят, но видят все. Он сидит на камне. Выпростав из хитона правую руку, он перебирает четки. Семен впивается глазами в его тонкие пальцы. Нет, не на пальцы, а на один, указательный. На нём, небесной звездой, сверкает перстень. Он гипнотизирует. Он властно тянет к себе. Семен наклоняется к перстню, а на нем лазурью небес, арабской вязью, на древнем иудейском – «Все пройдет!»
Семен с благоговением поднимает взгляд на царя царей. Соломон не смотрит на него. Но он видит его. Он понимает его. И с невыразимой скорбью во взгляде, блуждающему по далям, кивает головой. Семен слышит его, хотя он молчит. Семен понимает его, хотя он не говорит.
5.
– Рони! Рони! Включай телевизор! Быстро! – кричит Нэнси.
Встревоженный крик жены выбрасывает Рейгана из дремоты. Пока он выпутывался из пледа, пока искал, всегда не кстати, исчезающий пульт, уже ничего интересного на экране не было. Только диктор, чему-то улыбаясь, говорил: «А теперь о погоде. Она, как сообщили нам синоптики, в северной части страны ожидается холодной. Будем надеяться, не такой холодной, как в Сибири, где женщины, чтобы согреться, отвешивают оплеухи сильным мира сего…»
– Что за ахинею он несет!? – раздраженно кривится Рейган и собирается нажать на красную кнопку.
– Не надо, Рони. Через пятнадцать минут повтор. Это стоит посмотреть.
– Что, убиенные Кеннеди гоняются по Бродвею за Джонсоном?.. Весь народ Ким Чен Ира околел от голода?.. Цунами накрыл Париж?..
– Смешнее, Рони… Сам увидишь, – обещает она.
Состроив капризную мину, Рейган с вопрошающей требовательностью смотрит на жену. А она, загадочно улыбаясь, молчит. Рейган злится. Нэнси знает, что он злится. Это хорошо. Когда он раздражен, у него не случаются провалы в памяти. В расслабленном состоянии забывает даже, что она – это она, его благоверная. Буквально днями, когда Нэнси подкладывала ему под одеяло электрогрелку, он задрыгал ногами и крепко, вцепившись ей в локоть, спросил: «Кто ты?!»
«Не пинайся, Рони! Хватит лицедействовать! Мне больно», – возмутилась она, полагая, что муж притворяется.
А он, отпрянув к спинке кровати и, подобрав под себя ноги, заорал: «Нэнси! Нэнси, бегом сюда! Тут чужая женщина. Подкладывает под меня ток».
Тогда Нэнси и поняла: он не шутит. Эта странная болезнь дала о себе знать вскоре после того, как они из Белого дома переехали к себе на ранчо. Сначала ее симптомы не очень пугали ее. Она относила их к склеротическим чудачествам мозга. А потом не на шутку испугалась… Эта напасть прогрессировала на глазах. Рони терял ориентацию, начисто забывал где находится. Однажды, гуляя в саду, неподалеку от дома, она вдруг услышала его, полный жуткого страха, панический зов: «Кто-нибудь! Ради бога, кто-нибудь! Помогите!..» Почти вся прислуга изо всех щелей ранчо бросилась на его крик.
Накинув на себя пончо, поспешила и она.
Рони стоял в окружении челяди и, явно никого из них не узнавая, спрашивал: «Вы знаете кто я?» «Да, сэр, знаем» – в разноголосицу отвечали они. А он, не слыша их, говорил: «Я – президент США Рональд Рейган!» И просил вывести его отсюда. Подбегавшую Нэнси он узнал сразу и бросился к ней: «Ты тоже здесь?! Давай выбираться из этих чертовых джунглей… В какую сторону идти, знаешь?..» «Конечно, милый», – отгоняя от него прислугу, улыбалась она.
Что стоила ей эта улыбка – один бог знает. Сердце обмерло от дебильного взгляда и резких взмахов рук мужа, словно ощупывающих и что-то раздвигающих вокруг себя.
«Пойдем, я выведу тебя. Мы рядом с домом», – говорила она, а он через каждый шаг дергал ее за плечо и шептал, что они идут не туда…
«Вот и наш дом, милый».
«Ты что, Нэнси, совсем рехнулась?.. Это не наш дом!»
«Идем, Рони! Не упрямься! Все будет хорошо…» – она буквально тащила его по ступенькам.
Уже в прихожей он огляделся, прошел к дверям смежной комнаты, толкнул ее, посмотрел вовнутрь, а потом, обернувшись к жене, не без растерянности произнес: «Так мы дома…»
«Конечно, милый».
«Я к себе в кабинет… Распорядись, пусть принесут нам туда по чашечке горячего кофе…»
«Кофе сейчас ни к чему.. Лучше чая».
«Да, чая», – безропотно соглашается он.
Отдав распоряжение прислуге и, позвонив к их лечащему врачу, Нэнси поднялась к нему.
Рональд сидел в кресле, обхватив руками голову. На звук открывшейся двери он, не отнимая рук и, не открывая глаз, спросил: «Нэнси, милая. Что со мной было?»
«Откуда ты знаешь, что это я вошла?»
«Я тебя по походке и по запаху с закрытыми глазами узнаю из миллионов женщин».
Она положила руку ему на плечо. Прижавшись к ней щекой, Рональд, обжигая ее горячим дыханием, негромко и виновато, стал объяснять ей, что произошло.
«Я гулял и вдруг оказался в африканских дебрях… Или еще где… Ты меня подвела к дому, а я его в упор не узнавал… Только в прихожей я пришел в себя… Что со мной, Нэнси?»
«Такое бывает. Это явление склеротического выплеска», – чтобы успокоить его, сходу выдумала она.
После уколов и процедур, прописанных ему доктором психиатрии Квентином Томпсоном, с недели две, а может и больше, ничего подобного с ним не происходило. Рони посвежел, заискрился, стал таким же подвижным и энергичным, как и прежде. Она радовалась, наблюдая, как он в вольере, у конюшни, самозабвенно носился по кругу со своим любимым жеребцом. И уже смотрела сквозь пальцы на то, что Рони отказался пить прописанные Квентином пилюли. И очень скоро ей пришлось пожалеть об этом.
Его сорвало с резьбы в самый неподходящий момент. Хотя подходящих моментов для таких случаев не бывает… Они с ним сидели в гостиной, когда раздался тот телефонный звонок из Мальты. После такого недоразумения Нэнси не могла найти себе места. Надо было, во что бы то ни стало, загладить его, и она попросила соединить ее с Бушем.
– Джорди, дорогой, это снова я, Нэнси. Я в шоке. Представляю, каково тебе. Это не он с тобой говорил. Его мерзкая хворь. Ты же знаешь, как он тебя любит…
И она рассказала обо всех странностях, что в последний год происходили с ее мужем.
– Нэнси, дорогая, я понимаю тебя. Чем я могу помочь?..
И Нэнси, невозмутимая Нэнси, которую в Белом доме называли «Усмешка алмаза», всхлипнула.
– Не надо Нэнси. Успокойся…
Уже не сдерживая рыданий, она успела только пролепетать:
– До свидания, Джорди… Извини…
После этого случая Нэнси уже не позволяла ни себе, ни ему расслабляться. Строго следила за графиком приема лекарств. Следила, да не уследила. Рони стал обманывать ее. И делал это искусно.
– Фу, какая гадость! – передергивал он плечами, делая вид, что, разжевывая, глотает вложенную ему в рот пилюлю.
Долго морщится и жалобно спрашивает: «Этому чертову курсу когда-нибудь конец настанет?»
«Когда настанет – Томпсон скажет», – отвечала она.
«Значит, его надо подкупить».
«Он врач. А врачи неподкупны».
«Врачи, как и все люди, только и ждут, чтобы их подкупили», – хохочет Рейган.
Нэнси уходит довольная собой, а он, не менее довольный, сует невыпитую таблетку в карман. Не выкидывал в форточку, не бросал и в корзину для бумаг. Ушлая Нэнси в корзине обязательно пороется, а под окном уже для слежки выставила кого-нибудь. А Рональд хитрее ее. Он зашвырнет пилюлю в конский навоз. Его-то ворошить никто не станет.
Сколько этот обман продолжался, Нэнси не знала. Вероятно, не день и не два. И в один из вечеров, когда они смотрели последние новости, хворь снова высунула свою мерзкую рожу.
– Ты смотри, кого показывают! – делая звук громче, говорит она.
– Кто это? – спрашивает он, равнодушно глядя на экран.
– Как кто?! Ельцин. Русский президент. Ты же его знаешь.
– Первый раз вижу. Никогда с ним не встречался.
– Не встречался, но знаешь. Не ты ли, когда транслировали его инаугурацию, вытащил меня из постели, чтобы я посмотрела, на твоего крестника?..
«После встречи с глазу на глаз, – комментировал репортер CNN, – канцлер Германии Гельмут Коль и президент России Борис Ельцин прибыли к месту Берлинской стены, где проходило народное гуляние. Здесь их ждали. Слышите? Люди скандируют: «Ельцин! Ельцин!»…
Затем комментатор умолкает. Идет видеоряд. Ельцин оттесняет от оркестра дирижера и вместо него, стараясь под такт игры музыкантов, размахивает руками. И, дирижируя, он, неуклюже дергаясь, начинает танцевать.
«Вероятно, – снова вступает комментатор, – встреча с глазу на глаз сопровождалась обильным ужином. Я слышу слова моего коллеги, журналиста из «Фигаро». «Я многое видел, – говорит он. – Мне казалось, что меня на свете ничего больше удивить не может. Но этот танец русского медведя – из ряда вон!»… Не могу не согласиться с ним. Это – нечто для Книги Гиннесса»…
– И ты утверждаешь, что я его знаю? – собравшись в колючий ком, бурчит Рейган.
– И утверждаю, и настаиваю! – обернувшись к нему, ледяным тоном произносит она и натыкается на уже знакомый ей бессмысленно блуждающий его взгляд.
«Началось», – мелькнуло у нее.
– Нэнси! – вскипает он. – Почему ты всегда внушаешь мне всякую чушь?! Тебе так и хочется сделать из меня сумасшедшего! Я первый раз вижу этого человека! – Рейган со всего размаха бьет кулаком по журнальному столику. – Я никогда… – начал было он и… осекся, заворочался, смутился и как-то сразу сник.
– Что с тобой, Рони?
– Не понимаю, – бубнит он. – Прости. На меня опять нашло… Это Ельцин… Я его знаю…
И тогда он признался, как обманывал ее.
– Квентин, – делилась она с доктором, – меня удивило неожиданное просветление.
– Такое бывает. Адреналиновый синдром.
– Что это значит?
– При стрессах, гнев то или что другое, происходит выброс адреналина. В таких случаях может наступать просветление.
После того инцидента она не спускала с мужа глаз. И теперь, после приема лекарств, Нэнси обыскивала его, как заправский полицейский. Он послушно раскрывал рот, показывал руки, выворачивал карманы…
После очередного осмотра Томпсон констатировал, что реакции у него адекватные и советовал все-таки не спускать с него глаз. Мнение врача ее обрадовало.
И это его раздражение, связанное с тем, что он не успел к телевизору, тоже было естественным и, как любил выражаться Квентин, адекватным.
…Блок новостей начался ровно через четверть часа. И начался с того сюжета, ради которого Нэнси выдрала мужа из наваливающегося на него сна.
«В России снова кипят страсти, – начал ведущий. – Предвыборные. В этой гонке за кресло главы государства, неожиданно для всех, принял участие лауреат Нобелевской премии, положивший конец «холодной войне», экс-президент СССР Михаил Горбачев. Команда экс-президента рассчитывала на триумф и на то, что у Ельцина, вновь выдвинувшего себя на переизбрание, шансов не останется. Ряд независимых политологов и известных экономистов России не раз выступали с критикой ельциновской политики, которая, установив бандитскую анархию в приватизации вчерашнего народного хозяйства, посадила страну на иглу многомиллионных зарубежных кредитов и, по причине отсутствия в казне денег, привела к полному параличу хозяйственной деятельности, массовой безработице и сотрясающим общество забастовкам рабочих, семьи которых сидят без зарплаты и голодают. Все это и плюс криминальная обстановка, утверждают аналитики, сводят шансы нынешнего президента на переизбрание к нулю. Однако, по их мнению, еще более низкий рейтинг, чем у Ельцина, у лауреата Нобелевской премии, экс-президента СССР Михаила Горбачева. Каждый из нас вправе задаться вопросом: почему? Ведь он видный международный деятель, большой друг американского народа и его любимец… На этот вопрос, дорогие телезрители, лучше всяких слов вам ответит видеосюжет, полученный нами буквально в этот час из сибирского города Красноярска. Накануне Горбачев со своей командой десантировался туда для встречи со своим электоратом. Предрекаемый окружением экс-президента триумф обернулся постыдным конфузом. Впрочем, смотрите и делайте вывод сами»…
…Масса людей. Выражение лиц у всех разное – натянуто-ликующие, напряженные и отрешенно-безразличные.
Звучит характерный, узнаваемый голос Горбачева: «С такими людьми я сделаю Россию процветающей»… Издалека микрофон улавливает едва слышимую чью-то реплику: «Ты сделал уже СССР»…
Претендент подходит к первому ряду толпы. Из нее к нему делает шаг женщина и наотмашь, пятерней бьет его по щеке и кричит: «Иуда!»…
Растерянное лицо претендента. Охрана набрасывается на женщину…
Нэнси с любопытством смотрит на мужа. От шока у него отвисла челюсть. Он отказывался верить своим глазам.
– Ну и ну! – наконец выдохнул он.
– Возможно, эта та самая женщина, дневник сына которой мы с тобой читали.
– Может быть, – задумчиво роняет он…
Видеоряд закончился, и диктор, с сардонической улыбкой, продолжил:
«Вот такой конфуз произошел на ледяных сибирских широтах. У нас комментариев нет. А у вас?»… – интересуется он, в упор уставившись на чету Рейганов.
– Что он за слово подобрал – «конфуз»? – фыркнула Нэнси. – Это не конфуз, а позор!
– Нет, милая, это оценка. Мы ему – Нобеля, а она ему – оплеуху.
– Может, позвонишь?.. Посочувствуешь…
– Не ерничай. Он и так, наверное, затаил на меня обиду.
– Хорошенькое дело, – встрепенулась Нэнси. – Чем, интересно, ты так ему досадил?
– И я и Джорди… Джимми Бейкер после возвращения из своего последнего сентябрьского визита в Кремль позвонил ко мне и сообщил: «Горби хнычет, как перед алтарем обманутый женишок»… Видишь ли, он пеняет мне и Бушу за то, что мы забыли о своих обещаниях…
– Политика и бизнес стояли и будут стоять на мнимых посулах… Что, он этого не знал?!
– Интересное кино получается, – закутываясь в плед, говорит Рейган.
– Ты об этом? – показывает она глазами на телевизор.
– И об этом, и о другом… Один, что обрушил, получает Нобелевскую премию и вселенскую пощечину, а другой на тех руинах во хмелю отплясывает…
– Погоди, Рони. Сделай погромче. Он что-то еще говорит, – просит Нэнси, вперившись в экран.
Диктор смотрит на протянутый ему лист бумаги. Быстро пробежав по нему глазами, он интригующе произносит:
– А вот только что нами получено сообщение, проливающее свет на произошедшее… Как утверждают компетентные органы, женщина, совершившая столь дерзкий поступок, – из контингента местной психиатрической клиники. Однако оппозиционная газета «Красноярский вестник» в репортаже о пребывании Михаила Горбачева в Красноярске по увиденному нами факту пишет следующее:
«Гражданка Козырева (по мужу Аглиуллина) Галина Филипповна имеет средне-техническое образование и 23 года работает чертежницей в конструкторском бюро одного из военных заводов. Последние 10 лет она возглавляла группу чертежников при главном конструкторе предприятия. Как и большинство тружеников края, доведенная до отчаяния невыплатой заработанных плат, пенсий и пособий, пошла на этот шаг протеста вполне осознано, находясь в здравом уме и твердой памяти.
Вырываясь из рук схвативших ее мордоворотов, охранявших лауреата Нобелевской премии Горбачева, Галина Козырева кричала: «Все несчастья от него!»
Наш корреспондент выяснил, что Галина Козырева-Аглиуллина одна воспитывала двух детей. Муж после травмы, полученной им на том же предприятии, умер. В Афганистане погиб ее единственный сын. Сейчас она с дочерью, и у них за душой – ни гроша. Так что усиленно муссируемая официальными органами версия о том, что она психически неполноценна – ложь…
– Кажется, фамилия та же, что и у той женщины, что проходила у нас по Сводному отчету, – потирая виски, припоминает Рейган…
6.
Парень был бакинцем. Семен мог это распознать с закрытыми глазами. По манере говорить. У бакинцев она своя. И совершенно никакого значения не имеет, кто перед тобой – мужчина или женщина, азербайджанец, русский, еврей или татарин… Он – бакинец. Казалось бы, говорит на русском, причем на чистейшем русском, а говорок не таков, какой услышишь в Москве, Питере и тем более в Вологде.
Что, правда, то, правда: он у всех свой. Но бакинский разговорный мотивчик особенный. Восток во славянстве. В нем резкость, вышедшая из нобелевских бараков Черного города, приблатненный жаргон Чемберекенда, Баиловская ершистость портовых грузчиков и моряков, крикливость аробщиков и темперамент забытой ныне Кубинки – знаменитой Бакинской толкучки… А над всем этим – рафинированная интеллигентность незабвенной Торговой, где можно было встретить тех, кого не видел лет сто… Затем часть Торговой горожане прозвали улицей «Миллион за улыбку». Это потому, что за несколько дней до приезда в Баку Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева этот отрезок улицы, ведущий к бульвару, выложили плитами. Для тех времен удовольствие редкое и дорогое…
Паренек, что стоял в дверях лаборатории Мишиева, всего этого мог не знать. Он был слишком молод. И та ностальгия, какую испытывал Семен, ему была неведома.
По первой же фразе, вылетевшей с его губ, Мишиев, не оборачиваясь, безошибочно определил: бакинец.
– Лаборатория Семена Давудовича Мишиева, да?
Это вопросительное «да» и правильно выговоренное его отчество не оставляли никаких сомнений – земляк. Наверное, единственный на весь Гарвард. Только земляк мог назвать его Давудовичем, а не Давидовичем. Только он мог знать, что у «горцаков», как называли в Баку горских евреев, есть имя Давуд. Семен улыбнулся про себя, вспомнив совсем забытое слово «горцак». Ничего обидного и оскорбительного в нем не было. Просто разговорное и изобретенное, скорее всего, самими евреями. Для краткости. Так, русских называли «хохлами», а азербайджанцев – «амшари». Но лишь за глаза, потому что оно для них звучало оскорбительно. Точно так же, как и для армян, которых из-за неумолкающей трескотни и трепа называли «скворцами» или «скворами».
– В Гарварде вы один?
– Да.
– Какие-нибудь проблемы? – чисто по-американски, но доброжелательно поинтересовался Семен, полагая, что других причин выходить на него у парня быть не могло.
– Зачем? – насупился студент.
И Мишиев едва не рассмеялся. «Зачем?» вместо «Почему?» скажет только бакинец.
– Не обижайся, мало ли зачем? Земляк на чужбине – это родственник, – сказал Семен и добавил:
– Я всегда готов помочь, если это в моих силах.
– Я вчера вернулся из Баку. Привез вам приветы.
– Мне?! Кто меня там теперь знает? – вскинулся Мишиев.
– Моя тетка и ее муж знают, – улыбнулся парень.
– Как зовут тебя?
– Аяз… Панахов…
Перебрав в памяти всех близких и далеких знакомых, Семен, выпятив губы, произнес:
– К сожалению, Панаховых не помню.
– А моего амишку8 Кулиева Пярвиза и Елену Марковну точно знаете.
И сердце, невольно исторгнув стон, с щемящей болью обрушилось в бездну. Он о них ничего не знал – ни где они, ни что с ними?.. И вот!.. Пусть кто попробует ему сказать теперь, что нет беспроводной связи между близкими людьми! Они с Ивушкой как раз в эти дни вспоминали о них. Наверное, в тот момент, когда они там говорили о них с этим мальчиком…
– Так ты племянник Пярвиза?.. Как они там? Расскажи! – схватив парня за плечи, трясёт он его.
– Все хорошо. Дядя Пярвиз в медицинском институте заведует кафедрой фармакологии, а тетя Лена ректор частного медицинского колледжа. Живы-здоровы…
– А Марик?.. Их сын.
– Он живет в Москве. Чуть ли не президент какого-то банка.
– Садись! Садись, родной мой, – подтащив парня к стулу, просит он. – Мы о них с женой столько раз вспоминали. Думали, что они уехали в Израиль.
– Даже когда им было трудно, они этого не хотели. А те, кто уехал, бала-бала9 возвращаются. Открывают свои дела…
– Как? Как они узнали обо мне?
– От меня.
– Не понял, – опешил Семен.
– Да, э, да! От меня.
За это «да, э, да!» Мишиеву хотелось расцеловать парня. «Что значит бакинец, черт его побери!»
– А ты откуда узнал?
– Вы даже не поверите! Я узнал о вас на Беркутинах.
– Мальчик мой! – задохнувшись от услышанного, потянулся он к нему… – Каким образом? Где Беркутины? Где ты?
– Это вы далеко, а мы…
– Нет, не далеко, мой дорогой, – перебивает он.– Недалеко. Они у меня здесь, – Семен жмет ладонью сердце.
– Я туда езжу рыбачить. Лучшего места на Каспии, пожалуй, нет… Там божественная аура…
– И Рыбий Бог.
– Да, древний старик, которого там так и зовут.
– Ты его видел? Как он?
– На вот-воте10, как говорит мой друг, абориген тех мест Вячеслав Дрямов. Но держится. Иногда выходит на своем кулазе к Беркутинам… Обязательно под присмотром Вячика.
– Внука Белого Берша, – уточняет Семен.
– Он самый. Его дед – «Аллах ону ряхмят элясин!»11 – лет пять назад как умер. – Аллах ряхмят элясин! – склонив голову, шепчет Семен. – Мне Славенок писал об этом.
– Он говорил… Говорил, что вы послали тогда ему тысячу долларов. 500 на поминки и 500 Рыбьему Богу… Узнав, что я учусь в Гарварде, Вячик сказал мне, что вы здесь работаете, и очень просил передать вам письмо.
– Давай! Где оно?
– На квартире. Ни его, ни презентов я не захватил. Не думал, что так быстро вас отыщу. Я побегу за ними, – вскакивает студент.
– Далеко живете?
– Через полчаса буду.
– Давай на моей машине.
Уже выруливая из университетского городка, Семен вслух, больше самому себе, чем Аязу, раза два повторил: «Значит на вот-воте?»
И студент, дважды отзываясь, подтверждал:
– Так говорил Вячик
– Наверное, подрабатываешь? – поинтересовался Мишиев.
– А как же! Не грузить же отца с матерью.
– Где?
– Что где?
– Подрабатываешь, – уточнил Семен.
– Официантом. В день хозяин платит 60 долларов и чаевые бывают…
– Устаешь, небось?
– Еще как, Семен Давудович. Иногда на лекциях носом бычков поклёвываю. Сейчас Рождественские праздники и хозяин обещал платить вдвое больше. Работы будет много… Поэтому поспешил приехать.
– Давай бросай это. Переходи ко мне. Мне нужен помощник. В месяц 1700 долларов.
– С удовольствием, Семен Давудович!.. Вы серьезно?
– Серьезней не бывает.
– Спасибо. Мои одногруппники, как узнают, обалдеют!.. Многие у нас мечтают устроиться при университете.
– Вот и ладушки! Сегодня 22-е… Сразу после рождественских и выходи.
– Всё, приехали! Остановитесь.
Снимаемые им комнаты, находились на втором этаже особняка и были уютными и прибранными.
– Сам убираешь?
– И сам, и хозяйка. Не люблю кавардаки, – открывая шкаф, где стоял чемодан, кивал Аяз.
– Молодец!
– Вот!.. Эта коробка с пахлавой от дяди Пярвиза и тети Лены, а это баночка черной икры из Беркутин от Рыбьего Бога и Вячеслава.
Запустив руку в боковой карман чемодана, он выуживает конверт.
– Вот и письмо… Кстати, вам интересно, как дядя Пярвиз и тетя Лена узнали о вас?
Семен развел руками, мол, само собой.
– Когда я собирался, они были у нас. И тетя Лена увидела этот конверт. На нем, видите, написано: Бостон, Гарвард, Мишиеву Семену Давудовичу (лично в руки). Вы не представляете, какой шум поднялся…
Взяв конверт, Семен, не мешкая, вскрыл его и стал читать.
Здравствуйте, Семен Давудович!
Выдалась неожиданная оказия. Мир, ей богу, тесен. Вдруг выяснилось, что Аяз учится в том же университете, где вы работаете. Завтра вечером он вылетает в Америку. Спешу черкнуть пару строк.
Рыбий Бог держится молодцом, хотя заметно сдал. Ничего не поделаешь, скоро ему будет 103 года. Как вы велели, глаз с него не спускаю. Не голодает, но часто прихварывает. Не считается со своим возрастом. Недавно прибегает ко мне поселковая ребятня, которым я наказал следить за каждым его шагом, и говорят, что Рыбий Бог с утра ушел на кулазе к Беркутинам. Смотрю в бинокль, весляк вижу, а его нет. Прыгаю в моторку и туда. Он сидел на обратной стороне скалы. Сидит и смотрит на закрой12. Глаза слезятся, а он даже не мигает. И дрожит. Говорю ему: «Пошли домой, Рыбий Бог». А он смотрит на меня и спрашивает: «А где он?»
Спрашиваю: «Кто?» Он говорит: «Лебедь»… Я говорю: «В Америке». «Значит, приснилось», – сказал он. Он часто вас вспоминает.
После этого сильно заболел. С трудом отпоили его отварами местной знахарки. Врачи к нему не едут. Говорят: старый. Прежде можно было кому жаловаться, а сейчас некому. И вообще стало непонятно, чей хер в чьей заднице.
Намедни, перед приездом Аязика, он снова сел в весляк. Я к нему, мол, что ты делаешь, старче? Ведь только оклемался. А он говорит: «Не беспокойся, Славенок, я не отдам концы, пока не приедет Семен». Я ему в сердцах: «Он никогда не приедет». Балаш помолчал, а потом, как дитя, улыбнулся и сказал: «Значит, я никогда концы не отдам»…
У него все хватает. Все есть. Фирма «Копченые кутумы» приносит неплохую прибыль. У многих фирмы открываются, а через месяц-другой лопаются. Налоги сумасшедшие. Мы же с Божьей и вашей помощью становимся на ноги. На Святом думают, что у Балаша в Америке есть сын миллионер и он посылает ему большие деньжищи – по 300 долларов в месяц.
Спасибо вам и дай вам Бог здоровья. Вам и семье. Минутку. Он зашел. Я пишу в его домишке. Он что-то хочет дописать.
«Симон, сынок, это я, Рыбий Бог. Как сынишка? Пришли хотя бы фотографию… Постараюсь дождаться. Прощай. Балаш».
Вот и все, Семен Давудович. До свидания. Ваш Вячеслав Дрямов.
Глаза ущипнули слезы. Делая вид, что дочитывает, Семен отворачивается от парня. Ему не хочется, чтобы он видел их.
– А от Пярвиза с Леной писем не было? – пряча в карман конверт из Беркутин, интересуется он.
– Они писали. Наверное, забыли дать.
– Ничего. Давай собирайся, едем ко мне, – повелительным тоном распоряжается Семен.
– Как?.. – растерянно говорит он. – Нельзя… С пустыми руками…
– «С пустыми руками…» – передразнивает он. – Оставь свои бакинские штучки! Поехали! Познакомлю со своими.
Рива страшно удивилась, когда увидела, как из подъехавшей машины, вместе с Семеном, вышел незнакомый ей молодой человек с явной кавказской наружностью. Никогда, сколько они здесь живут, порог их квартиры посторонние люди не переступали. У крыльца, из кустов, в Семена бросили снежок, угодивший ему в плечо.
– Аяз, пригнись! – с трудом сдерживая смех, командует он. – Мы попали в засаду! В нас стреляют!.. Окружай их. Ты – слева, я – справа…
И через мгновение в руках Мишиева уже барахтался заснеженный Бахазик.
– Не имеешь права! – пищал он. – Я тебя уже убил…
– А я был в бронежилете.
– Какой ты хитрый! Так мы с тобой не договаривались.
– Хорошо, следующий раз я не стану надевать бронежилет, – пообещал он, ставя мальчика на ступеньки крыльца. – А теперь познакомься. Этот дядя – наш земляк. Он из нашего родного Баку. Зовут его Аяз.
– Я Бахаз, – протянув незнакомцу руку, представился мальчик.
Подхватив сына под мышку, они все вошли в дом.
– Ивушка! Ива, – отряхивая сына от снега, звал он жену.
Рива отозвалась тотчас же.
– Принимай своего боевика-снеговика и гостя.
Поприветствовав гостя улыбкой, она бросилась к сыну, выговаривая ему за то, что он ее не послушал и вывалялся в снегу.
– Снег чистый, – сказал Аяз.
– Не в этом дело. Он может застудиться.
– Ивушка, познакомься! Это племянник Пярвиза – Аяз.
– Да ну?! Реночкин сын?
– Вы знали маму?
– Конечно. И тебя малышом видела. Тебе было годика три…
– А я не помню.
– Он учится у нас, – вставил Семен. – И привез презенты. От Пярвиза с Леной и из Беркутин от Рыбьего Бога…
– Как?! И из Беркутин?! – ошалело посмотрев на мужа, воскликнула она.
– Это икорка, а это коробка пахлавы от Пярвиза с Леной.
– Воистину, пути Господни неисповедимы! – распаковывая коробку, восторженно замечает жена.
– А нам ни строчки не написали, – пожаловался Семен.
– Как не написали?.. Вот! Вот их записка! На пахлаве…
– Дай прочту! – тянет руку Семен.
– Нет! Я нашла. Я и первой прочту, – отпрянула она.
– Тогда вслух, – требует он.
Дорогие, родные наши Семен и Ивушка!
Вам, наверное, часто икалось. Не было дня, чтобы мы не вспоминали о вас. Столько хочется всего вам сказать! И столько всего хочется услышать от вас!.. Слов нет!..
Теперь вы нашлись. То есть мы нашлись. Если у вас есть электронный адрес, сообщите Аязику, а он даст вам наш.
Целуем! Целуем! Целуем! Ваши Пярвиз и Лена.
P.S. Семен, имей в виду, если будешь лениться писать, я по Интернету всему миру расскажу о твоем медведе… Лена.
Рива исцеловала бумажку с Леночкиным почерком, поцеловала Аяза, принесшего в дом нежданную радость, и стала накрывать на стол. Если и существует в мире седьмое небо, то в эти минуты оно было с ними. И Бахазик, затеявший борьбу с гостем, тоже барахтался в нем. Хорошо было и Семену. Но не так, как им. На душе скребли кошки. Ему было не по себе. И он знал почему.
– Я на минутку поднимусь к себе, ребятки, – вставая из-за стола, сказал Семен.
– Нет! – возразил Бахазик. – Сначала посмотри, как я его уложу на лопатки…
– Какой он сильный, дядя Семен. Настоящий пехлеван13, – нарочито кряхтя под мальчишкой, подмигнул Аяз, а потом, стукнув себя по лбу, прошептал:
– Совсем забыл, Бахаз! Я же тебе принес подарочек.
– Да ну?! – соскочив с Аяза, обрадованно воскликнул малыш.
Они вприпрыжку побежали в переднюю. Семен знал, что за подарок. Перед тем, как уйти из квартиры, Аяз положил в целлофановый пакет два здоровущих красных граната и хурму.
– Я минут через пять спущусь к вам полакомиться подарком, – крикнул им вслед Семен и скрылся у себя в кабинете.
Собравшись с мыслями, он решительно подошел к телефону и нервно завертел его диском. Только на пятом гудке трубка ожила голосом Центуриона.
– Добрый вечер, Алекс.
– О! Сэр! Добрый вечер! – сердечно отозвавшись и, выражая искреннюю радость его звонку, одновременно, обращением «сэр», Вульфсон давал понять, что он не один.
– Я не задержу. Я к тебе за помощью, Алекс…
– В чем дело? – со встревоженной требовательностью спросил он.
– Мне нужно в Баку… Срочно. Если не будет твоей команды, мой шеф меня не отпустит.
– Что случилось?
Сглотнув подступивший к горлу ком, Мишиев тихо произнес:
– Умирает Рыбий Бог.
– Вот как?! – небольшая пауза. – Понятно!.. Вам немедленно надо выезжать. Рождественские праздники не причина откладывать командировку. Сейчас, сразу после совещания, я распоряжусь по этому поводу. Проблему, которая вас тревожит, я сниму.
– Спасибо, Алекс.
– Я еще позвоню. Проверю, как исполнено.
Они друг друга поняли. Центурион, много раз слышавший о Рыбьем Боге, хорошо знал, что он значил для Мишиева. И ему хорошо запомнился тот вечер в Бостоне, когда Семен несколько раз вслух зачитывал им всем письмо, пришедшее из острова Святого от парня, который, судя по всему, ухаживал там за стариком и был ему компаньоном в каком-то мало понятном для Алекса деле.
«Нет, вы послушайте… – возбужденно просил он и, недовольно посмотрев на жену, шептавшуюся с Милой, упрекнул:
– Не отвлекай человека. Людмила Дмитриевна, послушайте… Вот:
… Семен Давудович, поселок Копченых кутумов теперь не узнать. По старой памяти местные пока еще называют его «Поселком копченых хибар», а так Зинаида, жена моя, когда собирается туда, говорит: «Пойду к Белой чаечке». Все известные вам хибарочки Рыбий Бог велел расширить, отштукатурить и выкрасить белой фасадной турецкой краской. Ко всем домишкам я лично провел электричество. Теперь он «хитачествует». Так говорит он сам – потому что телевизор, холодильник и микроволновая печь у него марки «Хитачи». Все время вас поминает добрым словом. «Благодаря Лебедю, – говорит он, – мне довелось увидеть цивилизацию»… Правда, электричество очень экономит. После того, как под конец месяца ему принесли счет на 80 долларов. Он так переживал. Ведь пенсия у него в пересчете на баксы всего 8 долларов. Такие пенсии здесь у всех бывших работяг. Как они живут на эту деньгу – непонятно. Многие попрошайничают. Проклинают Горбачева и Ельцина… Короче, заставил меня поставить ему дровяную печку и еще заставил купить керосинку, чтобы готовить не на прожорливой электроплитке…
– Сема, мы это уже слышим третий раз, – попеняла ему жена. – Ну, молодец ты! Молодец! Ничего не скажешь!
Семен смутился. Покраснел.
– Вы так меня поняли? Да? Я не для того это читаю, чтобы сказать, какой я хороший… Просто я радуюсь тому, что кому-то где-то хорошо… – сжав от обиды губы, он сунул письмо в карман и выбежал из комнаты.
Поэтому, наверное, Центуриону запомнился текст того письма.
Глава двенадцатая
РВАНАЯ ЩЕКА
Пытальщик Ашуг. Эскадронщик. Антихристы. Ветер с «Ягодной поляны».
1.
В мире людском властвует не разум, а сила. Элементарная, животная, дикая сила. Именно она и ничто кроме неё не нормирует жизнь. Идея без гильотины – демагогия. Только гильотина делает ее символом власти. Только гильотина, спекулируя на любви к Родине, заставляет защищать государство, поставленное на той Идее. Только она принуждает быть покорной ей.
Как ни печально, до людей все доходит через кулак. Даже идеи Христа и Магомета становились религиями не словом и не чудесами своими, а силою. И хотя люди, загадочными недрами своего сознания, верят им и тянутся к ним, они все-таки, как околдованные, следуют не путем Пророков, а, корячась, ползут по беспутице их толкователей.
Они не могут иначе. В этом их роковой порок, в обнимку с которым они идут со дня пришествия. И будет так либо до очередного Вселенского потопа, либо до следующей Всемирной пакости.
Нет! Нет у людей того единого понимания, что делало бы их Человечеством. Они, конечно же, мыслящие. Думающие. Да вот мыслят, судят и чувствуют по-разному и в соответствии этому живут и действуют. Люди – скорее думающий сброд, чем Человечество. Как такового Человечества нет. Нет потому, что нет в нем объединяющей его разумности.
И совершеннейшая ерунда, когда говорят, что есть люди, которые выдерживают пытки. Таких нет! Их вынести невозможно. Разве только в одном случае. Когда тот, кто прежде чем начнет признаваться в том, что было и не было, не испустит дух. Это величайшее избавление. Подарок небес… Но кто бы знал, какая это трагедия для пытальщика.
Если бы Мир Джафару не довелось видеть этого собственными глазами, он никогда и никому бы не поверил, что такое может быть.
Пытальщик Шукурани, по прозвищу Ашуг, в руках которого умер бывший ректор Бакинского университета, скрипел зубами и… плакал. Не от жалости и раскаяния. А от досады и злости… От досады, что перестарался. И от злости к переставшему извиваться и просить пощады распростертому у его ног телу. Оно, что больше всего выводило из себя пытальщика, смотрело на него как на пустое место. И Шукурани, ухватив ректора за уши, исступленно молотил его затылком о кирпичную кладку подвала.
– Вставай, ограш14! Вставай! – требовал он.
Нет, не требовал. Скорее умолял. Умолял не потому, что боялся получить взбучку от начальства. Никто наказывать его не собирался. Он хорошо поработал. Во всем, что нужно было Дому на Набережной, ректор признался. И в том, что он убежденный мусаватист15, и в том, что на деньги, бежавшего из Баку, агента английской разведки создал контрреволюционную террористическую организацию, намеревавшуюся, вооруженным путем, отстранить большевиков от власти, и, что самое важное, в конце представленного ему следователем списка фамилий из 91 человека, под строчкой, выведенной рукой того же следователя – «Вышеупомянутые лица являются членами моей нелегально действующей организации» – он успел выкарябать свою роспись.
Пытальщик поработал на совесть. У него всегда получалось, как надо. Без проколов. При нем любое дохлое дело выстраивалось в ясный, логичный и доказательный сюжет. В конце каждого допросного листа, подтверждающего тот или иной факт, напротив строчки «С моих слов записано: верно» стояли подписи обвиняемых. Следователю оставалось всего лишь заранее составить и отпечатать текст того, в чем допрашиваемый должен был признаться. И всё. Остальное могло происходить без него. Работал один Шукурани. И как работал! Сцены не для слабонервных. И у следаков, по их же признанию, невольно возникала одна и та же страшная мыслишка: «Боже упаси попасться ему в руки»…
Все могло случиться в их конторе.
Как бы там ни было, Ашуг-Шукурани был нарасхват. Для работы, конечно. А так его сторонились. Избегали лишний раз общаться. Возле него было как-то холодновато и пахло, как от эксгумированного трупа, которого обильно полили «Шипром». Правда, на вид ничего отталкивающего в его наружности не было. Не какой-то там громила со скошенным лбом на крохотной головенке. Ничего подобного. Самый что ни на есть ангелочек. Невысокий, щупленький, чернявенький. Кучерявый комочек кротости с пугливыми глазами горной козочки.
Глаза… Эти глаза… Стоило ему увидеть допрашиваемого, они преображались. Становились страшнее самого страшного сна. Загорались жуткой зеленью, как у блуждающего в ночи и дрожащего от холода шакала. И кучерявый комочек кротости превращался в гнома-чудовища. Жадно трясущиеся его руки со сладострастием сексуального маньяка тянулись к связанной по рукам и ногам жертве и вживую рвали плоть. Он рвал и… напевал.
Багиров видел это собственными глазами. Слышал собственными ушами. Ему говорили о нем, а он не верил. Думал, врут. И вот тебе, на!.. Хотя слабонервным он не был и не страдал излишней впечатлительностью и многое повидал, будучи шефом ГПУ и НКВД, от такого он несколько ночей не мог спокойно спать. Да что ночей!..
От того увиденного им тогда, Мир Джафар не мог отвязаться всю жизнь. И когда он подписывал расстрельные приговоры Тройки, где говорилось о безоговорочном чистосердечном признании осужденного в шпионаже и намерениях вооруженным путем свергнуть большевиков, перед ним, хотел он того или нет, мелькала пещерная зелень глаз и вдохновенное, тихое пение пытальщика Ашуга…
Что ж, сам виноват! Захотелось, видишь ли, самому поприсутствовать на допросе. Нет, не затем, чтобы посмотреть на Шукурани в деле. Ему хотелось послушать арестованного недавно коменданта города Афоньку Тюрина, ухитрившегося через жену (добившуюся через него, Мир Джафара, свидания с мужем) передать адресованное ему письмо. То скорее было не письмо, а записочка, называемая на тюремном жаргоне «малява».
Дорогой Джафар, помоги! Невмоготу терпеть зверские пытки. Меня принудили подписать, что я «подлый английский шпион, вонючий троцкист, грязный ненавистник политики тов. Сталина». Ты же знаешь меня. За тов. Сталина я в огонь и в воду. Я один из тех, кто в Царицыне спасал его от тех же самых троцкистов. От людей Яшки Блюмкина. Я верный сталинец и ленинец. Никакой не шпион. Да, попиваю. По пьяни куражусь и несу всякую чушь. Не от сердца же.
Вызволи меня отсюда. Бог на небесах, а ты, Джафар, здесь, в Арзерберджане.
Твердокаменный большевик, Герой гражданской войны, комендант Баку Афанасий Тюрин.
– Бог на небесах! А я не Бог. Я всего лишь Первый в одной из шестнадцати республик, – щелкнув от себя скрюченный обрывок тетрадного листа под руки обалдело вперившегося в него Наркома НКВД, проговорил он.
Мгновенно схваченные Емельяновым строчки малявы бросили его в жар. А как же!? Ведь она из камер Дома на Набережной. Стало быть, недосмотрели поганцы. Виновато потупившись, он ожидал выволочки. Хорошо, если обойдется только ею. Может чем и хуже. Когда к нему заходишь, знаешь с чем идешь, но не знаешь, что он знает и как выйдешь от него? То ли с облегченным вздохом «Пронесло!», то ли под тычки конвоиров.
Не могла она, эта чертова записочка, прошмыгнуть мимо хватких, свободных от всяких стеснений рук надзирателей. Хотя, почему не могла? Мерзавец на мерзавце сидит. С ними он потом разберется. Лишь бы пронесло сейчас… Поди, догадайся, какую мыслишку в непредсказуемой багировской голове породил этот жеваный клочок тетрадного листочка.
Но Первый, по всей видимости, не собирался устраивать ему разноса. Достаточно было и того, что он ее показал. Теперь, при удобном случае, у него будет зловредный аргумент, мол, в Доме на Набережной с порядками не все в порядке.
– Да-а-а, – подняв глаза на спину застывшего у окна Багирова, протянул Нарком.
Первый даже не шелохнулся. И Емельянов, немного погодя, решил уточнить свою мысль.
– За грехи отвечают там, – Нарком указал наверх, – а за преступления, – он ткнул пальцем в стол, – расплачиваются здесь.
Емельянов проговорил это без обычной твердости. Так, чтобы сказанное не прозвучало категорическим выводом. Твердая точка в таких случаях, когда он не уверен в совпадении мнений, не его прерогатива. Со своим выводом тут спешить нельзя. Тут необходимо определиться: согласен ли Первый с тем, что он сказал, или нет. Ведь «Дорогой Джафар!», а не «товарищ Багиров», как требовалось называть его, обращение на «ты» и многозначительная фраза «Ты же знаешь меня» – говорили о многом.
– Арзерберджан… – не оборачиваясь, ядовито произносит Багиров. – За столько лет не научился правильно выговаривать «Азербайджан».
– И писать тоже, – окрылено выдохнул Нарком.
Ему тоже в той маляве бросилось в глаза и покоробило искаженное название республики.
– У тебя, ты хвалился, установлена новинка. Какое-то там хитрое стекло.
– Так точно, товарищ Багиров. Через него можно видеть и слышать, что происходит в допросной комнате, а оттуда никого не видно и не слышно.
– Что ж, проверю. Подъеду… Сегодня… Часов в восемь… Пусть следователь и твой хваленый, как его… Ашуг, поговорят с ним. Послушаю. И тогда решим.
– Есть! – выпалил Емельянов.
– Им не обязательно знать о моем присутствии, – предупредил он.
– Само собой.
– Свободен.
Облегченно выдохнув и порывисто поднявшись, Нарком вышел вон.
А Багиров все так же окаменело продолжал стоять у окна.
…Он был далеко. В Москве. На Лубянке. В кабинете шефа ГПУ Менжинского. Подслеповато щурясь, Вячеслав Рудольфович усаживает его за приставной стол и пристраивается рядом. Не напротив и не в свое кресло, а бок к боку.
– Давайте, Мир Джафар Аббасович, рассказывайте, как поживаете? – окатывая его неподдельно радушным теплом, спрашивает он.
– Хорошо, Вячеслав Рудольфович. Обстановка в республике гораздо лучше, чем в Украине и Поволжье. Люди верят власти. Понимают объективность возникших трудностей.
– Знаю, Мир Джафар Аббасович. Знаю, – останавливает он. – У вас не так голодают. Информацией по этому поводу располагаю. На президиуме ЦК слышал отчет вашего Первого секретаря… Но я не об этом… О себе, о семье, о ваших мальчиках – «владельцах мира всего», – смеется он. – Наша Адочка утверждает, что с греческого и азербайджанского их имена это и означают. Владимир и… Если точно смогу выговорить – Джахангир.
– Русскому человеку трудно выговорить… Мы тоже зовём его не в развёрнутом виде. Я с женой «Джаном» или «Джаником». То есть «Душа» и «Душенька». А Володя, с уличной ребятнёй, по иностранному – «Джемом». И Ада правильно перевела смысловое значение их имён. Если по-простому, по-нашенски – Владимиры. То есть, Владеющие миром.
– Вы думаете, Ада знает греческий и ваш родной? Нет. Смысл этих, по разному звучащих имён, ей объяснила ваша Женечка, – а затем, скривив губы, добавил:
– Неправду говорят, что женщины не могут между собой долго дружить. Их три подружки – Ада, Нора и ваша Евгения, до сих пор не разлей вода.
– Аде, кстати, привет передайте от нее и, конечно, от меня.
Менжинский благодарно кивает и, хитро щурясь, с напускной таинственностью, наклонившись к его уху, доносит:
– Она вас поругивает.
– Не говорите, Вячеслав Рудольфович! – оживляется Багиров и, передразнивая Аду, говорит: «Джафик, ты хан-тиран! Держишь женушку свою, как птичку в клетке. Не даешь общаться с подружками»… А между подружками, Вячеслав Рудольфович, две с половиной тысячи километров. Да и клетка не такая тесная. Четыре комнаты.
– Моя попросторнее. В целых семь! – по-мальчишески доверительно хвастается он.
Мир Джафар это знал. И знал, что Ада вместе с матерью, младшей сестрой Менжинского, Людмилой Рудольфовной, живут у него. Хотя у ней, совсем неподалёку, имелась и своя квартира,
– Правда, наш младшенький – Джангир, – продолжал Багиров. – болезненный пацанчик. Вяжет по рукам и ногам. Наняли и нянечку, но у Женьки такой характер – все сама… Чтобы доверить кому сына? Ни за что!.. Вот ей и достаётся. Как у нас говорят эти два пострела «колят на её голове орехи». Меня же, в чём я ей несказанно благодарен, она полностью избавила от их капризов.
– Сейчас, насколько я слышал, вашему Джану намного лучше.
– Намного! Спасибо вам.
– Да что я, Мир Джафар Аббасович! Это Люда с Адочкой. Им спасибо. Они, как две клушечки, отбили у Евгении твоего мальчонку и носились с ним по докторам. Всю Москву исколесили… Такую головомойку ей устроили, когда она захотела снять здесь квартиру. Видите ли, чтобы не обременять. Хотела нас лишить радости возиться с ребеночком. Меня подключили к судейству… Пришлось проводить агитбеседу.
– Наслышан, Вячеслав Рудольфович. Мы с Евгенией так вам благодарны – нет слов.
– Полно! – нахмурился Менжинский. – Главное, все обошлось.
– По правде, мы здорово перепугались. Постарались наши местные эскулапы. «У ребенка опасное внутричерепное давление. Он не спит и плачет от головных болей. Это может плохо кончиться», – пугали они. Здесь нас успокоили. Сказали, что у детишек такое бывает. Оно со временем проходит. Курс необходимых инъекций и всё войдёт в норму…
– Эти заботы кончились, и теперь Адель опять сядет на своего конёчка. Начнет вспоминать, как они, три подружки-институтки – ваша благоверная, Нора Карасик и она – бузили в своей альма-матер.
– Жена рассказывала, – улыбается Мир Джафар. – Рассказывала, как они переполошили ректорат и всю питерскую жандармерию. Ночью в вестибюле, рядом с картиной, где при полном параде был изображен царь, повесили портрет народника Желябова. На дверь кабинета ректора наклеили Плеханова, а в актовом зале, прямо к кафедре, залив клеем двуглавого орла, прилепили фото Карла Маркса…
– Да! Да! И обложку книги «Манифест коммунистической партии», – трясет головой Менжинский.
– Жандармский офицер, прибывший для расследования, вне себя орал: «До чего дожили! И к бабам проникла революционная зараза!»
– Эта проказа могла дорого стоить девчонкам, – заметил грозный шеф ГПУ.
Правда, на грозного он нисколько не походил. Грозным был занимаемый им пост, а сам – нисколечко. Интеллигентный, тонкий и не шумливый. Голоса не повышал даже тогда, когда кому-то следовало всыпать по первое число. И в этих случаях, казалось, что он не распекает, а, давя на совесть, журит и поучает. Раздумчиво растягивая фразы, говорил всегда коротко, по делу и негромко, заставляя всех умолкать и вслушиваться в каждое слово. То ли от Сталина научился, то ли наоборот. Наверное, все-таки ни то и ни другое. Это у них было врожденным. Может поэтому он и ходил в любимчиках Сталина.
Вообще-то, своей ненавязчивостью и мягкостью он нравился всем. И Женя была в восторге от него. Она познакомилась с ним в квартире Людмилы Рудольфовны, матери Адель. Менжинский бывал у них чуть ли не каждый день… «Джафэнька, – как-то, вернувшись из Москвы, чуть ли не взахлеб делилась с ним Женя. – Вячеслав Рудольфович такой юморной дядька – просто обалдеть! Столько много знает! Глаза умные и смешливые. Только очень-очень грустные. Наверное, о таких царь Соломон в «Песне песней» говорил: «Во многой мудрости – много печали»… И еще, – понизив вдруг голос прошептала на, – у меня сложилось впечатление, что Вячеслав Рудольфович тяготится своей должности. Тетя Люда как-то обмолвилась: «Ему бы быть Наркомом просвещения, а Сталин и Политбюро не отпускают. Очень им довольны».
До Багирова такие слухи доходили. Ему вообще многое было известно, что творится в кремлевской кухне. Отнюдь, не по сплетням, напичканными побасенками. Немало интересной информации ему перепадало из других источников и от самого Вячеслава Рудольфовича, который относился к нему доверительно, как к близкому себе человеку. Обычно это происходило во время их встреч. Какими бы мимолетными они ни были, Менжинский, как бы. ненароком, походя, проливал свет на таинство различных кремлевских перипетий и взаимоотношений, облекая сказанное либо шуточным флером, либо в коконок дипломатической фразеологии. С расчетом на «не дурака». Очевидно, Вячеслав Рудольфович держал Мир Джафара за умного человека. И судя по всему, не скрывал этого от кремлевского начальства. А потому, когда обсуждался вопрос, кого поставить Первым секретарем ЦК ВКП(б) Азербайджана, Сталин сказал: «Думаю, Багиров может подойти. Он хорошо себя зарекомендовал, будучи председателем ГПУ, Наркомом внутренних дел, и проверен был нами на посту Председателя Совета Народных комиссаров… Что скажет нам товарищ Менжинский?»
«Товарищ Сталин, кандидатура выбрана достойная. Он умен, за спиной большой опыт чекистской и хозяйственной работы, обладает деловой и хорошей организаторской хваткой».
«Что ж, согласимся с товарищем Менжинским», – Сталин сказал это так, словно не он, а Менжинский сейчас, здесь, на Политбюро, выдвинул и настаивал на кандидатуре Багирова.
Такова уж была манера у Хозяина. Он наверняка запомнил проскальзываемые в их беседах отзывы о нем Менжинского. Кроме этого, Сталину, разумеется, докладывали и о том, что в кабинетах Кремля глава ЧК, при удобных случаях, всегда положительно характеризовал Багирова. И он сыграл на этом. Прозрачно намекнув о своей осведомленности, Генсек искусно переложил ответственность за нового назначенца на Вячеслава Рудольфовича.
О том коротком диалоге Генсека с Политбюро и Менжинским, решившим взлет Багирова на самую верхнюю в республике ступеньку власти, Мир Джафар узнал гораздо позже. Перед самой кончиной Менжинского. Но опять-таки же, не от него, а от Жени. Тогда она была в Москве, а Вячеслав Рудольфович после больницы лежал на даче. Людмиле Рудольфовне и Адель приходилось оттуда, с утра пораньше, уезжать на работу, и Евгения оставалась вместо них. Помогала прикрепленной к Наркому медсестре и по просьбе умирающего читала ему периодику и любимого им Толстого.
В один из моментов, когда медсестра, отпросившись у Жени, укатила на часик к себе домой, Вячеслав Рудольфович знаками показал ей включить репродуктор и попросил присесть рядом с ним. Тогда-то он ей и поведал, как принималось решение об избрании Багирова первым лицом республики.
– Выходит, Женечка, я за него отвечаю головой. Знаю, не подведет. Он с царем в голове. Если всеми имеющимися у него рычагами будет подпирать все начинания, исходящие от товарища Сталина – он не пропадет… И еще. Ему надо быть повнимательней к московскому гостю…
– Кого он имел в виду, Джафэнька? Я не поняла.
Багиров сразу догадался, на кого тот намекал. «Кого?!.. Кого?!.. Мужа твоей подруги, «эскадронщика» Афоньку Тюрина» – раздраженно подумал он, но произносить вслух этого не стал.
А сейчас, окаменев у окна, сказал бы…
«Эскадронщик», – поворачиваясь к Емельянову, в голос, как нечто мерзкое, налипшее на язык, выдавил Багиров. Так Афоньку нарёк сам Вячеслав Рудольфович. На Лубянке, у себя в кабинете.
Поговорив о делах житейских и посмеявшись над опасными шалостями трех подружек-институток, Менжинский перешел к главному. Сделал он это незаметно, не отрываясь от ниточки начатого им разговора.
– Между прочим, Мир Джафар Аббасович, теперь вашей благоверной скучать не придется. Одна из их троицы Нора Карасик едет к вам, в Баку.
Багиров вскидывает брови.
– Она уже не Карасик, а Тюрина. По мужу. Он назначен комендантом вашей столицы.
– По нашей линии? – сразу напрягшись, уточняет Багиров.
– С прямой подотчетностью Московскому штабу ГПУ. То есть, нам. Персонально моему заместителю Генриху Григорьевичу Ягоде.
Сердце упало. Во рту пересохло. Не было сил сглотнуть сгустившуюся слюну. И невозможно было выдавить из себя ни единого слова. Ведь это чистой воды недоверие.
– Решение об учреждении такой должности, – постукивая по столу дужкой очков, продолжал Менжинский, – принималось на Политбюро, по предложению Кирова. По его мнению, назвавшего товарищем Сталиным резонным, в столицах республик Закавказья и Средней Азии, где притаились и успешно приспосабливаются к обстановке меньшевики местной закваски, басмачи, дашнаки, мусаватисты и прочая контрреволюционная нечисть, необходимо звено дополнительного контроля за процессом становления Советской власти. Звено с прямым подчинением Центральному комитету и соответствующему отделу ГПУ. Одним словом, как выразился Сергей Миронович, «создать ЧК в ЧК, что даст для партии объективную картину того, что происходит на местах».
– ЦК виднее, – роняет Багиров.
– Что вы так побледнели, Мир Джафар Аббасович? – надевая очки, спрашивает он. – А-а-а! – наконец догадывается Менжинский. – Недоверием здесь не пахнет. Уверяю вас.
Вячеслав Рудольфович сжимает похолодевшую ладонь Багирова и добавляет:
– Выше голову, Мир Джафар Аббасович! Вы у нас на хорошем счету… И потом, двоевластия на местах, как заявил я тогда, мы ни в коем случае не должны допустить… Товарищ Сталин поддержал меня. Сказал: «Эту дрянь надо стараться обходить стороной»… Признайтесь, вы думали именно об этом.
– По правде, да.
– Вы будете делать свое дело, а он свое. Кроме того комендант будет находиться в вашем оперативном подчинении. Это, во-первых. А во-вторых, что, спрашивается, может сделать московский гость без вашей помощи?
– Хорош гость, – пробухтел Багиров.
Менжинский вдруг расхохотался. Мир Джафар вопрошающе посмотрел на него. Утирая выступившие на глаза слезы, он сказал:
– Ваш «хорош гость» прозвучал, как «хорош гусь».
Багиров улыбнулся. Он явно успокоился, хотя внутри продолжало не по-хорошему ныть.
– Итак, о вашем коменданте. Тюрин Афанасий Митрофанович. Полковой командир. Под Царицыным командовал эскадроном казаков. В Астрахани ему дали полк. Затем астраханскую дивизию расформировали. Нескольких командиров, в том числе и Тюрина, после проверки на классовую чистоту, направили на краткосрочные курсы нашей Высшей школы. Окончил он их не блестяще, но и не плохо. На мой взгляд, он еще «эскадронщик», а не чекист.
– Эскадронщик? – переспросил Багиров.
– Именно так. Для него – шашки наголо и рысью на врага. Опыта в нашей работе немного. Впрочем, подробности у Винника. Теперь куратора вашей республики. Он патронировал всех слушателей во время их учебы.
На этих словах он встал и, хлопнув Багирова по плечу, прошел к своему месту.
– Разрешите идти, товарищ Менжинский?
Менжинский ответил не сразу. Сняв с переносицы очки, он повертел их перед собой, а потом, вынув из нагрудного кармана суконку, стал очень тщательно протирать их стекла.
– Полагаю, – не отрываясь от суконки, проговорил он, – вам будет легко с ним. Уверен, вы сможете нащупать надлежащий контакт… Тем более, что ваши жены подруги, а это немаловажный фактор.
– Постараюсь, Вячеслав Рудольфович.
– Постарайтесь, голубчик. Постарайтесь, – кивком головы отпуская его, проговорил он.
Ему, по всей видимости, хотелось сказать нечто большее, чем он сказал. Но, вероятно, решил, что лучше, если это сделает Винник.
– Ну, как дела?! – широкой улыбаясь, встретил его куратор.
– Начальство, Матвей Илидорович, огорошило меня Тюриным.
– Ничего не поделаешь. Надо принимать. Сверху виднее.
Последнюю фразу он произнес, как показалось Багирову, не без иронии. Не став поддерживать его, он попросил рассказать, что ему известно о новом бакинском коменданте.
– Скажу, скажу, – почесывая затылок, поморщился он. – Если бы не указание Вячеслава Рудольфовича – не стал бы. Он у нас – ума палата. Сказал: чтобы выстраивать нормальные взаимоотношения сотрудников нашего ведомства, надо каждому знать хорошие и нехорошие стороны своих коллег, дабы в кругу домашнем не допустить обостренностей, свар, вражды…
И опять-таки в его тоне Багиров уловил иронию. На этот раз, плохо скрытую. Виннику, в тот момент припомнилось то, о чём он, по совету Менжинского, должен был рассказать Багирову. О весьма и весьма странных лекциях на курсах начальствующего состава ЧК, которые вёл бывший высший чин царской охранки.
– Пусть вас не волнуют, а радуют враждующие отношения сотрудников, находящихся в вашем подчинении, – поучал он.– Вы должны на словах осуждать, а действиями поощрять их конфликты. В обостренности взаимоотношений вы узнаете много компрометирующего на каждого из них. И держите их про запас. Держите каждого на крючке. Суровая ниточка от него будет в ваших руках. Такие подчиненные самые верные, преданные и готовые для вас на все. Их страх обеспечивает беспрекословное признание вашего верховенства, безоговорочное выполнение того, что нужно вам. Они будут служить вам верой и правдой, пока… Пока вы их начальник.
Цинично? – оглядывая аудиторию, вопрошал бывший высший чин царской охранки, а затем, усмехнувшись, сам же и ответил.
– Нет! В этом, правда и сила власти. Циничность в данном случае – это из области морали раба. Мораль власть имущего надчеловечна. А потому, подавляющему большинству подданных, она непонятна. Она сгусток энергии, порождающая величие и, оставляющая след в истории. Цезарь, Иван Грозный, Петр Первый, Бонапарт, Талейран, Бисмарк… Их можно пересчитать по пальцам.
– Ленин! Вы Ильича забыли! – подсказывал один из слушателей.
– Владимир Ильич, теоретик, мыслитель, интеллектуальный катализатор революции – не сбавляя темпа, выдаваемой им тирады, отвечал бывший высший чин царской жандармерии, – Если хотите, предтеча ожидаемой личности. Вот, положим, Лев Давидович Троцкий, на мой взгляд, более всего подходит к той вышеназванной категории выдающихся личностей. Но… Он теперь глаголет кознями из-за кордона…
Людей с потенцией таких задатков,– продолжал бывший генерал,– немного, и лишь единицам из них удается состояться. Повторюсь, таковых немного, и, в том числе, и даже, прежде всего, к таковым относитесь вы, стоящие на подступах высшей власти. У каждого из вас есть возможность взять ее, если вам удастся подняться над моралью и если подфартит Его Таинственное Величество Случай…
Через год с небольшим, высший чин царской охранки, вдохновенно читавший свой курс по управлению людьми, оказался в подвале Лубянки. По обвинению в троцкизме и активной пропаганде антисоветизма его расстреляют.
Инициатором его ареста и дознавателем по делу был тот самый слушатель, что выкрикнул: «Вы Ильича забыли!»…
– Это был наш Тюрин! – неопределённо усмехнувшись, произнёс Винник. – По моим наблюдениям, он неплохой аналитик, хороший разработчик комбинаций, тонко чувствующий обстановку и… решительный человек. Легко входит в доверительные отношения.
– Великолепно!.. – восклицает Багиров.
– Но, – подняв руку, Матвей Илидорович не даёт ему продолжить, – Но, вот беда – людей не любит. Не обременяет себя привязанностью к ним.
– В определенных случаях качество неплохое. Значит, может быть объективным, – замечает Багиров.
– Есть черты характера, которые мной не приветствуются, – пропуская мимо ушей вывод собеседника, продолжал куратор. – Говорлив, хвастлив, любит выпить за чужой счет и жаден, как тот казак, что, размахивая саблей, бегает по станице, выискивая того, кто спёр пару-тройку пересчитанных им на яблоньке яблочек. А, главное, опыта в нашей работе – ноль.
«Повторил Менжинского», – отметил Багиров.
– Как докладывал мне начальник курсов, Тюрин убежден в том, что в работе чекиста самое основное – быть осведомленным, иметь осведомителей…
– И заниматься доносами, – догадывается Мир Джафар.
– На этот счёт на курсах его пообтесали, – успокоил Винник.
«Доносительство – болезнь неизлечимая», – подумал Багиров, а вслух сказал:
– Дай-то Бог…
– В общем, о твоем коменданте всё, – буркнул он и, вороша бумаги, многозначительно, почти себе под нос, буркнул:
– Будем смотреть, кто кого переиграет.
Багиров сделал вид, что его последних слов не расслышал, но про себя отметил, что эта учрежденная должность комендантов здесь, на Лубянке, рассматривается так, как он и определил ее для себя – игрой кто кого?
Вячеслав Рудольфович оказался прав. Женя с Норой еще больше сблизились и делали все, чтобы их вторые половинки между собой сдружились. Женщинам казалось, что им это удается. Внешне так оно и выглядело. Они друг к другу обращались на «ты» и по имени: Афоня и Джафар. Даже зачастую, по настоянию Тюрина, пили на брудершафт. Багирову это не нравилось. Но, скрепя сердце, он шел навстречу. Уж слишком сценично Афанасий изображал «парня своего в доску». Евгении это тоже не нравилось. И вообще Тюрин с первой же встречи не лег ей на душу.
Женское чутье – материя не от мира сего. Именно оно уловило в подруге тщательно скрываемое ею недовольство своим благоверным. Что-то у них не ладилось. Никак не стыковалось. Вроде как у Маяковского «барышня» и «хулиган»… И еще, та и другая, чувствовали напряженность в общении мужчин, объясняя ее себе разницей их статуса. Мир Джафар, как никак, персона. Руководитель ГПУ. А Афанасий всего лишь комендант города…
Как бы там ни было, Женя с Норой были уверены, что они-таки добились своего и между их супругами возникли дружеские отношения. Тут-то их чутьё и подвело. Мужские игры – тайна за семью печатями. Каждый из них играл свою партию. Тюрин находился в предпочтительном положении. Он разыгрывал, а Багиров смотрел за раскладом. Смотрел внимательно. В вынужденных, хотя и редких контактах с ним в семейном кругу, Багирова настораживало два обстоятельства. Он никак не мог забыть характеристик, данных ему Менжинским и Винником, и то, что Афанасий слишком уж рьяно лез ему в душу. Иной раз вроде слона в посудной лавке, требуя от него каких-то откровений. И еще настораживало то, что ему после очередной из встреч с четой Тюриных пришлось услышать от своих домашних.
– Знаешь, Джафэнька, – после того, как они их проводили, сказала Евгения, – насколько Норка теплая, тонкая и открытая, настолько… – она задумалась, подбирая, видимо, точное определение.
– Настолько Афанасий – прямая ей противоположность, – завершил он мысль жены.
– Да. Он неискренен. Твой первенец, то есть,– осеклась она,– наш Володя больше льнет к ней, а от него, словно отбивается. Уворачивается, когда тот пытается погладить его по головке. А дитя – лакмусовая бумажка…
– Дитяти нашему, – жёстко надавив на местоимение «нашему» – уже десятый годок. Кое что, если даже не понимает, то чувствует.
– Он – чужой! – объявившись вдруг на пороге гостиной, подал голос мальчик.
– А ну, марш к себе! Не лезь в разговоры взрослых! – рявкнул Мир Джафар.
– Мам, у меня задачка не получается, – исподлобья глядя на отца, пробухтел он.
– Ступай, сынок. Я подойду, помогу, – пообещала она.
Забежав в свою комнату, он уже оттуда крикнул:
– Все равно он чужой, папа!
– Я сейчас уши тебе надеру! – пригрозил Мир Джафар и, переглянувшись с женой, они прыснули.
– Устами ребенка глаголет истина, – шепнула Евгения.
Она вся светилась.
– Он,– указав глазами на захлопнувшуюся дверь комнаты мальчика,– с недавних пор называет меня не, как раньше, «мама Женя», а «мама»… «мамочка»
– Я заметил.
– Ведь никто не заставлял.
– Что ты хочешь, Женечка, ведь Володя с тобой… – приобняв жену, говорит он, – уже шестой год. Свою маманьку, ушедшую на небеса, конечно же, подзабыл. Ведь ему тогда всего два годика было…
– А недавно, – перебивает Женя,– возвращаюсь с аптеки, а нянечка в дверях, приложив палец к губам, просит меня не шуметь. Берёт за руку и на цыпочках ведёт к полуоткрытой двери детской. А там – идиллия. Джаник сидит на ковре и бросает мячик, в стоявшего в двух шагах от него, Володи. Володя делает вид, что брошенный им мячик сбивает его с ног и валится на пол. Джаник – хохочет… «Только вы ушли, – рассказывала нянечка, – он проснулся. Не увидев вас, разревелся. Чтобы успокоить хочу взять на руки, а он – ни в какую. Отмахивается и ещё пуще прежнего заливается. Будто кто его обидел. И тут в комнату вошёл Володя. «Что расплакался, Джэм?» – эдак, строго, прямо-таки, голосом отца спрашивает он. «Мамочку хочу!» – задрыгал он ножонками. «Мамочку, мамочку…– передразнивает он, и, хлопнув ладошкой себя по груди, говорит: «С тобой же я остался!» И Джаник, не поверите, сразу умолк. Да, что там, он сразу потянулся к нему. Володя взял его на руки, а тот, крепко-крепко обхватил его за шею. И оттуда из-за Володиного плеча выглядывала его счастливая мордашка. И в раз высохли слёзы… Теперь вот играют…»
– Володя ласковый в мать,– вставая из-за стола, роняет Мир Джафар.
– Царство ей небесное! – шепчет Женя.
– А есть ли оно? – уткнувшись лбом к холодному стеклу балкона, спрашивает он…
Продолжать разговор в том же ключе уже было нельзя. Он всегда, когда заходила речь о бывшей супруге, замыкался и мрачнел. Надо было как-то отвлечь его. И тут, выручил раздавшийся колокольный звон.
– Да, Джафик, а что Афонька прицепился к храму Александра Невского? – спросила она. – Такая красота в центре города, а он: «Очаг поповщины!.. Сравнять с землей!»… -передразнила Женя.
– Не твоего ума дело! Иди к задачке сына, – грубовато отослал он жену.
– Конечно, его задачка будет полегче, – ядовито бросив, удалилась она.
«Конечно», – вздохнул он, скрываясь в своем домашнем кабинете, где его поджидала толстенная кипа неотложных бумаг.
2.
Ему и в голову не могло прийти, что наутро в храм, где шла служба, ворвется комендантская рота красноармейцев, впереди которой с маузером наголо будет вышагивать полковой командир Афанасий Тюрин.
– Эй, контра в рясе! Хватит завывать! – устрашающе, зычно, приказал он.
– Вы в божьем доме, господин красный командир… – начал было увещевать его священник.
– Не кади, каналья ряженая! – двинув попа рукоятью маузера в переносицу, рыкнул комендант.
– Антихристы! Антихристы явились! – тонко заголосила одна из молящихся баб и, растопырив пальцы, кошкой метнулась на Тюрина.
А вслед за ней, с непонятно откуда вспыхнувшим остервенением и возгласами: «Гони бесово племя!», «Вон из божьих полатей!» – на красноармейцев ринулись и остальные прихожане. Их крики: «Бей антихристов!» – звучали с заражающим призывом, как «Ура!» И на поле боя, неизвестно из каких ходов, повыскакивала церковная челядь. Несколько солдат бросились на выручку вступившему в рукопашную полковому командиру. В ногах от опрокинутых свеч, поставленных во здравие и за упокой, загорелись ковры. Вспыхивающие на них язычки пламени бегали по ногам и, источая удушливую гарь, обволакивали дымом людскую свалку. И тут, перекрывая гвалт, один из красноармейцев, запрыгнув на лавку, где продавались иконки, крестики и свечки, крикнул:
– Рота, отставить! Ко мне! Уходим!
– Я тебе уйду, падло! Дезертир! – отбившись с подоспевшими солдатами от разъяренных женщин и стариков, завопил Тюрин и оттуда, с амвона, от поверженного им протоиерея, выстрелил в сторону взбунтовавшегося ротного.
Отбившие коменданта солдаты, прыгая по разгоравшемуся постаменту, тоже стали палить из своих винтовок. Стреляли куда попало. И витражи, роскошные витражи, с изображениями последней Вечери апостолов, сценами из Ветхого Завета и ликом грустной богоматери, прижимавшей к себе младенца-Христа, оглушительно лопаясь, сыпались на голову искрами пестрого фейерверка. Один из увесистых осколков, с надвое раскроенным ликом Бога-отца, полоснул острием щеку Афанасия и почти до самого тела пропорол его комиссарскую кожанку… Стоявший лицом к нему красноармеец, выпучив глаза, задрав голову, взвыл:
– Кома-а-андира-а у-убили-и-и!
«Как убили, если я вот он?!» – оторопел Тюрин. И только тут увидел, что он весь в крови. Из разверстой на щеке раны, похожей на оскаленную собачью пасть, хлестала кровь. Поднявшийся на ноги протоиерей, оторвав от своей ризы кусок белой парчи и приложив ее к щеке Афанасия, сказал: «Крепче прижми», а сам, вскинув над головой золотой крест, что на тяжелой цепи висел на груди, перекрывая ор, воззвал:
– Остановитесь, люди! Именем Вседержителя нашего Господа Бога, остановитесь! Не скверните храма Божьего!
На мгновение наступила тишина. И все устремили взоры на амвон, где рядом с комиссаром, прикрывавшим лоскутом белой парчи рваную щеку, в тлеющих облачениях стоял хорошо известный горожанам настоятель собора Александра Невского.
– Чада Отца нашего Небесного! Я отец Серафим! Прошу вас, остановитесь! Не дайте храму Божьему пропасть в гиене огненной.
И прихожане, глядя, как на божество, на дымящуюся фигуру священника, твердо держащего над головой золотой крест, словно очнулись от обуявшего их гнева и с той же страстью, с коей дрались, принялись тушить разгоравшийся пожар.
– А вы что, братцы?! Неужто не православные?! Гасите! – спрыгнув с церковной лавки, выкрикнул тот же красноармейский командир, пытавшийся увести свою роту из церкви.
И глядя на послушную паству, солдаты тоже ринулись затаптывать вспыхивающие по богатейшим персидским коврам языки пламени.
– Отставить! – превозмогая боль, возопил Тюрин.
– Тебе нельзя разевать рот. Разбередишь рану, – безобидным тоном, пытаясь ладонью приложиться к рваной щеке полкового командира, посоветовал отец Серафим..
– Убери лапы, поповское отродье! – стукнув его по руке, процедил Афанасий и бросился в сторону ротного, посеявшего смуту в красноармейцах.
– Калинычев, мать твою!.. Ко мне, контра скрытая!
– Какой я контра, товарищ комендант? Я тех же кровей, что и вы… Казак! – встав в рост, миролюбиво сказал ротный.
– Ты предатель. Ты враг Советской власти!
– Я не враг! – взвился Калинычев. – А вы не казак! Коль дом Христа нашего поганите!..
– Что-о-о! – взбеленился Афанасий и, подняв маузер, дважды выстрелил в него.
Калинычев ойкнул и подрубленным столбом рухнул навзничь на осколки разбитой Богородицы.
Храм онемел. И все, кто стоял поблизости к Тюрину, в страхе попятились назад.
– Курдюков! – кликнул Афанасий одного из красноармейцев. – Принимай роту!.. Покажи, что мы, донские казаки, вернее москалевских… Всех вязать! И этого попа!.. Всю утварь на подводы. В казну для народа…
Курдюков артачиться не стал.
Не отрывая руки от щеки, Тюрин, пошатываясь, вышел из храма.
– Что с вами, Афанасий Митрофанович?! – бросился к нему взводный Рюрик Андреев, которого он оставил здесь командовать оцеплением.
– Попы порезали, – соврал он, направляясь к своему персональному фаэтону.
– Отправь несколько красноармейцев на помощь Курдюкову, – приказал он ему. – А я в Семашко16. На перевязку… До моего приезда к церковному добру никого не подпускать. Я быстро… Тело предателя Калинычева отвезите на Чемберекендское17 кладбище. Пусть зароют, как собаку… За старшего Курдюков. Он произведен мною в ротные… – и вдруг, обратив внимание на по-недоброму гудевшую за оцеплением толпу людей, спросил:
– Они откуда взялись?!
– Ротозеи с базарного пассажа. Услышали выстрелы, увидели дым и понабежали…
Тюрин грязно выругался.
– Чуваш ты и есть чуваш! Разогнать! Дай команду стрельнуть в воздух и они разбегутся, – взбираясь в фаэтон, распоряжается он.
Лучше бы Андреев этого не делал. Вместо того, чтобы разбежаться, толпа ощетинилась кулаками и с криками: «Ограши!»… «Бандюги!»… «Кафыры»18… «Это же храм божий!»… – надвинулась еще ближе к солдатской цепи.
Пожилой мужчина в восточной папахе, с явно лезгинским акцентом, окликнул Андреева:
– Командир! Командир, смотри в меня…
– Что тебе? – скуксился, взводный.
– Ты хороший человек, командир. Сразу видно, умный. Мечеть жечь, родную маму убивать. Не жалко?
– А ну, Митяй, двинь по махнушке этого черножопого агитатора, – приказал Андреев красноармейцу, стоявшему перед импозантным лезгином лицом к лицу.
И Митяй, не долго думая, прикладом саданул его в грудь. Да так, что у того со рта брызнула кровь. Лезгин пошатнулся и, закатив глаза, повалился на брусчатку.
– Паразит! – заверещала женщина, обрушив авоську с мокрой зеленью в лицо красноармейцу.
Митяй в долгу не остался. От его удара, женщину, как ватную куклу, смахнуло под ноги обомлевших людей. И толпа взревела. И солдат накрыл град посыпавшихся на их головы инжира, яблок, помидоров, яиц и демьянок… И цепь попятилась.
– Не отступать! – стоя в потеках томата и яичной слизи, зыкнул Андреев и, вскинув винтовку, скомандовал:
: – Взво-о-од, товьсь! Поверх голов, пли!
Грохнул залп. Потом еще один. И еще.
И отпрянула в страхе толпа. На плоских крышах двухэтажек, где, наблюдая за происходящим, колготилась любопытная ребятня, кто-то из детишек с ужасом и в надрыв закричал:
– Мамочка! Ануш убили…
И полыхнул факелом Баку…
Вниз по Николаевской, в сторону крепости, в плотном окружении красноармейцев, державших наперевес стволы с примкнутыми штыками, православный казак Курдюков с чувашем непонятного вероисповедания, вели с полсотни отрешенно улыбающихся людей, которые следовали за протоиереем отцом Серафимом и в голос пели какой-то радостный псалом. Серафим в роскошном облачении, подняв к солнцу лицо, с еще кровоточащей на вспухшей переносице ссадиной, шагал впереди всех, сразу за подводами, груженными церковной утварью.
– А ну заткнись, поп ряженый!.. Щас, как двину по загривку, – замахнувшись на священника, пригрозил Андреев.
Этот замах его вызвал шквал тяжелых проклятий разноязыкого люда, запрудившего тротуары улиц, готового броситься на ненавистных солдат. Но их что-то сдерживало.
– Нехай поют, Рюрик, – великодушно разрешил Курдюков. – Уже въезжаем… Поставь ребят, чтобы ни одна тварь не проползла бы в крепость.
Подводы с церковным скарбом взводные завели во двор комендатуры, а арестованных, пока не подъехал Тюрин, сбив в кучу, оставили сразу за воротами, в кольце красноармейцев.
…Вернуться по-быстрому, как обещал Тюрин, ему не удалось. Пока отыскали хирурга, делали противостолбнячный и обезболивающий уколы, промывали, а потом зашивали рану, прошло довольно много времени.
– Быстрей, доктор! Быстрее! – торопил он.
– Что, больно, товарищ комиссар? – заглядывая ему в глаза, кротко спрашивал врач.
– Нет. Мне надобно как можно скорей быть у себя, в комендатуре.
– Спешить нельзя. Порез уж очень коварный. От самого виска… Господь уберег… Чем это вас так?
– Поп финкой резанул.
– Поп? И финкой?.. Не похоже… – удивился старичок-хирург.
– Что?.. Не мог?
– Финка не их оружие.
– Вот сподобился.
Врач ничего не ответил. Сделав на ране последнюю стяжку, он передал его медсестре на перевязку, а сам сел заполнять карточку больного.
– В ране обнаружено множество мелких осколков стекла, – не отрывая пера от бумаги, проговорил хирург.
– Стекла разбитых витражей падали мне на голову, – объяснил Тюрин.
– Рана стекольная, – продолжая писать, бормотал доктор, а закончив, сказал:
– Я сделал все что мог, товарищ комиссар. Однако шрам на лице вашем останется на всю жизнь. Нехороший порез…
– Шрамы, доктор, украшают мужчин, – скокетничала сестричка, любуясь сделанной ею повязкой.
– Вот-вот! Не девица! Переживу! – похлопав по плечу старичка и, подмигнув медсестре, Тюрин вышел в коридор.
Там, у самого выхода, стояло большое зеркало.
– Черт! – заглянув в него, невольно вырвалось с его губ. – Негоже мне, Николаев, с таким рылом на люди, – сказал он своему вознице-красноармейцу, уважительно распахнувшему перед ним лакированную дверцу фаэтона.
– Под тент сядете и никто не увидит. Мигом домчу до дома.
– Не домой! В комендатуру! Аллюром! – оборвал он возницу.
– Слушаюсь, товарищ полковой командир! И туда вмиг доставлю.
«Вмиг» не удалось. Фаэтон завяз во взбаламученной массе горожан, забивших все пространство от угла Николаевской и Базарной улиц до самой крепости. Ни одна коляска не могла пробиться сквозь возбужденную толпу. Под свист, улюлюканье и под крики: «Убийцы!» – фаэтон отгоняли назад.
– Спроси, что случилось, – ткнув носком сапога в задницу Николаева, потребовал он.
– Что бузите, люди добрые?! – стараясь перекрыть галдеж, тонко прокричал он.
– Ты посмотри на него?! Храм осквернили, дитя сгубили, а он еще спрашивает!..
А одна из женщин, всем своим видом призывая обратить внимание на возницу-красноармейца, заголосила:
– Твои сотоварищи, однорогие антихристы со звездой сатанинской, подожгли Дом божий, отца Серафима со всеми православными, как гурт овец загнали на подворье главного вашего беса Афоньки.
Николаев не обиделся, но, чтобы выслужиться перед полковым командиром, замахнулся на нее кнутом.
– Дура! Бикса парапетная!
– А ну повтори! – взревел стоявший возле женщины здоровенный смугляк и с отборной армянской бранью бросился на красноармейца.
– Твоя мать бикса. И жена с сестрой проститутки, – схватив Николаева за ногу, он пытался стянуть его на землю.
И стянул бы. И разделил бы участь свалившейся с его головы буденовки. Затоптали бы, если бы не Тюрин. Выскочив из-под тента, он встал во весь рост и, грозя двумя маузерами, пальнул из них в воздух.
– Постреляю всех, падлы! – сверкал он глазами.
Людей, однако, напугали не маузеры, выплюнувшие в небо огонь, и не гневные молнии очей коменданта, а его перевязанная голова, с выступившей сквозь бинты кровью.
– Я комендант города Тюрин! Дать дорогу!.. Я разберусь, что случилось, – диким голосом бросил он в затихших на секунду людей.
«Это комендант!»… «Это комендант!»… «Расступитесь! Он разберется с негодяями!»… «Дайте ему дорогу!»… – пронеслось над головами.
Спасенный от расправы Николаев трясущимися руками дернул за поводья, и лошади уже посвободнее зашагали к воротам крепости. Тюрин все так же с маузерами навскидку стоял позади своего возницы, победно озирая мельтешащую перед ним толпу. Она, кажется, уже приветствовала его. Мол, приехал Тюрин и он наведет порядок. Афанасию это нравилось. Особенно нравилось то, что стоявшее перед охранением у самого въезда в крепость высшее бакинское духовенство, с сочувствием глядя на его перевязанную физиономию, робко дожидалось его реакции на их присутствие. Он всех их знал в лицо. И щупленького шейха магометан Мирзоева, и осанистого старшего священника грегорианского прихода Тер-Газарянца, и дородного, в смешной нашлепке на макушке, раввина Гуревича, и наглого немца, католического пастора, который был в дружественных отношениях с изгнанным из Баку большевиками нефтепромышленником Нобелем. «Пришли выручать Серафима», – отвечая на их заискивающие поклоны, догадался Тюрин.
– Соблаговолите уделить нам внимание, товарищ Тюрин, – приблизившись к фаэтону, попросил Гуревич.
– Уделю. Узнаю, что к чему, и вызову, – въезжая в крепость, пообещал он.
Завидев фаэтон коменданта, новоиспеченный ротный Курдюков кинулся ему навстречу.
– Товарищ полковой командир, ваш приказ выполнен! Задержанные молельщики и поп Серафим доставлены в расположение комендатуры. Во избежание смуты у ворот крепости и возле задержанных выставлены караулы. Исполняющий обязанности командира роты Курдюков! – молодцевато козырнув, отрапортовал он.
– Вот что значит настоящий казак! Командирская кровь, – направляясь к себе, похвалил Тюрин.
Курдюков засеменил следом за ним.
– Где подводы? Куда подевал утварь? – остановившись, строго спросил он.
– Все сгрузил в подсобку.
– Молодец! Веди туда!
– Афанасий Митрофанович, – окликнул Тюрина Андреев. – Что делать с задержанными?
– Всех в камеру гауптвахты! – резко бросил он.
