Тайна золота Колчака
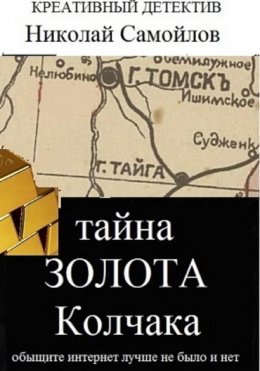
Глава 1
Меня в детстве мучил кошмар: снился стройный мужчина в ослепительно белом кителе, стоящий у кирпичной стены. Раздавался залп и ярко алые пятна крови расплывались на белом мундире, окрашивая его в красный, кровавый цвет. Я вскрикивал, просыпался, бабушка подбегала ко мне:
– Опять белый генерал снился?
– Сначала белый, потом он от крови становится красным. Мне страшно!
Бабушка сидела рядом со мной, уходила, когда я, успокоившись, засыпал.
Только в одиннадцать лет я понял, что мне снился расстрел адмирала Колчака. Видимо, в детском уме, словосочетание белый генерал ассоциировалось с белым кителем. Тогда я, впервые, спросил себя:
– Всесильно ли золото?
Повзрослев, ответил:
– Нет, не всесильно.
Александр Васильевич Колчак – разносторонне талантливый человек: учёный-океанограф, полярный исследователь, адмирал, Верховный правитель России, взлетел в зенит – выше некуда, чего ещё желать? Судьба подарила ещё одну удачу – он захватил в Казани золотой запас Российской Империи. Не мешки с нарезанными бумажками, а слитки и монеты из чистого золота! Всем казалось, что теперь победа ему обеспечена, но победить нищих рабочих и крестьян, возглавляемых большевиками, он не смог. Не помогло золото. Его армия была разбита, а сам он расстрелян в Иркутске 7 февраля 1920 года. Отряд, возглавляемый генералом Войцеховским, 6-8 февраля в лютые морозы пытался освободить его, но все усилия белых были напрасны. Золото не помогло адмиралу и многим другим, надеявшимся на его всевластие, поэтому не пытайтесь с помощью золота, стать счастливым, обманет вас, как обмануло раджу, в сказке про золотую антилопу. Царь Мидас пожелал, чтобы всё к чему он прикасался превращалось в золото, поэтому умер от голода и жажды. Выходит, не в золоте счастье.
В жизни есть более доступные и надёжные источники радости: родина, родной город, отчий дом, семья, любовь и дружба. К такому выводу пришли мы: я Николай Ваганов, мой друг Яков Светлов и наша подруга Вера Михайлова, пока мы изучали историю золотого эшелона адмирала Колчака. Мы учимся в девятом классе средней школы № 5 г. Томска. Нас объединяет интерес к изучению истории родных мест – краеведение, любовь к литературе и поэзии. Мы часами просиживаем в библиотеке, читая книги о городах и сёлах Сибири, изучаем архивы Краеведческого музея об истории их появления и людях в них живущих. В выходные дни, втроём гуляем по родному городу, любуясь красотой старинных домов и дворцов Томска. Это – Сибирский город, построенный на месте древнего поселения Грустины, жители которого вырыли в 1604 году под городом подземные ходы, такие широкие, что свободно разъезжались две кареты. Попасть в них можно было из любого дома, чтобы уйти, спасаясь от врагов. Ни в одном другом городе России подобных рукотворных подземелий нет. Путешественник Константин Вяземский, увидевший наш город с Воскресенской горы, назвал его Сибирскими Афинами. Наша гора показалась ему похожей на Акрополь Афинский. Как и древние Афины, город стал центром искусства и науки в Сибири. Жителям Томска это сравнение понравилось. В наше время, Афинами наш город назвал Луначарский. Имя Сибирские Афины прижилось. В здании бывшего полицейского управления, теперь находится музей истории Томска. Сохранилась пожарная каланча, с которой открывается, восхищающий зрителей, вид Томска. Я и мои друзья каждое воскресенье забираемся на каланчу и кричим городу лежащему внизу:
–Здравствуй, великолепный, неповторимый Томск. Город чудо, город сказка. Яков мечтает сделать крылья, чтобы парить, как птица, над городом. Я верю, что он исполнит свою мечту, с его волей и целеустремлённостью нет ничего неисполнимого. Вера любит читать нам стихи. Она знает их множество. Последнее, ею прочитанное с колокольни, мне понравилось. Я его наизусть выучил:
На небе синь, в садах цветенье,
Они белее облаков,
И я в хорошем настроенье,
Как майский сад, цвести готов.
Любить в удачах и невзгодах,
В дождях и солнечных лучах
Мой Томск, ожившую природу
И нежность в девичьих глазах.
Кто автор я Веру не спросил, да это и не важно, главное то, что говорится о нашем Томске. Именно таким наш провинциальный, уютный город бывает весной. Зимой крыши домов покрыты пышными, высокими, как у русских бояр, снежными шапками. Над ними в небо спиралями, похожими на штопор, вкручиваются струйки дыма, розовые от лучей солнца. От такой вольной, истинно сибирской красоты, дух захватывает, начинаешь понимать, почему сюда стремились сильные, удалые, решительные люди. Сибиряки! – звучит гордо. Летний Томск называют изумрудным городом. Под жарким, ярким солнцем крыши города, покрытые краской «парижская зелень», излучают изумрудный свет. Томск, как бриллиант в оправе, утопает в зелени садов, и окружающих его бескрайних, уходящих за горизонт хвойных лесов.
Когда летние, нагруженные дождями хмурые тучи, неторопливо плывут по высокому, густо – голубому небу, они напоминают мне сытых коров, пасущихся на синем лугу. Некоторые, мимоходом, поливают город быстроногими, бегущими по ручьям и лужам струями. Осенью пёстрые, словно отчеканенные из меди и бронзы листья клёнов, ослабев, падают с ветвей на дорогу. Дождь приклеивает их к чёрному, блестящему, как только что отколотый кусок антрацита, асфальту. Зонты, как бутоны пёстрых цветов, раскрываются над головами женщин, застигнутых на улице дождём. Томск прекрасен всегда, все четыре времени года. Среди горожан ходит множество мифов о прошлом города, его тайнах, несметных кладах и великих старцах – пророках, несгибаемых людях, покорить, запугать и подкупить, которых никто не смог, это было невозможно. Как запугаешь человека пыткой, если он сам сжигает себя на костре? Так, как сжигали себя наши раскольники, отстаивая своё право креститься двумя перстами и верить по – своему. Таких фанатично верующих, в мировой истории больше не было. Раскольник, раскол звучит так, что горло от гордости перехватывает. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Земля чудо – богатырей! Первым, среди них, завоеватель Сибири Ермак – могучий казак, неукротимый, неутомимый, бесстрашный. Такому, как воздух, нужны бескрайний простор, воля. Талантливый полководец, сделал грозному царю неожиданный, истинно царский подарок – Сибирь. Но вернёмся к Томску и его тайнам. В детстве я от бабушки слышал не только сказки, но и истории о несметных кладах, спрятанных сибирскими купцами на чердаках, в подвалах и тайных комнатах. О проклятиях, которые губят людей, отыскавших заколдованные сокровища. По слухам, из дома купца Харитонова тайный подземный ход ведёт под рекой в штольни, где спрятано множество кладов. Сегодня ходы туда перекрыты, без разрешения НКВД в них попасть нельзя. Тоннели образуют подземную сеть, которую «Тобольские ведомости» назвали Тобольским метро. Настоящего метро у нас, пока, нет, но в будущем мы его обязательно построим, не хуже московского. Старый Томск – город сказка! Старинные одноэтажные деревянные домики, одетые в кружева резных наличников, завораживают своей хрупкой красотой, заставляют влюбиться в них, сразу, и навек. Их не устаёшь рассматривать, фантазия мастеров поражает воображение, по улицам можно бродить часами. Вот дом – терем купца Леонтия Желябова его зовут "Домом с жар-птицами". Это один из символов города. Он украшен дивной резьбой, крышу венчают сказочные, распустившие хвосты, птицы. Не меньшее восхищение вызывает двухэтажный деревянный дом с семью головами сказочных драконов, которые украшают козырек над входом в этот дом. Всего не перечислить. Я и мои друзья мечтаем заняться изучением подземных ходов, но сейчас все входы закрыты. Пока делаем, что можем, помогаем директору краеведческого музея Сергею Викторовичу Адамчуку находить и описывать новые экспонаты, пишем статьи в краеведческий альманах «Томск». Сергей Викторович – сам человек легенда. Он родился в 1892 году. Отец Виктор Михайлович инженер – путеец занимался строительством и обслуживанием железных дорог, мостов и туннелей, поэтому часто бывал в разъездах. Воспитанием сына занималась мама Софья Петрова – дочь купца, женщина, волевая, строгая, любившая порядок во всём. Сыну она сама преподавала литературу, историю, привила любовь к музыке. Сергей Викторович прекрасно играл на гитаре, сам сочинял и пел романсы. Любил спорт. С пятнадцати лет он стал ездить с отцом по стройкам, увидел, как строятся дороги, как трудятся и живут строители, с некоторыми он познакомился и даже подружился. В то время отсыпка железнодорожного полотна велась вручную. Землю грузили лопатами, возили на тачках и телегах, работа была очень трудоёмкой, требовалось много людей, лошадей и телег. Их не хватало, поэтому Сибирская железная дорога прошла мимо Томска, Но город соединили со станцией Тайга однопуткой. В её строительстве участвовал отец Сергея Викторовича. Сергей, от природы, наделённый большой физической силой, постоянно наращивал её, занимаясь поднятием тяжестей и борьбой. Когда в город приезжал цирк, борцы устраивали турниры, он с девятнадцати лет, стал принимать в них участие. Благодаря таланту и недюжинной силе, боролся успешно, завоёвывал призы, прославился на весь Томск. Это вдохновляло его заниматься борьбой ещё усердней. Кроме французской, он стал заниматься японской борьбой дзюдо. Отец поощрял его увлечение борьбой, но сам предпочитал кулачные бои. На одном из турниров, Сергей Викторович познакомился с непобедимым Иваном Поддубным и борцом, атлетом, богатырём Иваном Заикиным. К началу первой мировой войны, Сергей Викторович закончил в Томске институт и получил диплом юриста. Заочно изучал историю России и русского купечества. Когда началась война, он пошёл на фронт добровольцем, служил артиллеристом. Особенно тяжело было в первый год войны, не хватало снарядов, часто пехота шла в наступление без артподготовки, на пушку выдавали по двадцать – тридцать снарядов. Стволы пушек были разбиты, поэтому стрельба была неточной, бывало, что попадали по – своим. Угнетали беспорядок, неорганизованность. В окопах солдат съедали вши, продукты портили крысы. Извести мышей и крыс солдаты и офицеры не могли. По ночам они лазили по лицам, стучали по полу когтями. Не смотря на это, Адамчук воевал храбро, получил за отвагу георгиевский крест, дослужился до звания штаб капитан. Слыл благонадёжным офицером, воюющим за царя и отечество. Его взгляды изменились после того, как ему приказали стрелять из орудий по нашим, отступающим солдатам. Он отказался. Тогда останавливать бегущих, послали казаков, видел, как казаки рубили бегущих из окопов солдат. Они гибли под казацкими шашками, отчаянно сопротивляясь. За нарушение дисциплины Сергея Викторовича понизили в звании и отдали под суд. В это время, в армии не хватало военных лётчиков, их гибло больше, чем приходило добровольцев. Адамчук согласился пойти на курсы лётчиков, поэтому суд отменили. Учась на курсах, он после, увиденного на фронте, перешёл на сторону большевиков, призывавших отечественную войну превратить в гражданскую. Летать на самолёте, ему не пришлось, началась смута, царя свергли. После революции Сергей Викторович вступил в партию большевиков, Служа в красной армии, он закончил курсы разведчиков. По заданию командования, вернулся в Томск и устроиться репортёром в газету, чтобы добывать сведения, интересующие красных. Полученную информацию, он передавал в центр, через связных, приходивших от партизан. Узнав, что часть ценностей и золотых слитков, выгрузили на станции Тайга, он сообщил об этом партизанам. Они устроили засаду, но колчаковцам удалось отбиться и раствориться в тайге. Белые заподозрили Сергея Викторовича в работе на большевиков и арестовали. От расстрела его спас приход красной армии. После освобождения Томска, Сергея Викторовича назначили директором краеведческого музея, но он не потерял связь с армией, в свободное время продолжал заниматься борьбой. Следил по газетам и журналам за всем новым, что появлялось в стране и мире. В июле 1938-го года Анатолий Александрович Харлампиев на Всесоюзной конференции познакомил любителей борьбы со своей системой приёмов нового вида борьбы. 16 ноября 1938-го Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля». Этот день стал считаться днем рождения САМБО – самообороны без оружия. Харлампиев разделил её на две части : боевое и спортивное. Адамчук поехал знакомиться с Харлампиевым. Они быстро подружились. Сергей Викторович изучил приёмы борьбы, систему тренировки и соревнований. Вернувшись в Томск, организовал для школьников секцию спортивного самба, для милиционеров и военнослужащих боевого. Мы с Яшей записались в секцию первыми, тренировались усердно, три раза в неделю, чем заслужили уважение тренера. Он для нас стал образцом для подражания, поэтому в музее я, с Яшей и Верой, бываю часто. Он стал для нас вторым домом, директор нашим тренером и другом.
Моя статья о роли Томских купцов в строительстве и развитии города, в превращении его в научный и культурный центр азиатской России Сергею Викторовичу понравилась и была напечатана в октябрьском номере альманаха. Я, гордясь земляками, писал, что наши сибирские купцы пользовались у простого народа большим доверием, чем купцы в остальной России, за их верность данному честному купеческому слову. В каждом, из добившихся богатства дельцов, жил неукротимый сибирский дух. Они были староверами, искренне, глубоко верующими, поэтому не скупились на пожертвования. Не уставая, строили: храмы, училища, театры, библиотеки, школы, богадельни, больницы. Построенное купцами, по сегодняшний день, приносят пользу людям, в советской стране. Талантом, трудом и мечтами лучших представителей этого сословия, Томск в XIX веке стал культурным, торговым и образовательным центром Русской Азии. Городом студентов, поэтому князь Константин Вяземский в 1891 году в путевых заметках писал:
«Томск, один из самых больших городов Сибири, расположен на берегу реки Томи, на возвышенности. Посреди города – небольшой холм, с него виден весь город. Это напоминает немного Акрополь Афинский; тот тоже возвышается посреди города.» В год своего 300-летия (1904) Томск по всей России называли Сибирскими Афинами. Город стал центром всероссийского рынка, местом, где накапливались крупные капиталы в торговле, добывающей и обрабатывающей промышленности. Он играл большую роль в культурной жизни всей Сибири. Щедрые пожертвования на развитие культуры, образования и здравоохранения, для томских купцов были обязательными. Они старались, чтобы в Томске всё было лучше, чем в соседних городах. Объединившись, Томские купцы построила здание театра. Одним из самых красивейших зданий города стала частная, бесплатная библиотека, построенная купцом Валгусовым. Она до сих пор привлекает горожан уютным читальным залом, богатым ассортиментом научных и художественных книг. Очень часто строители и жертвовавшие деньги купцы, были молодые, инициативные, предприимчивые, люди со смелыми коммерческими планами. Они создавали торговые дома, товарищества, вкладывали деньги в промышленность, транспорт. При этом, добренькими не были, деньги наживали всеми возможными способами. Нажив, тратили, деньги на культурную и социальную жизнь города. В конце XVIII века, центром Томска становится Базарная площадь. На площади был построен Гостиный двор с торговыми рядами, здание городского самоуправления, кафедральный Благовещенский собор, Богоявленская церковь, улицы с красивыми каменными зданиями и современной планировкой.
Для томских купцов важно было остаться в глазах людей добрыми и щедрыми, хорошими хозяевами, всегда готовыми поделиться своим богатством. Именами щедрых благотворителей горожане называли учебные заведения, приюты, богадельни, сиротские дома, улицы и переулки. Некоторые из них, не поменяли свои названия и в после революции. Внешний вид нашего города был создан их видением, их представлением о том, каким должен быть современный город. Дома купцов были приспособлены к суровым сибирским зимам. Чтобы не ходить по морозу, под одной крышей размещались жилые, торговые и хозяйственные помещения. Вход украшали кованными железными воротами.
Доверие к томским купцам было выше, чем к купцам из других городов Сибири. Их слово являлось гарантией выполнения взятых на себя обязательств, нерушимой печатью сибирского предпринимателя. Купцы праздновали с простыми горожанами, следуя народным обычаям, принимали участие в кулачных боях, борьбе на поясах, взятии снежных крепостей, соревновались в поднятии двухпудовых гирь и других тяжестей, любили лошадиные скачки. Были силачи, которые могли перекреститься двухпудовой гирей и убить быка кулаком. Особую славу, уважение и известность получали непобедимые, прославленные на всю Сибирь силачи и кулачные бойцы, весельчаки, песенники, гуляки. Но время и меру они знали. Делу время – потехе – час, было незыблемым правилом. Славились по всей Руси и наши красавицы. Сибиряки гордились тем, что «женщина в Сибири – не раба мужчины, она ему товарищ. Если первым умирает муж – не погибает дом и промысел, мужем заведённый. Жена-вдова ведет его дальше с той же энергией, какая была присуща мужу». Таких городов в Сибири больше не было. Томск опережал другие города по количеству школ, ремесленных училищ, гимназий. Были открыты два вуза Императорский Сибирский университет и Императорский Томский технологический институт.
В наше, советское время мы жили, как все в СССР. Думали о родине, потом о себе. Старательно учились, занимались спортом. Я получил значок «Будь готов к труду и обороне». Для этого выполнил нормативы:
– в беге на сто и четыреста метров;
– в прыжках в длину и высоту с разбега;
– в метание гранаты,
– в беге на лыжах на пять километров.
Значок ГТО очень ценился, его обладателей уважали, он был престижным. За право получить его боролись известные ученые, спортсмены, герои труда. Но мне этого было мало, я заслужил первые юношеские разряды по лыжам и бегу на сто метров. Обстановка в мире была напряжённая, поэтому советские люди стремились сделать всё, чтобы красная армия была самой сильной в мире. Школьники собирали металлолом, макулатуру, взрослые покупали облигации государственного займа, жертвовали деньги на строительство танков и самолётов. У меня и моих друзей, есть заветная мечта, хотим собрать деньги на строительство танка, чтобы срочную службу отслужить на нём, гремя бронёй, сверкая блеском стали. Наивными были, ещё не знали, что война, в самом деле, совсем не такая, как в песне. Но и не настолько наивными, чтобы не понимать, что собиранием металлолома на танк не заработаешь. У нас в Сибири хорошо помнили адмирала Колчака – правителя Сибири, за жестокость его людей. Наш поэт писал о нём:
Адмирал Колчак
Февраль, седьмое – утро казни.
Глаза враждебные глядят,
Он знает, что не пощадят,
Но встал у стенки без боязни.
Учёный, воин, адмирал,
Сияя белизной мундира,
На ружья глядя, вспоминал,
Что был жесток, желая мира.
Лились, повсюду, реки крови,
Русь полыхала, как пожар,
Он становился всё суровей,
Во власти, видя, божий дар.
Не ведал жалости, ждал страха -
Возненавидела Сибирь,
Не спас он Родину от Краха,
Слеп, оказался, поводырь.
Не каялся, прося прощенье,
Не знавший страха адмирал.
Он, как заслуженное мщенье,
Смерть на рассвете ожидал.
Стоял, как раньше на парадах,
Смотрел, не закрывая глаз,
На ненавидящие взгляды,
Врагов прощая в первый раз.
Много слёз и горя принес он жителям Сибири. Прошло двадцать лет, а люди ничего не забыли и до сих пор, проклинают его. При этом ходит множество мифов и легенд о захваченном его людьми в Казани золотом запасе Российской империи. Он пытался вывести его, но Белочехи предали адмирала, он был арестован и передан представителям Политцентра, потом расстрелян. Мы задумались о том, как вернуть народу пропавшее золото. Взялись за дело горячо. Целыми днями просиживали в библиотеке, просматривали старые газеты и журналы, делали выписки. Так мы узнали, что эвакуация золотых запасов Российской империи из Петрограда и Москвы началась еще во время первой мировой войны в 1915 году. Сначала золото перевезли подальше от фронта в Казань. Большевики не успели его вывести, всё досталось Колчаку. Часть золота была потрачена им на содержание армии (закупка оружия, снарядов, амуницию, выплату денежного довольствия) и часть осела в банках США, Англии, Франции и Японии, часть была захвачена атаманом Семеновым, много увезено чехами, но часть была украдена и спрятана в Сибири. Мы решили узнать где оно находится.
В краеведческом музее пересмотрели архивы белогвардейцев, принимавших участие в сопровождении эшелона. После многих дней изучения, найденных нами материалов, пришли к выводу, что летом 1919 года, когда Красная армия начала наступление, Колчак отступил, сначала в Омск, затем и Новониколаевск. Впереди отступающей армии шел «золотой эшелон» из 40 вагонов с золотом и 12 вагонов сопровождения. Путь отхода через Монголию ему перекрыла партизанская армия Мамонтова, поэтому белыми было принято решение о эвакуации золота отдельными частями. Когда запахло жареным, у некоторых сподвижников Колчак появилось желание использовать золото для личного обогащения. Колчак был известен своей честностью, поэтому правителя извещать об этом не стали. Произошло несколько таинственных случаев, которые сразу расследовать не успели. 14 ноября у разъезда Кирзинский «золотой эшелон» столкнулся с поездом охраны. При столкновении несколько вагонов были повреждены, часть золота пропала. Выяснять причину аварии, и искать золото было некогда. У Новониколаевска 38 вагонов с золотом отсоединились от паровоза и покатились под откос. Как и почему это случилось, опять никто не расследовал. В ночь с 11 на 12 января 1920 года между станциями Зима и Тыреть пропали 13 ящиков с золотом. Но всё это происходило далеко от Томска. Нас заинтересовал тот факт, что на станции Тайга эшелон надолго задержался. Почему неизвестно. Решили выяснить. После долгих размышлений я предположил, что белогвардейцы в спешке спрятали золото неподалекуот железной дороги, когда эшелон стоял у станции Тайга. Ясно, что в лютые декабрьские морозы быстро выкопать достаточно глубокую и обширную яму в промерзшей сибирской земле с помощью лопат и ломов невозможно. Следовательно, для хранения разыскали, уже готовые помещения. В подвалах старых купеческих домов, церквей, в заброшенных часовнях. Мы пытались узнать где? В чтениях, размышлениях и бесплодных мечтаниях проходила зима. Когда ко мне приходит вдохновение и я пишу стихи. Первое своё стихотворение написал, вдохновлённый грозой. Я шёл по городу, черные, растрёпанные ветром тучи смахнули с неба радостную синь, клубясь, столкнулись, как средневековые воины щитами и громыхнули пробным громом. Мускулистый, резвый, ликующий он запрыгал по тучам, как мячик. Затих, послушал тишину, потом с резким треском прорвался сквозь тучи. Покатал от горизонта до горизонта сотни, гулких от пустотелости, стальных шаров. Раскаты падали на землю – эхо от ударившись о землю, снова взлетало к тучам. Грохот падал с высоты тучи и скатывался к линии горизонта и там замирал. Трепещущие, жуткие, как змеиное жало молнии, вырывались из черных глубин туч и прочертив по небу ослепительно – яркую ломаную черту, вонзались в землю складываясь, как плотницкий метр. От их ярости становилось не по себе. Наконец, порывы ветра стихли, косые трассы тёплых струй заштриховали даль, ручьи пузырясь побежали по асфальту и заросшим яркой, густой муравой канавам. Началась классическая майская гроза. Прохожие прятались под навесы у калиток домов. Самые предусмотрительные раскрыв зонты, продолжали путь по тёплым лужам, и тускло поблёскивающему, словно отлакированному, мокрому асфальту. Я присоединился к ним. Шёл, не обращая внимания на густые, длинноногие, как модели на подиуме, струи. Мокрая рубашка, пристала к телу, словно вторая кожа, волосы прилипали ко лбу, сползали на глаза. Сердцу было тревожно и радостно в голове зрели строки стихотворения в ритме ликующего дождя:
Азартом молний дождик вдохновлен,
Косые трассы чертят в небе струи,
Тюльпаны, чокаясь бутоном о бутон,,
На клумбах, грому радуясь, пируют.
Лирика у меня не получается, больше пишу про историю, выдающихся прославленных временем исторических деятелях. Свои творения никому не показываю, стесняюсь. Собираю в тетрадке, может быть, со временем, издам книгу. Пока прячу стихи даже от Веры, но очень хотелось бы знать её мнение о них. Недавно написал несколько стихотворений про природу и Степана Разина:
Бит кнутом, на дыбе ломан -
Знай московских палачей!
По рукам, ногам закован,
Шёл казак под звон цепей.
Буйну – голову не вешал,
Богатырский стан не гнул,
Брата шутками потешил,
Красным девкам подмигнул.
С плеч рванул палач рубаху:
Кожа в клочья, мясо в кровь…
Атаман ему без страха –
Говорит, нахмурив бровь:
– Почему не мыта плаха,
Может лень царю служить?
Вытри кровь моей рубахой -
Ловок был поговорить.
И в бою не ведал страха,
И у плахи не дрожал,
Громко хвастался:– Я махом
Саблей голову снимал!
Умирал – не унывая,
Ни о чём не горевал,
Даже голову теряя,
Людям волю пожелал:
Не печалься, народ русский,
Стеньку песней поминай,
Не ходи дорогой узкой –
На широкой погуляй.
***
Я пришёл дать вам волю,
К воле землю в придачу;
А счастливую долю,
Пусть подарит удача.
Не пристало народу
Жить по – скотски веками.
Завоюйте свободу
Трудовыми руками
За неё берут плату
В битве – жизнью и кровью.
Что решите, ребята:
«Хватит сил и здоровья?»
Сможешь выдержать дыбу,
Стерпишь пытку огнём,
Синяки и ушибы
От ударов кнутом?
Будет в случае краха
Не свобода, а смерть.
Лечь без страха на плаху
Нужно, братцы, уметь.
Я пришёл дать вам волю,
К воле землю в придачу;
Или горькую долю,
Если бросит удача.
***
Свадьбу праздновать – обычай.
Пьян и весел атаман,
Возвратился он с добычей
Из чужих, заморских стран.
От добра осели струги,
Волны плещут через борт,
Слух о них по всей округе
Волга – матушка несёт.
Белой чайкою девица
В воду волжскую летит.
«Веселей гуляй станица!
Этот грех мне Бог простит.
А теперь, айда в столицу!»
Видно, Бог ума лишил,
Смерть красавицы – девицы
И гордыню не простил.
Кто – то Разина осудит,
Я, зря хаять, не хочу:
Удаль есть, была и будет
Лишь героям по плечу.
***
Рождение русского флота
Тут рявкнули пушки, как тысяча львов
И люди увидели диво!
На резком ветру между двух берегов
Флаг русский плескался игриво.
Впервые российский корабль проплывал
По Тихому вольному Дону.
Дон синей волной ему днище ласкал,
Знал, будет опорою трону.
А первый корабль паруса поднимал,
Пётр Первый стоял у штурвала,
Он был на все руки, пилил, и ковал,
И мог заменить адмирала.
Донская волна тихо плещет о борт,
Царь – шкипер от радости пьяный.
Ему и без флота хватает забот,
Но флот, был и будет желанным.
И Меньшиков рядом, хитёр, вороват,
Но верность его беспримерна,
Царю поднёс кубок и крикнул:– Виват!
Корабль получился отменным.-
Тут рявкнули пушки, как тысяча львов
И люди увидели диво!
На резком ветру между двух берегов
Флаг русский плескался игриво.
Когда насочиняю на целую книгу, тогда прочитаю стихи друзьям. Вот Вера удивится.
Весною мы время зря не теряли, читали, написанные советскими писателями, книги. Я был в восторге от Шолохова. Наступил конец марта. С утра пошёл в библиотеку, где меня ждали друзья. На дороге снег посерел и осел. Следы саней и машин, местами, протаяли до земли. С крыш свисали сосульки, похожие на отлитые из хрусталя бивни моржей. Им было жарко, они потели на солнце, капли нависали на остриях, созрев падали, пробивая глубокие дырки в снегу. Но настроение у меня было плохое. Я был возмущён до глубины души. Накануне прочитал в газете, что нашлись люди, усомнившиеся в авторстве «Тихого Дона». Спешил поделиться этой вестью с друзьями, не сомневался, что они меня поддержат. Завистники писали, что писатель нашел рукопись в полевой сумке убитого белогвардейца и присвоил ее себе. Подобную чушь, скорее всего, придумали враги советской власти. Пожилые корифеи литературы не могли перенести того, что такая книга написана молодым автором, не окончившим литинститут. Было много слухов, документальных подтверждений им не было. С толку сбивала книга Голоушева «С Тихого Дона» – небольшой сборник путевых очерков. Название было похожим, но талант автора не сравним с гением Шолохова. Друзья сразу увидели, что я возбуждён. Вера спросила:
– Ты с кем – то подрался? Всклокочен, как мартовский кот.
Я поделился с ними своим возмущением
Слышавшая всё Ольга Владимировна поддержала меня:
– Завистники хотят потушить, взошедшую звезду русской литературы. Не позволим!
Я сел писать открытое письмо завистникам и клеветникам, пытающимся опорочить великого писателя. Я писал:
Почему такие потоки клеветы, ненависти обрушились именно на Шолохова и его великий роман? Бездари не могут смириться с тем, что талант дар природы, его образованием не заменишь. Не даёт им покоя мысль, что лучшие романы прошлого века написаны в России. Врождённая гениальность – необработанный алмаз, который образование шлифует, превращает в бриллиант. Но ни один университет не может из бездаря – графомана сделать талантливого писателя, хоть сто лет учи. И Лермонтова завистники ненавидели за талант.
Нет среди наших современников, писателя с такой зоркостью, наблюдательностью и звериным обонянием, как Шолохов. Перечтите описания хуторов, природы они восхищают. Образы, метафоры свежи, ярки, неповторимы, порою, ошарашивают своей неожиданностью. Чувствуется, что не прошёл человек университет и читал не много, не привык к стандарту интеллигентских сравнений. В каждой фразе здоровый крестьянский дух. Складки у губ по Шолохову чёрствые у классиков – суровые, резкие, глубокие. Выстрелы – рассыпаются лузгой, придорожник – живущой, у горы хребтина, нос коршунячий, звёзды зыбятся, ветер из– под туч, туман ходит на дыбах … Читайте:
«В садах жирно желтел лист. От черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья в рваных ранах…жирно желтел, предсмертным багрянцем! У кого ещё можно найти подобное? А вкрапления юмора: Отец Григория едущий пьяным из гостей, утопивший в проруби лошадь и бросающий следом кнут, разве это не прообраз Щукаря из «Поднятой целины?».
Спорить нет смысла, ясно, что автор великого романа – Шолохов.
Мы поставили подписи свои и отправили письмо в журнал «Октябрь».
К сожалению, оно напечатано не было. Но совесть наша была чиста, мы не промолчали, не дали оскорблять гениального писателя. После этого письма, меня потянуло на прозу. Мне нравились рассказы об отношениях человека и с животными: рассказ Чехова «Каштанка» и «Белый клык» Джека Лондона. Мы были воспитаны на подвигах красных конников, поэтому я главным героем своего рассказа выбрал жеребёнка. Сначала я долго мучился, не знал о чём писать, потом вспомнил, как мы ездили в ночное, как купали лошадей в реке и дело пошло я написал свой первый рассказ «Непобедимый».
Рассказ писал ночами и каждую свободную минуту днём. Когда рассказ был закончен я, решив отдохнуть, предложил Якову съездить на охоту.
Полюбуемся тайгой, отдохнём от города, добудем дичь и устроим пир горой. Моя бабушка умеет так приготовить глухаря, что вкус его во – век не забудешь, Она делает необыкновенную приправу из брусники и особый морс из клюквы. Вкуснотища! Ещё, я обожаю пельмени из оленины, строганину из лосятины и хариус слабого посола, с душком, но вкуснее всего строганин из печени лося – это слаще шоколада. У меня слюнки потекли от аппетита.
– Яков, оказывается, ты поесть любишь больше, чем на самолётах летать. Засмеялась Вера.– Я пойду с вами.
– И будешь убивать птичек, зайчиков и лосей?– удивился Яков.
– Никогда! Стрелять в такую красоту? Как вы могли. Слушайте:
Глухарь
Закатив глаза и выгнув бровь,
Он поёт, забыв про всё на свете,
Нет прекрасней песни на планете,
Чем его, про верность и любовь.
Среди сосен, по краям болот,
Режет снег крылом, как пахарь плугом,
Песнями зовёт свою подругу,
Верит – обязательно придёт.
Бровь алеет, нимб украсил грудь,
Веер хвост, вверх вытянута шея,
Он поёт смелее и смелее,
Я застыл, боюсь его спугнуть.
Я лучше всю жизнь на сухарях и воде сидеть буду, чем убивать такую птицу.
– Такая и в самом деле будет сидеть на хлебе и воде. Настоящая кержачка – подумал я.
– Тогда сиди дома и изучай рецепты моей бабушки. Охота дело мужское – трудное и опасное. Не всякий на кабана пойдёт, тем более на медведя.
Решили идти в субботу, после школы. Вечером подготовили всё необходимое: лыжи, ружья, патроны, еду, одежду. Ночевать решили в заимке Яшиного деда – профессионального охотника, добывавшего пушнину и мясо на охоте, рыбу на рыбалке. Он месяцами жил в тайге. После школы мы с Яшей пообедали, переоделись и на лыжах отправились в тайгу. Лыжи скользили плохо, поэтому мы быстро вспотели, но шли бодро, мышцы радовались нагрузке. Высокие ели уже стряхнули снег с ветвей, стояли густым, непроходимым частоколом вдоль дороги. Пришли на заимку, когда стало смеркаться. Солнце коснулось вершин елей. Первым делом запасли сухие ветки для костра. Костер разожгли, когда уже совсем стемнело. Искры фейерверком взлетали в черное, холодное небо, потускнев падали к нашим ногам, как рыжие, сорванные осенним ветром листья. Пляшущее, зубчатое пламя костра рождало вокруг нас прыжки тьмы и света. Казалось, они боролись за место у костра. В котелке сварили пшённую кашу, заварили чай, ужин получился на славу. Пока мы ели и пили чай, над головами ухали, охотясь на мышей совы. Яков зовёт их светофорами за горящие в темноте глаза. Решили долго не засиживаться, чтобы встать пораньше. Спали в домике, хорошо протопив печь. Усталость заглушила плохие мысли, беспокойство утихло, уснуло вмести с нами. Ночью я проснулся от холода. Подбросил сушняка в печку, согрелся и снова уснул. Когда, проснувшись, открыл глаза, то увидел, что угли в печке ещё мерцали, раздуваемые порывами, набиравшего силу ветра. Казалось, что они подмигивают мне красными зрачками, с голубоватыми крапинами синих огоньков. Я разбудил Яшу, спавшего богатырским сном. Позавтракав бутербродами, попили чай и пошли искать добычу. Зайцы наследили в снегу, но на глаза нам не попадались. Между елей мелькнула рыжая лиса, белки прыгали по ветвям, не обращая на нас никакого внимания, словно знали, что их шкурки нас не интересуют.
