Первообразные корни и ихъ производные въ Рускомъ языкѣ
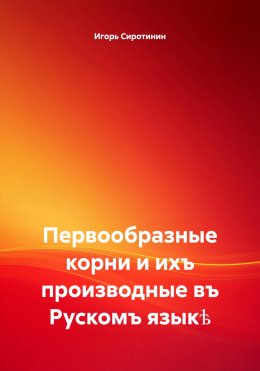
Вмѣсто предисловiя
Въ этой предпосылкѣ къ изслѣдованiю скажемъ нѣсколько словъ объ особенностяхъ правописанiя настоящей работы, которая, хотя написана по правиламъ Рускаго языка конца XIX вѣка и бытовавшаго до 1918 года, всё же содержитъ нѣкоторыя отличiя отъ нихъ. Эти отличiя внимательный читатель, конечно, увидитъ и оцѣнитъ, но перечислять ихъ здѣсь было бы неумѣстно. Тѣмъ не менѣе можно заявить, что въ общемъ за образецъ правописанiя были выбраны правила втораго изданiя «Толковаго словаря живаго Великорускаго языка» В.И. Даля, впрочемъ, не безъ изъятiй. Полагаемъ, что читателю будетъ любопытно узнать о томъ, почему эта работа предложена на письменномъ языкѣ той поры. Попробуемъ удовлетворить это оправданное любопытство.
Мы помнимъ, что упрощенiе Рускаго правописанiя совершилось болѣе 100 лѣтъ назадъ, но, несмотря на это, старыя правила продолжаютъ существовать въ нашемъ огромномъ письменномъ наслѣдiи. Книги отмѣнённаго образа письма составляютъ завѣтную сокровищницу Рускаго духа, значенiе которой невозможно переоцѣнить. Невозможно также отмѣнить книжное наслѣдiе какъ явленiе, даже если бы кто-то и захотѣлъ это сдѣлать. Этѣ книги находятся въ большомъ количествѣ въ нашихъ главныхъ библiотекахъ и музеяхъ, они стоятъ на полкахъ частныхъ книжныхъ собранiй въ несчитаномъ числѣ. Письменное наслѣдiе принадлежитъ не только прошлому, но и настоящему и, безусловно, будущему нашего народа. Слѣдовательно, и правописанiе тѣхъ, не такихъ ужъ и далёкихъ, времёнъ будетъ съ нами всегда, а это обстоятельство, въ свою очередь, требуетъ отъ насъ знанiя старыхъ правилъ языка, хотя бы потому, что, не зная правилъ, невозможно вполнѣ понимать письменное наслѣдiе нашихъ предковъ.
Старую правопись продолжали использовать въ своихъ трудахъ писатели и мыслители, выѣхавшiе изъ Росiи послѣ 1917 года, а также ихъ потомки. Находясь за предѣлами своей родины, они продолжали творить на письменномъ языкѣ Императорской Росiи. Въ ряду такихъ нашихъ соотечественниковъ были К.Д. Бальмонтъ, И.А. Бунинъ, И.А. Ильинъ, А.И. Купринъ, В.В. Набоковъ, И.И. Сикорскiй, А.Н. Толстой, П.Д. Успенскiй и другiе. Нашъ знаменитый языковѣдъ А.А. Шахматовъ, прежде горячiй поборникъ упрощенiя правописанiя, оставшiйся въ большевицкой Росiи, осозналъ вредъ совершённыхъ уже губительныхъ преобразованiй языка и въ послѣреволюцiонныхъ изданiяхъ своихъ трудовъ продолжалъ использовать прежнее правописанiе. Зарубежныя издательства Ру-ской православной церкви выпускали и продолжаютъ выпускать въ свѣтъ книги на «старомъ» языкѣ. Въ самой Росiи послѣ переворота 1991 года нѣкоторые любители роднаго языка въ качествѣ руководящихъ правилъ письма приняли прежнее правописанiе и слѣдуютъ этимъ правиламъ при подготовкѣ своихъ трудовъ. Въ помощь «старопишущимъ» у насъ вышли въ свѣтъ пособiя и справочники В. Егорова (1991), В. Асмуса (1999), П. Давыдова (2013), М. Тейкина (2016). Уважаемыя издательства въ Росiи выпускаютъ въ свѣтъ книги прошлой поры, писанныя по прежнимъ образцамъ Рускаго письма. Теперь мы имѣемъ примѣры переизданiй дореволюцiонныхъ произведенiй въ полномъ Рускомъ правописанiи. Благодаря переводу старопечатныхъ книгъ въ электронный видъ для изслѣдователей появилась возможность познакомиться со многими изъ нихъ въ подлинномъ правописанiи. Обобщая сказанное въ отношенiи употребленiя стараго письма, слѣдуетъ замѣтить, что использованiе исконно Руской правописи на дѣлѣ никогда не прекращалось. Какъ говорятъ наблюдатели, число «старопишущихъ» за послѣднiе годы значительно выросло и продолжаетъ расти.
Для нѣкоторыхъ, употребляющихъ правила письма съ ерами и ятями, это просто дань модѣ или украшательству. Но бóльшая часть пишущихъ такимъ способомъ дѣлаютъ это осознанно въ стремленiи сберечь письмо въ его лучшихъ образцахъ и донести эти образцы до грядущихъ поколѣнiй. Что касается предлагаемаго изслѣдованiя, то въ данномъ случаѣ использованiе правилъ письма времёнъ, предшествовавшихъ его упрощенiю, является насущной необходимостью. Въ нашемъ случаѣ, когда поставлена задача описать сокровенные законы Рускаго языка въ отношенiи корнеобразованiя, мы должны использовать болѣе тонко настроенное орудiе письменной рѣчи, а именно дореформенное письмо, такъ какъ невозможно объяснить сложную знаковую систему болѣе простой. Дѣло въ томъ, что однимъ изъ важнѣйшихъ свойствъ мышленiя является его способность къ различенiю: чѣмъ больше свойствъ и признаковъ какой-либо вещи или явленiя можно распознать съ помощью даннаго языка, тѣмъ глубже и тоньше мысль, тѣмъ больше понятiй можно выразить этимъ языкомъ. Такимъ языкомъ можно изъяснить больше смысловыхъ плановъ изслѣдуемаго предмета, а значитъ – лучше понять его. Для насъ очевидно, что языкъ XIX в. по сравненiю съ современнымъ имѣетъ болѣе сложное устройство, позволяющее выказывать тончайшiе оттѣнки человѣческой мысли. Нынѣшнiй же упрощённый письменный языкъ подобенъ рѣзцу ваятеля, который съ намѣреньемъ затупили. Да, можетъ быть, такое орудiе проще въ обращенiи, но тупымъ рѣзакомъ не исполнишь произведенiя, какое можно высѣчь острымъ.
Глава 1. Введенiе
1.1. Задача настоящаго труда
Въ нашей работѣ мы ставимъ передъ собой задачу опредѣлить первообразные корни Рускаго языка и описать правила образованiя ихъ производныхъ различнаго уровня, а также предоставить примѣрный разчётъ числа корней Рускаго языка въ общемъ видѣ. Такая постановка задачи потребовалась потому, что въ современной намъ Росiйской академической наукѣ языкознанiя сложилось убѣжденье, что корни «нельзя задать спискомъ въ языкѣ»,[1] а сами корни неперечислимы.[2] Отсюда, по положенiямъ современнаго языковѣдѣнiя, какъ бы вытекаетъ выводъ – полный составъ корней Рускаго языка непознаваемъ. Такiя же установки существуютъ и въ Европейскомъ языкоученiи. Конечно, съ такимъ выводомъ нельзя согласиться, поскольку Рускiй языкъ, какъ и Первобытный языкъ человѣчества, или Праязыкъ, содержитъ конечное число первообразныхъ корней, имѣющихъ вполнѣ опредѣлённыя значенiя, а также множество, но конечное число производныхъ корней, задать которые спискомъ дѣйствительно нельзя. Но ихъ можно представить въ видѣ числовида (формулы, латн.), то есть въ общемъ видѣ, въ общемъ выраженiи, съ вычисленiемъ ихъ количества. Оцѣнивая мiровую науку о языкахъ, нельзя не отмѣтить, что она сегодня находится въ состоянiи застоя, даже упадка. Это связано прежде всего съ ошибочными исходными предпосылками, а именно съ накопленiемъ въ языковѣдѣнiи уклоненiй, сдѣланныхъ въ угоду предположенью, согласно которому языкъ не является врождённой способностью человѣка, а возникъ «въ ходѣ эволюцiи».
Къ выводамъ о непознаваемости корней языковъ народовъ мiра учёныхъ подводитъ также то обстоятельство, что языковѣды Среднихъ и болѣе позднихъ вѣковъ прилагали немалыя усилiя къ тому, чтобы извлечь начальные корни Европейскихъ и Азiатскихъ языковъ, что позволило бы многое понять о Первобытномъ всеобщемъ языкѣ древняго человѣчества, но всѣ ихъ труды были тщетны. Въ концѣ концовъ изслѣдователи перестали вѣрить въ возможность возсоздать первоначальные корни словъ. Неудачи Европейскихъ учёныхъ въ познанiи законовъ Первобытнаго языка, на нашъ взглядъ, кромѣ общей причины – ошибочныхъ исходныхъ предпосылокъ, въ большoй мѣрѣ были связаны съ тѣмъ, что всѣ ихъ изслѣдованiя основывались на языкахъ третьяго или четвёртаго образованiя, которые, будучи составными, не позволяли учёнымъ увидѣть первоначальное устройство изслѣдуемыхъ языковъ и понять ихъ основные законы. Западно-Европейскiе учёные, положивъ въ основанiе своей науки о языкѣ ложныя представленiя о происхожденiи языка, привели своё языкознанiе въ полный упадокъ. Уважаемый у насъ Французскiй учёный А. Мейе утверждалъ, что «объ этой общей основѣ (Праязыкѣ) можно составить себѣ представленiе только путёмъ гипотезъ, и притомъ такихъ гипотезъ, которыя провѣрить нельзя».[3] Въ XIX в. Нѣмецкiе языковѣды полагали правильнымъ заниматься «не столько уясненiемъ корней, сколько словопроизведенiемъ и словосоставленiемъ». Изслѣдуя Индо-Европейскiе языки, Британскiй языковѣдъ Томасъ Барроу заключилъ, что «корневыя имена – это древнiй видъ словъ, замѣтно пришедшiй въ упадокъ даже въ самыхъ раннихъ засвидѣтельствованныхъ Индо-Европейскихъ языкахъ».[4] Къ началу XX в. вопросъ корнеобразованiя для языкознанiя по-прежнему оставался тёмнымъ и въ сущности никѣмъ почти не затронутымъ.[5] Труды Европейскихъ учёныхъ, нерѣдко талантливыхъ, почти всегда безплодны въ отношенiи корней: за прошедшее XX столѣтiе ничего не сдѣлано въ познанiи корней, которые являются самой важной частью образованiя языковъ рода человѣческаго.
Славянскiе же языки Европейскими языковѣдами никогда глубоко не разсматривались какъ объектъ изслѣдованiя. Извѣстный Росiйскiй славистъ А.Ѳ. Гильфердингъ въ своей работѣ «О сродствѣ языка Славянскаго съ Санскритскимъ» (1853), отзываясь о Европейскихъ изслѣдователяхъ Праязыка, писалъ: «…странно, что изо всѣхъ языковъ Славянскiй въ ихъ трудахъ занимаетъ послѣднее мѣсто. Они скорѣе основываютъ свои выводы на языкѣ Зендскомъ, или Литовскомъ, или Кельтскомъ, чѣмъ на богатомъ и цвѣтущемъ языкѣ племени, занимающаго восточную половину Европы. Трудно объяснить такое явленiе: или не могутъ они выучиться языку Славянскому (но они могли же выучиться языку, котораго никто не зналъ и котораго письмена даже не были извѣстны, – древне-Персидскому), или они теряются во множествѣ Славянскихъ нарѣчiй, или не хотятъ дотронуться до области, которую слѣдовало бы разобрать самимъ Славянамъ. Какъ бы то ни было, сравнительное языковѣдѣнiе, созданное на западѣ Нѣмецкими учёными, не знаетъ языка Славянскаго: оно знаетъ только, что есть весьма богатый языкъ семьи Индо-Европейской, извѣстный подъ названiемъ Славянскаго. Но что это за языкъ, въ какомъ онъ отношенiи къ языкамъ родственнымъ, – объ этомъ не спрашивайте у языковѣдовъ нашихъ западныхъ сосѣдей».
И всё же главной причиной такого пренебреженья къ языкамъ Славянскимъ является отказъ самихъ Славянъ отъ первородства своихъ языковъ и признанiе ихъ вторичности. А происходитъ это оттого, что Европейцы сумѣли навязать намъ черезъ нашихъ вельможъ и учёныхъ предубѣжденiе, что Славяне – народъ Азiатскiй, въ значенiи помѣси съ такъ называемыми Туранскими народами или Фино-Уграми, и поэтому этотъ языкъ не можетъ представлять изъ себя «чистаго Арiйскаго источника». Славяне занимаютъ полъ-Европы, но Европейцы давно уже провозгласили Славянъ кочевниками, едва прибывшими изъ Азiи въ Европу въ VI в. по Р.Х.[6] А мы съ этимъ согласились. Наша наука, забывъ и презрѣвъ свой природный языкъ, пошла за Европейскою наукой. Во второй половинѣ XIX в. Росiйскiе учёные съ воодушевленiемъ засвидѣтельствовали, что Европейскiе языковѣдческiе подходы «привились и на нашей филологической почвѣ».[7] Исходя изъ воззрѣнiй Европейскихъ учёныхъ, почти всё учёное сообщество Росiи согласилось, что многiе вопросы о происхожденiи корней, ихъ видахъ и видоизмѣненiи, вѣроятно, навсегда останутся тёмными. Объ отношенiи нѣкоторыхъ записныхъ Росiйскихъ учёныхъ-языковѣдовъ половины XIX в. къ Рускому языку говоритъ то обстоятельство, что Комисiя Московскихъ академиковъ, принявъ на себя разработку академической «Общесравнительной Граматики Рускаго языка», поставила себѣ образцомъ Нѣмецкую граматику! И это притомъ, что Нѣмцы съ XI до XVII вв., то есть въ ту пору, когда Рускiй языкъ пребывалъ въ своей самородной чистотѣ, полнотѣ и силѣ, въ качествѣ богослужебнаго языка и языка государственнаго дѣлопроизводства использовали Латынь, языкъ мёртвый, для немногихъ вразумительный. Ни одинъ Нѣмецкiй учёный тогда не могъ выражать свои мысли на языкѣ народномъ, потому какъ онъ представлялъ изъ себя нестройную говорку. И чему же мы могли научиться у Нѣмцевъ? Нѣкоторые наши учёные пошли ещё дальше, утверждая въ частности, что корни, обсуждаемые въ граматикахъ, не имѣютъ никакого научнаго значенiя, а «форма ихъ должна мѣняться съ прогресомъ науки».[8] Можетъ быть, поэтому въ нашемъ современномъ языкознанiи замѣчается такое «лёгкое» и даже пренебрежительное отношенiе къ корнямъ словъ. Почти всѣ наши словари основываются на глаголахъ, по которымъ трудно установить корень слова. Европейскiе подходы и прiёмы въ изслѣдованiи языка глубоко проникли во всѣ части нашей науки о языкѣ. А между тѣмъ слѣдуетъ сказать, что западно-Европейскiе языки и другiе составные языки для языковѣдѣнiя ни къ чему не годные. Въ нашу науку вводятся понятiя чуждыя: чего только стоятъ такiя опредѣленiя Европейскаго языкознанiя, вполнѣ внедрённыя въ наше образованiе, какъ, напримѣръ, префиксъ (впереди прикрѣплённый), внутренняя флексiя (измѣненiе гласныхъ въ корнѣ), флексiя (измѣненiе гласныхъ въ окончанiи), постфиксъ (послѣ прикрѣплённый, слѣдующiй послѣ корня), суфиксъ (су-фиксъ, идущiй за корнемъ), и́нфиксъ (вставленный). И это притомъ, что у насъ существуютъ свои, соотвѣтствующiя вышеприведённымъ иностраннымъ понятiямъ, но болѣе ясныя и точныя, опредѣленiя – приставка, корень, койности гласныхъ или музыкальные переходы гласныхъ въ корнѣ и въ окончанiяхъ, окончанiе, въ т.ч. нарощенное окончанiе, выговоръ юса (ѫ) въ корнѣ. Основныя положенiя современнаго намъ ученья о звуковомъ строѣ языка (фонетики, греч.), которыя начиная съ половины XVIII в. разрабатывались западно-Европейскими учёными, были также слѣпо приняты у насъ. Сначала Рускiе языковѣды и широкiе круги общественности съ недовѣрiемъ отнеслись къ насажденiю привнесённыхъ, искуственныхъ подходовъ къ изученiю звуковыхъ средствъ языка. Однако въ концѣ концовъ и въ Росiи возобладалъ Европейскiй подходъ въ изученiи звуковой стороны языка, который былъ основанъ на ошибочномъ признанiи привычки какъ силы, обуславливающей строй и составъ языка.[9] «Европейскiй» взглядъ на звуковой строй нашего языка особо отчётливо выразился въ словахъ С.К. Булича, который утверждалъ, что звуки (здѣсь подразумѣвается произношенiе буквъ въ рѣчи) являются слѣдствiемъ привычекъ произношенiя и мѣняются въ зависимости отъ постепеннаго измѣненiя этихъ привычекъ. Но языкъ человѣческiй основанъ на своихъ законахъ, а не на привычкахъ человѣка; если послѣдовать за привычками человѣческихъ сообществъ, то этотъ путь очень скоро приведётъ къ полному вырожденiю языка, что мы и наблюдаемъ въ рядѣ языковъ. Президентъ Академiи Росiйской Александръ Семёновичъ Шишковъ писалъ въ началѣ XIX в.: «Навыкъ и вкусъ, основанные на невѣжествѣ, суть весьма худые путеводители. Разумъ, разсуждая, долженъ созидать ихъ, а не они предписывать законы разуму; ибо тогда владычество ихъ будетъ безумiе».[10] Заявляя предметомъ изслѣдованiя Рускiй языкъ, мы не берёмся обозначить чёткихъ границъ между Рускимъ и Славянскимъ языками. Мы склонны считать Рускiй языкъ нарѣчiемъ Славянскаго, прежде всего потому, что корни у всѣхъ Славянскихъ языковъ (нарѣчiй) одни и тѣ же. Болѣе того, не замыкаясь кругомъ Славянскихъ языковъ, мы разсматриваемъ любые языки какъ производные Первобытнаго языка, въ той или иной мѣрѣ сохранившiе его законы. Южно-Рускiй учёный XIX в. Платонъ Акимовичъ Лукашевичъ указывалъ, что Славянскiй языкъ поясняетъ и исправляетъ новые языки, а не наоборотъ, и свѣдущiй языковѣдъ это всегда имѣетъ въ виду.[11] Мнимо-первобытные языки – Санскритскiй, Авестiйскiй, древне-Греческiй, Латинскiй есть мёртвые языки. Латинскiй языкъ, между прочимъ, на основѣ коего образованы всѣ Европейскiе языки, за исключенiемъ Славянскаго, составленъ уже въ лѣтописную пору; народа, который разговаривалъ бы на Латинскомъ языкѣ, никогда не существовало и не существуетъ теперь (сословныя и научныя сообщества не въ счётъ), какъ, впрочемъ, не было народовъ, говорившихъ на Санскритскомъ или Авестiйскомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ учёные указываютъ – Санскритъ, «какимъ бы ни былъ его возрастъ, имѣетъ поразительную структуру; онъ совершеннѣе Греческаго, богаче Латинскаго и превосходитъ оба этихъ языка по утончённой изысканности».[12] Это указанiе въ большей мѣрѣ относится къ бѣдности Греческаго и Латинскаго, чѣмъ къ богатству Санскрита. Тѣмъ не менѣе, если мы будемъ объяснять Рускiй языкъ гранесловiемъ (граматикой, греч.) Санскритскаго, а ещё того хуже – правилами Нѣмецкаго, Французскаго или Англiйскаго, то ничего не поймёмъ въ своёмъ языкѣ.
Языковѣденiе стремится стать точною наукою, что совершенно недостижимо безъ изученiя первоначальныхъ корней, на которыхъ основанъ любой языкъ. Языкъ данъ намъ его создателемъ какъ совершенное орудiе мышленiя и познанiя всего сущаго, и нашей обязанностью является сохраненiе языка въ наиболѣе древнемъ видѣ. Сберечь языкъ въ цѣлости можно только познавъ его законы и слѣдуя этимъ законамъ въ использованiи языка. Храня первоначальныя значенiя корней, мы сберегаемъ первоначальныя понятiя о вещахъ. Самый здравомыслящiй народъ – тотъ, у котораго въ словаряхъ опредѣлены значенiя всякаго слова, ибо подобный опредѣлительный словарь есть высочайшая мудрость, предотвращающая тысячи недоразумѣнiй и разногласiй. А.С. Шишковъ писалъ по этому поводу, что народъ прiобрѣтаетъ всеобщее къ себѣ уваженiе, когда оружiемъ и мужествомъ хранитъ свои предѣлы, когда мудрыми поученiями и законами соблюдаетъ доброту нравовъ, когда любовь ко всему отечественному составляетъ въ нёмъ народную гордость, когда плодоносными ума своего изобрѣтенiями не только самъ изобилуетъ и украшается, но и другимъ избытки свои сообщаетъ. О такомъ народѣ можно сказать, что онъ просвѣщёнъ. Но что такое просвѣщенiе, и на чёмъ имѣетъ оно главное своё основанiе? Безъ сомнѣнiя, на природномъ своёмъ языкѣ. На нёмъ производится богослуженiе, насаждающее семена добродѣтели и нравственности; на нёмъ пишутся законы, ограждающiе безопасность каждаго; на нёмъ преподаются науки, отъ звѣздословiя до земледѣлiя. Художества черпаютъ изъ него жизнь и силу. Можетъ ли слава оружiя гремѣть въ роды и роды, могутъ ли законы и науки процвѣтать безъ языка и словесности? Нѣтъ! Безъ нихъ всѣ знаменитые подвиги тонутъ въ пучинѣ времени; безъ нихъ молчитъ нравоученiе, безгласенъ законъ, косноязыченъ судъ, младенчествуетъ умъ. Лучшiе наши умы были убѣждены, что языковѣдѣнiе не можетъ отказаться отъ возстановленiя древнѣйшаго Рускаго языка во всёмъ его строѣ и составѣ, со всѣми его корнями и словами, если не со всѣми безъ исключенiя, то по крайней мѣрѣ со всѣми главными.[13] Отсюда слѣдуетъ, что возвратъ къ Рускому письму и правиламъ языка XIX в., съ бережной правкой, необходимъ. Наши словари должны беречь первобытные виды и значенiя словъ, поскольку возстановленiе первоначальныхъ смысловъ словъ есть возстановленiе первоначальнаго языка. Въ каждой мѣстности Росiи слова и обороты народной рѣчи различны, хотя и составляютъ одинъ языкъ; ихъ должно сохранять какъ драгоцѣнный даръ, потому что въ мѣстныхъ нарѣчiяхъ, менѣе книжнаго языка подвергавшихся измѣненiямъ, сохранилось больше старины. Чѣмъ ближе языкъ къ Первобытному языку, чѣмъ онъ древнѣе, тѣмъ болѣе онъ дробится по мѣстнымъ говорамъ.[14] А изъ этого слѣдуетъ: сохраняя мѣстныя нарѣчiя, мы сберегаемъ нашъ языкъ въ цѣлости всего его гранесловнаго богатства. Народныя нарѣчiя не должны уничтожаться однимъ столичнымъ говоромъ. Замѣтимъ между прочимъ, что границы Рускихъ говоровъ въ основномъ совпадаютъ съ границами бывшихъ удѣльныхъ княжествъ, образованныхъ на земляхъ большихъ родовыхъ союзовъ, говорившихъ на особыхъ нарѣчiяхъ Рускаго языка, а границы говоровъ Европейскихъ Славянъ, гдѣ они не переродились ещё совершенно, – съ тамошними границами ихъ древнихъ земель.
Внѣшнiя измѣненiя нашей жизни безпредѣльны и требуютъ сообразныхъ выраженiй и словъ, обозначающихъ новыя явленiя. Нашъ народъ въ лицѣ власти, учёныхъ и писателей долженъ имѣть волю и умѣнье образовывать необходимыя слова, а не занимать ихъ въ угасающихъ языкахъ. Только народъ, создающiй слова-понятiя, за которыми стоятъ важнѣйшiе законы и явленiя его жизни, получаетъ право толковать и объяснять смыслы этихъ понятiй. Включая въ наши словари иностранныя слова, мы обрѣкаемъ себя на вѣчную вторичность, признавая первородство языковъ, которые таковыми не являются. Наши языковѣды могутъ очистить наши нарѣчiя отъ чужеземщины, которую мы сами вмѣшали въ нихъ, не умѣя цѣнить богатство своего языка, – призывалъ учёный В.А. Мацѣевскiй.[15] Сохраненiю Рускаго языка сильно помогъ бы отказъ государственныхъ властныхъ учрежденiй отъ бездумнаго включенiя иностранныхъ словъ въ наши законы и постановленiя. Нынѣ въ законотворчествѣ почти во всѣ рѣшенiя, упорядочивающiя различныя области общественной жизни, законодатели совершенно произвольно вводятъ иностранныя слова, подстраивая нашъ языкъ подъ Европейскiе словари и принуждая такимъ образомъ народъ употреблять чуждыя ему слова. Это касается области государственнаго строительства, народнаго права и хозяйствованiя, науки, искуства, здравоохраненiя и проч. Въ глазахъ такихъ дѣятелей иностранныя слова есть научныя понятiя, а Рускiя – просторѣчiе, «недопустимое» въ столь важныхъ бумагахъ, какъ законы страны. Необходимъ особый надзоръ за дѣятельностью государственныхъ учрежденiй въ этой области. Учитывая развитiе и широкое распространенiе средствъ передачи данныхъ (СМИ), такихъ какъ телевидѣнiе, радiо, печатныя изданiя, интернетъ, которыя, передавая населенiю опредѣлённые рѣчевые образы, какъ правильные, такъ и неправильные, оказываютъ огромное влiянiе на нашъ языкъ; всѣ они должны быть подчинены строгому порядку, направленному на сохраненiе чистоты языка.
Слѣдуя завѣщанiю нашихъ выдающихся учёныхъ о сохраненiи Рускаго языка, мы описали въ этомъ трудѣ весь составъ первообразныхъ и основныхъ производныхъ корней Рускаго языка съ объясненiемъ общихъ правилъ ихъ образованiя. Въ настоящей работѣ представлены важныя открытiя, а именно: 1) объяснены понятiя «первообразныя согласныя», «первообразная гласная», «первообразный корень»; 2) доказано, что нашъ языкъ, такъ же какъ Праязыкъ, содержитъ 12 первообразныхъ согласныхъ и 12 гласныхъ; 3) открытъ орудный (тѣлесный, природный) порядокъ первообразныхъ согласныхъ буквъ, объясняющiй, въ частности, плавные переходы значенiй корней въ Рускомъ языкѣ; 4) установлено предназначенiе большаго юса (ѫ) какъ древней корневой гласной и опредѣлены семь его частныхъ выговоровъ; 5) описано правило образованiя первообразныхъ корней вида СѪС (согласная-юсъ-согласная) сопряженiемъ первообразныхъ согласныхъ другъ съ другомъ попарно и размѣщенiемъ внутри каждой пары древней гласной юсъ (ѫ); 6) открыта и объяснена связь корней вида СГС (согласная-гласная-согласная) и совершенныхъ (полныхъ или истотныхъ) корней вида СГСС/ССГС/СГСГС; 7) составленъ Распредѣлительный чертёжъ Рускаго (Славянскаго) языка, представляющiй точную послѣдовательность всѣхъ корней Рускаго языка; 8) подведена научная основа для объясненiя прямаго и обратнаго чтенiя корней и словъ; 9) представлено дерево производныхъ корней, образованныхъ отъ первообразныхъ корней; 10) подсчитано число корней Рускаго языка въ общемъ видѣ.
Послѣ опредѣленiя полнаго состава первообразныхъ корней и ихъ производныхъ у нашей науки появится возможность заняться объясненiемъ высшихъ, то есть первичныхъ, отвлечённыхъ, первобытныхъ смысловъ первообразныхъ корней нашего языка, слѣдуя отъ частнаго къ общему, то есть двигаясь отъ опредѣленiя значенiй корней отдѣльныхъ однокоренныхъ словъ къ обобщённому значенiю корней куста однокоренныхъ словъ и далѣе къ значенiю ихъ общаго первообразнаго корня. И, можетъ быть, послѣ объясненiя смысловъ корней Руское языковѣдѣнiе сумѣетъ приступить къ выявленiю корней, на которыхъ основаны приставки и окончанiя словъ, предлоги, мѣстоименiя и союзы.
1.2. Происхожденiе языка
Происхожденiе языка неразрывно связано съ происхожденiемъ человѣка, а причина происхожденiя человѣка находится внѣ самого человѣка. Слѣдовательно, и причина возникновенiя языка находится внѣ человѣка. В.И. Вернадскiй, описывая «ноосферу» какъ земную оболочку всеобщаго разума человѣчества, замѣтилъ, что человѣкъ не является самодостаточнымъ живымъ существомъ, живущимъ отдѣльно по своимъ законамъ; онъ существуетъ какъ часть Природы. И въ этомъ свѣтѣ языкъ – это мыслительная или смысловая надличностная дѣйствительность, созданная Творцомъ, соединяющая человѣчество со Вселенскимъ Разумомъ. Языкъ вѣченъ и неизмѣненъ. Находиться въ области его влiянiя, быть «подключённымъ» къ нему или, напротивъ, «отключаться» отъ языка, удаляться отъ него, это дѣло и выборъ людей. Языкъ человѣческiй появился вмѣстѣ съ появленiемъ самого человѣка, какъ, впрочемъ, и соловьиная пѣсня вмѣстѣ съ соловьёмъ. Происхожденiе языка покрыто такою же тайной, какъ происхожденiе человѣка. Изслѣдователи давно сдѣлали выводъ – нельзя разсматривать вопросъ о происхожденiи языка внѣ происхожденiя человѣка; и если языкъ появился вмѣстѣ съ человѣкомъ, то не могло быть безъязычнаго человѣка. Болѣе того, духовныя ученiя разныхъ народовъ вопросъ о происхожденiи языка не отдѣляютъ отъ вопроса происхожденiя всего сущаго. Членъ Петербургской Академiи наукъ, признанный учёный XIX в., имѣющiй большой вѣсъ въ наукѣ языкознанiя, Ѳёдоръ Ивановичъ Буслаевъ писалъ о происхожденiи языка: «Языкъ есть не случайное изобрѣтенiе, совершённое однимъ или нѣсколькими лицами, а необходимое выраженiе дара слова, которымъ Творецъ отличилъ человѣка отъ прочихъ животныхъ. Образованiе языковъ сокрыто отъ насъ въ глубинѣ вѣковъ, предшествовавшихъ появленiю народовъ на историческомъ поприщѣ. Знаемъ только, что ни одинъ народъ, даже на самой низкой ступени общественнаго быта, безъ языка не обходился».[16] Въ учёномъ мiрѣ принято считать, что языкъ такъ же древенъ, какъ и сознанiе. Языкъ есть матерiальное воплощенiе мышленiя; языкъ и мышленiе возникаютъ и существуютъ вмѣстѣ какъ двѣ стороны одного и того же явленiя. Посредствомъ словъ или рѣчи мы вѣдаемъ названiя и сущность вещей и явленiй, такимъ образомъ, языкъ обезпечиваетъ наше мiровозрѣнiе, мiропониманiе. Слово есть первина мысли. Языкъ образовываетъ человѣка, складываетъ и развиваетъ его сознанiе и мышленiе, а не наоборотъ. Въ мыслительномъ и духовномъ смыслѣ языкъ создалъ человѣка, а не человѣкъ языкъ. По образному выраженiю Вильгельма Гумбольдта, не человѣкъ овладѣваетъ языкомъ, а языкъ овладѣваетъ человѣкомъ. Душа народа заключается въ его языкѣ. Языкъ – духъ, народъ – тѣло, мёртвое безъ этого духа, – утверждалъ выдающiйся Рускiй языковѣдъ И.И. Срезневскiй. Въ народномъ языкѣ кроется истинное повѣствованiе происхожденiя народа. При сравненiи разныхъ народовъ можно замѣтить, что образованность народовъ и ихъ языки взаимно обусловлены. Поступательные успѣхи въ просвѣщенiи и благосостоянiи какаго-либо народа тѣсно связаны съ языкомъ, на которомъ онъ говоритъ; если какой-нибудь народъ получаетъ въ наслѣдство отъ своихъ предковъ языкъ, не испорченный передѣлками и наиболѣе близкiй къ Первобытному, то это даётъ ему преимущества передъ другими народами въ его движенiи ко всеобщему просвѣщенiю.
Языкъ, самъ человѣкъ и всё сущее на землѣ, животный и растительный мiръ, созданы Природой-Богомъ въ совершенномъ видѣ и не требуютъ никакого внѣшняго «развитiя», поэтому единственная обязанность человѣка – слѣдовать законамъ Природы, сохраняя свою породу, языкъ и среду обитанiя, по возможности въ первозданномъ видѣ. Однако какъ показываетъ опытъ человѣчества, это совсѣмъ не просто. Современныя духовныя ученiя въ значительной мѣрѣ утеряли знанiя объ истинныхъ законахъ Природы, а остатки ихъ не берутся къ руководству. Къ сожалѣнiю, общество сегодня находится подъ очарованiемъ ложнаго ученья, содержанiемъ котораго являются понятiя «эволюцiя» и «прогресъ». По мнѣнiю проповѣдниковъ этого ученiя, человѣчество обрѣчено на постоянное улучшенiе своей породы и возвышенiе духа. Безосновательно утверждается, что послѣдующiя поколѣнiя человѣчества становятся выше, здоровѣе и умнѣе предъидущихъ поколѣнiй.
Однако у насъ нѣтъ никакихъ доказательствъ тѣлеснаго или умственнаго возвышенiя (эволюцiи, латн.) человѣка. Напротивъ, если обратиться къ прошлому человѣчества, то мы увидимъ слѣды высшаго человѣческого вида по сравненiю съ нынѣшнимъ.[17] Нѣкоторые изслѣдователи справедливо замѣчаютъ по этому поводу: «эволюцiи, замѣнившей идею Бога, попросту придали божественныя свойства». Такъ или иначе, къ сожалѣнiю, нынѣ въ языкознанiи господствуетъ губительный для этой науки подходъ, который съ предѣльной ясностью и жёсткостью заявилъ Бодуэнъ де Куртенэ въ своей статьѣ «Языкознанiе, или лингвистика, XIX вѣка». Въ частности, онъ сказалъ: «Понятiе развитiя и эволюцiи должно стать основой лингвистическаго мышленiя».[18] Ради «прогреса» реформаторы готовы измѣнить природу вещей, отмѣнить языкъ и самого человѣка. Ничего болѣе вреднаго для языка придумать невозможно. Руководствуясь такимъ эволюцiонистскимъ подходомъ, отдѣльные учёные утверждаютъ, что Праязыкъ долженъ быть простымъ, а языки-потомки – болѣе сложными и разнообразными. Но на дѣлѣ всё оказывается совсѣмъ наоборотъ. Языки, произошедшiе отъ Праязыка, въ ихъ древнѣйшую пору, намъ доступную, по имѣющимся памятникамъ, отличаются особенною полнотою и разнообразiемъ гранесловныхъ образимъ (формъ, латн.).[19] И.И. Срезневскiй писалъ: возвращаясь отъ современнаго состоянiя Славянскаго языка всё далѣе назадъ, въ вѣка прошедшiе, наблюдатель видитъ тѣмъ менѣе признаковъ вырожденiя въ языкѣ, чѣмъ онъ древнѣе.[20] Ту же мысль высказывалъ П.А. Лукашевичъ о Рускомъ языкѣ: «Чѣмъ ближе доходимъ до его началъ, тѣмъ дивнѣе онъ себя кажетъ».[21] Отсюда слѣдуетъ, что послѣдовательная смѣна состоянiй Праязыка отъ его древняго положенья къ современному является не чѣмъ инымъ, какъ упадкомъ и разложенiемъ первоначальной стройности и совершенства этого языка.
Въ новыя времена механистическiй взглядъ на Природу, въ томъ числѣ и на происхожденiе и устройство языка, сталъ всеобщимъ. Объ этомъ твердятъ различныя западныя ученья, среди которыхъ – «теорiя звукоподражанiя», «теорiя междометiй», «теорiя общественнаго договора», «теорiя трудовыхъ выкриковъ» и проч., и проч. Согласно этимъ ученiямъ, языкъ не является врождённой способностью человѣка, а возникъ въ ходѣ пресловутой эволюцiи, жизнедѣятельностной (бiологической, греч.) или общественной (соцiальной, фрнц.). По «трудовому ученью», изъ нечленораздѣльнаго гуканья «первобытнаго» человѣка, больше похожаго на обезьяну, образовался языкъ людей. По мнѣнiю приверженцевъ этого ученья, «безъязычный человѣкъ» слышалъ звуки природы, журчанiе ручья, пѣнiе птицъ и т.п. и, стараясь подражать этимъ звукамъ, создалъ чудо Природы, которымъ является человѣческiй языкъ. Ѳ. Буслаевъ, отвѣчая на западно-Европейскiя ученiя о происхожденiи языка, говорилъ: «Мы не имѣемъ никакихъ историческихъ свидѣтельствъ, на которыхъ могли бы основать предположенiе о томъ, что люди сначала пользовались только отдѣльными членораздѣльными звуками, потомъ сложили ихъ въ слоги, а слоги въ слова, и наконецъ связали слова въ стройное цѣлое для выраженiя мысли. Напротивъ того, изъ исторiи всякаго языка убѣждаемся, что первоначальная форма, въ которой выразился даръ слова, есть уже цѣлое предложенiе, что совершенно согласно съ существеннымъ назначенiемъ дара слова – передавать мысли членораздѣльными звуками; ибо только въ цѣломъ предложенiи мысль можетъ быть выражена».[22] П.А. Лукашевичъ высказывался объ этихъ ученiяхъ ещё болѣе опредѣлённо: «Не зная ровно ничего о составѣ и объ образованiи своихъ языковъ, западные филологи увѣряютъ, а за ними гудутъ и наши, что на какомъ бы то ни было языкѣ названiя предметовъ насъ окружающихъ произошли отъ случая, звука, звукоподражанiя, слѣдовательно, составъ каждаго слова образовался отъ звучнаго случая при взглядѣ на какую либо вещь, и такимъ звукомъ она и названа».[23] Поборники ошибочнаго воззрѣнiя на происхожденiе языка забываютъ даже о томъ, что при отсутствiи языка безъязычный человѣкъ не могъ и мыслить, а слѣдовательно, что-либо создавать, тѣмъ болѣе языкъ. Ученые, утверждающiе, что человѣчество по своему хотѣнiю создало языкъ, уподобляются барону Мюнхаузену, который баснословилъ, что, ухватившись за свой чубъ, онъ вытащилъ себя изъ болота. Сегодня можно часто слышать отъ учёныхъ языковѣдовъ, что «языкъ живой организмъ и постоянно измѣняется». Вѣроятно, этими словами, повторяемыми вновь и вновь какъ заклинанiе, должны быть оправданы всѣ неблагопрiятныя явленiя, происходящiя въ томъ или иномъ языкѣ, а именно упрощенiе языка, забвенiе его основныхъ законовъ и важныхъ правилъ и т.п. Въ концѣ концовъ сторонники безхитростныхъ, грубо сдѣланныхъ умозаключенiй о происхожденiи языка отказываютъ такимъ образомъ въ разумности Вселенной. Стройность и математическая точность законовъ Рускаго языка, ихъ предопредѣлённость, тѣснѣйшая связь человѣческой рѣчи съ устройствомъ орудiй рѣчи человѣка и его мышленiемъ опровергаютъ «трудовое ученье» о языкѣ. Языки рода человѣческаго не составляютъ набора словъ, образованныхъ отъ простаго звукоподражанiя, а какъ часть Природы, устроены по разумному смыслу. Въ современной намъ рѣчи человѣка сохраняются остатки и памятники бывшаго нѣкогда его великаго образованiя, а можетъ быть, имѣются и зачатки лучшей его будущности, говорилъ П.А. Лукашевичъ.[24]
Въ различныхъ Индiйскихъ ученiяхъ, которыя обобщённо именуются йогой, божественное или природное происхожденiе языка подтверждается его совершенной взаимосвязью съ человѣческимъ тѣломъ и орудiями рѣчи. Какъ мы знаемъ, въ этихъ ученiяхъ много говорится о чакрахъ и ихъ звукахъ. Учителя индуистскихъ духовныхъ школъ утверждаютъ, что посредствомъ изученiя положенiя небесныхъ земель (планетъ, греч.) и звѣздъ на небѣ во время рожденiя для каждаго человѣка можетъ быть опредѣлёнъ особый корневой звукъ. Этотъ звукъ измѣняется въ зависимости отъ времени рожденiя человѣка. Обратившись къ этому начальному звуку, можно разсчитать, какихъ звуковъ не достаётъ въ тѣлѣ, и на основѣ такихъ знанiй возстановить равновѣсiе.[25] Такъ, буквы Санскритской азбуки связываются съ соотвѣтствующими чакрами: звукъ а, дыханiе жизни, размѣщается въ первой чакрѣ, въ копчикѣ; звукъ и, обозначающiй силу сознанiя, жизненную силу, размѣщается во второй чакрѣ, отвѣчающей за мужскiя и женскiя орудiя (органы, греч.) воспроизведенiя; звукъ у, знаменующiй умъ, хранящiй всѣ опыты-переживанiя, размѣщается въ третьей чакрѣ (печень, желудокъ, желчный пузырь); въ пятой чакрѣ, связанной съ горломъ и отвѣчающей за глосовое орудiе, размѣщается звукъ о.[26] Забѣгая вперёдъ, отъ себя прибавимъ – этѣ четыре гласныя считаются основными гласными буквами, одна изъ которыхъ, буква о, является первообразной (см. Таблицу 4).
Значенiе исходныхъ предпосылокъ въ наукѣ огромно; именно онѣ опредѣляютъ способы и направленiе изслѣдованiй. Поэтому вопросъ о происхожденiи языка для насъ важенъ не только въ общемъ, мiровозрѣнческомъ (философскомъ, греч.) отношенiи, но прежде всего въ отношенiи общихъ подходовъ къ изученiю языка. Если языкъ образовался «отъ случая», то изучать (зазубривать) его нужно какъ наборъ случайныхъ, не связанныхъ между собой положенiй, на чёмъ, собственно, основано Европейское языкознанiе. Если же языкъ имѣетъ божественное (природное) происхожденiе, то разсматривать его слѣдуетъ какъ совмѣсту (систему, латн.), подчиняющуюся строгимъ законамъ. Нельзя пройти мимо того обстоятельства, что общее представленiе (концепцiя, латн.) о языкѣ, основанное на «теорiи звукоподражанiя», «теорiи междометiй» и проч., препятствуетъ изученiю языка какъ цѣлостнаго предначертаннаго природнаго явленiя, имѣющаго разумное, правильное устройство. Ввиду того, что мы лишены возможности составить полную картину исторiи языка на основѣ письменныхъ памятниковъ, вопросъ о происхожденiи языка можетъ рѣшаться только на основѣ законовъ, которые мы сможемъ познать, увидѣвь ихъ въ живыхъ языкахъ народовъ. Всѣ правила Рускаго языка, которыя изслѣдователь можетъ уяснить себѣ, выводятся изъ готовой сокровищницы нашего языка, а не «придумываются» учёными. Полякъ В.А. Мацѣевскiй, членъ-кореспондентъ Археографической комисiи, писалъ въ XIX в., что Славянскiе языковѣды могутъ ещё черпать знанiя о языкѣ изъ жизни, а не изъ книгъ, что принуждены дѣлать изыскатели т.н. класическихъ языковъ, напримѣръ древне-Греческаго.[27] Развивая мысль Мацѣевскаго, скажемъ: живой Славянскiй языкъ въ своёмъ строѣ выявляетъ всѣ основные законы первоначальнаго языка человѣчества, открывающiеся внимательному и честному изслѣдователю. Лучшiй способъ преподаванiя языка можно уподобить тому, напримѣръ, какъ художникъ красками на полотнѣ открываетъ зрителю не только красоту, но и строенье изображаемаго имъ дерева, которыя обычно человѣкъ, прогуливаясь подъ его сѣнью, не замѣчаетъ.
1.3. Причины возникновенiя новыхъ языковъ
Большинство современныхъ языковъ сильно отдалились отъ своего первоначальнаго состоянiя. Въ древнiя времена, когда произошли значительныя перемѣны въ укладѣ жизни народовъ Свѣта, письменность была измѣнена, и это было связано съ возникновенiемъ новыхъ народовъ. То есть надо полагать, что уклоненiя отъ первобытнаго языка начались въ ту пору, когда стали появляться новые народы. Причиной же появленiя новыхъ народовъ было смѣшенiе человѣческихъ видовъ, и далѣе вмѣстѣ съ новыми народами образовались и новые языки. Образованiю новыхъ языковъ способствовали также обстоятельства, при которыхъ съ теченiемъ времени языки отдѣльныхъ народовъ понесли утраты изъ-за природныхъ бѣдствiй, вынужденныхъ переселенiй, войнъ и лѣности, возникающей отъ пресыщенiя. Первоначальныя знанiя о языкѣ забывались, а письмо и рѣчь такихъ народовъ претерпѣвали самыя гибельныя измѣненiя.
Въ своё время Аристотель говорилъ, что только видъ (форма, латн.) придаётъ матерiи дѣйствительное существованiе, дѣлаетъ вещь тѣмъ, чѣмъ она является. Другими словами, видъ, обликъ вещи есть осуществленiе того, что матерiя заключаетъ въ себѣ только какъ возможность. Эта мысль примѣнима и въ отношенiи взаимосвязи породы человѣка, его языка и мышленiя. Д. Анучинъ подчёркивалъ – особенности тѣлеснаго вида народа тѣсно связаны съ его духовнымъ складомъ и нравомъ. Поясняя мысль основателя антропологiи въ Росiи, необходимо сказать, что опредѣлённая кровь воспроизводитъ опредѣлённые образы мыслей, и вслѣдъ за этимъ возникаетъ опредѣлённый укладъ жизни; однако работаетъ это совсѣмъ не механически и не прямолинейно. Но ничѣмъ инымъ нельзя объяснить единообразiе укладовъ жизни близкородственныхъ народовъ, какъ только общей породой этихъ народовъ и единствомъ ихъ мышленiя. Различiе укладовъ жизни народовъ разныхъ породъ также выглядитъ совершенно естественно. Особенный языкъ составляетъ особенный кругъ понятiй, особенную печать народной жизни. Выраженье «особенный языкъ» обозначаетъ одновременно и «особенный народъ».[28] При измѣненiи породы народа мѣняется его кровь и, какъ слѣдствiе, перерождается духъ народа. Вслѣдъ за измѣненiями породы и духа народа рано или поздно измѣненiя претерпѣваетъ и языкъ этого народа,[29] потому что всякая особенность языка служитъ оруднымъ (органическимъ, греч.) или тѣлеснымъ выраженiемъ особенности мысли. Нравы и привычки народа тѣсно связаны съ происхожденiемъ и образованiемъ словъ его языка и составляютъ истинныя начала его дѣятельности въ мiровой исторiи. Очевидно, что уклоненiя, происходящiя въ языкѣ народа, прямо влiяютъ на воспрiятiе дѣйствительности этимъ народомъ. Опредѣлённое соотношенiе между мышленiемъ и языкомъ также задаётся тѣлесными отличительными свойствами народа, а точнѣе – его породой. Измѣненiе народной нравственности въ ходѣ его жизнедѣятельности идётъ вмѣстѣ съ измѣненiемъ языка народа. Въ такихъ уклоненiяхъ лежитъ причина на первый взглядъ простыхъ, а на самомъ дѣлѣ очень глубокихъ особенностей народовъ. У Японцевъ, напримѣръ, въ языкѣ нѣтъ обозначенiя зелёнаго цвѣта; зелёный цвѣтъ у Японцевъ отсутствуетъ потому, что въ ихъ языкѣ нѣтъ подходящаго слова; у Англичанъ и тѣхъ же Японцевъ въ радугѣ только шесть цвѣтовъ, а не семь, какъ у насъ. Если въ языкѣ опредѣлённаго человѣческаго сообщества, напримѣръ, нѣтъ понятiя «совѣсть», то и собственно совѣсти у этого народа какъ бы тоже нѣтъ.
Надо также учесть, что, перерождаясь въ связи со смѣшенiями съ другими человѣческими видами, народы переносили такiя тѣлесныя измѣненiя, которыя лишали ихъ возможности произносить нѣкоторые звуки Первобытнаго языка или ихъ сочетанiя въ первоначальной чистотѣ, и поэтому эти сообщества вынуждены были образовывать новые языки. Если какая-нибудь человѣческая помѣсь обособливалась, то тотъ языкъ, на которомъ она прежде говорила, находясь въ составѣ первобытнаго народа, преобразовывался въ такъ называемый «новый» языкъ. По словамъ Геродота, въ пору, предшествующую началу образованiя Греческаго языка, Греки не различали Пелазгическiя слова отъ своихъ. Эти слова Греческаго купца буквально означаютъ, что въ тѣ давнiя времена «древнiе Греки» говорили на Пелазгическомъ языкѣ, то есть, проще говоря, были Пелазгами. Послѣ, смѣшавшись съ иными человѣческими видами, потеряли свой первоначальный обликъ и, осознавъ свою тѣлесную и духовную обособленность, со временемъ стали выражать эту новую самость черезъ свой «новоязъ». Геродотъ очень хорошо показываетъ, какъ происходило превращенiе туземцевъ Грецiи, то есть Пелазговъ, въ новое сообщество, которое мы нынѣ знаемъ подъ именемъ Грековъ, принимаемыхъ историками за народъ древней Грецiи: «Отдѣлившись отъ Пелазгическаго племени, они [Элины] первоначально были слабы; но ничтожные вначалѣ, они стали потомъ сильны, разрослись въ нѣсколько народовъ благодаря главнымъ образомъ тому, что съ ними соединились Пелазги и многiе другiе Варварскiе племена».[30] Переводчикъ и толкователь Геродота И. Мартыновъ замѣчаетъ, что Элины, изгнавъ Пелазговъ изъ большей части Грецiи, изгнали и ихъ древнiй языкъ и ввели свой. Всё вѣрно, остаётся только поправить И. Мартынова въ томъ, что выраженье «изгнали Пелазговъ» правильнѣе будетъ замѣнить на Геродотовское «соединились съ Пелазгами», то есть смѣшались съ ними, образовавъ новый народъ. Сказанное относится и къ Латинскому и прочимъ языкамъ Западной Европы, которые являются составными, мозаичными языками. Въ пору ползучаго распространенiя Греко-Римскаго мiра на области коренныхъ народовъ, этотъ мiръ окружавшихъ, при которомъ поглощенiе (асимиляцiя, латн.) исконныхъ народовъ, а лучше сказать, ихъ перерожденiе, происходило путёмъ смѣшенiя разныхъ человѣческихъ породъ, возникало двуязычiе, шедшее всегда въ пользу Греческаго или Римскаго языковъ. Это двуязычiе свидѣтельствовало о нѣкоторомъ переходномъ состоянiи языка «Варварскихъ» народовъ, о вырожденiи языка коренныхъ народовъ. Вообще, бoльшая часть жителей Грецiи и Италiи являются потомками Бреговъ, Пелазговъ Азiи.[31]
Итакъ, языки Элинскiй и Латинскiй за тысячу лѣтъ до Р.Х. составляли нарѣчiя одного Пелазгiйскаго языка.[32] Професоръ Императорской Академiи наукъ Росiи В.К. Тредiаковскiй писалъ (1749), что всѣ народы Европы первоначально говорили на одномъ языкѣ, «пока не разлучились со своими братьями и не смѣшались съ другими народами, тѣмъ самымъ повредивъ свой древнiй языкъ новыми дiалектами, храня, впрочемъ, знатную часть словъ первородными».[33] О единомъ и общемъ Скиѳскомъ языкѣ свидѣтельствуетъ Годофредъ Генселiй (Godofredus Henselius, 1687–1767), говоря: «Древнѣйшiй языкъ, всѣмъ Европейцамъ общiй, называется Скиѳскiй». Другой Европейскiй писатель, Кирхмайхеръ, утверждалъ: на Скиѳскомъ языкѣ говорили Готы, Гуны, Сарматы, Аланы, Тавриски, Германцы и Кельты. Горнiй сообщалъ: «Явно, что у Терасканъ, Скиѳовъ, или Гетовъ, и у Амазонокъ единъ и тотъ же былъ языкъ; да и у всѣхъ безъ сомнѣнiя Западныхъ Скиѳовъ. Потомъ уже какъ новые народы произошли, такъ и языки между собою различились».[34]
Была и другая, не менѣе важная причина для человѣческихъ помѣсей, осознавшихъ свою особость, создавать свои отдѣльные языки. Дѣло въ томъ, что смѣшанныя сообщества, имѣя по меньшей мѣрѣ два истока своего происхожденiя, не хотѣли признавать эти начала своими предками, иначе имъ пришлось бы согласиться съ тѣмъ, что они – не первобытный народъ, а помѣсь разныхъ народовъ (породъ), что было бы для нихъ оскорбительнымъ. Поэтому такiя сообщества создавали себѣ баснословное происхожденiе и, конечно, новые языки. Замѣтимъ между прочимъ, что чѣмъ меньше число носителей языка, тѣмъ труднѣе сохранить первоначальный языкъ; поэтому малочисленныя помѣси могутъ сохранять свой языкъ только благодаря особымъ мѣрамъ общины или правительства той страны, въ которой они проживаютъ.
1.4. Корневые и слоговые языки
Подъ опредѣленiемъ «корневые языки» мы разумѣемъ здѣсь языки, основанные на корняхъ, которые въ общемъ случаѣ содержатъ согласную-гласную-согласную (см. Статью 5.3). Нѣкоторые изслѣдователи неловко и неточно называютъ письмо такихъ языковъ «буквеннымъ письмомъ». Нѣмецкiй языковѣдъ А.Ф. Поттъ (1802–1887) распредѣлилъ всѣ извѣстные ему языки на разряды, а именно на безсоставные (isolirende) языки, языки приставочнаго образованiя (agglutinirende) и флексивные языки. Какъ извѣстно, флексiей Европейцы называютъ измѣненiе гласныхъ въ корнѣ (внутренняя флексiя) и измѣненiе окончанiй словъ по склоненiямъ, спряженiямъ и перемѣнамъ рода, подъ которыми слѣдуетъ разумѣть музыкальные переходы гласныхъ, или, по Руски, – ко́йности (см. Статью 4.2). Языки, входящiе въ третiй разрядъ, Поттъ признавалъ правильными, подходящими опредѣлённому образцу; другiе два разряда – уклонившимися отъ образца, то есть неправильными. Такимъ образомъ, наиболѣе «развитыми» языками онъ считалъ языки флексивные, или флективные, къ которымъ относятъ т.н. Индо-Европейскiе языки, въ томъ числѣ Рускiй. Такое распредѣленiе языковъ до сихъ поръ примѣняется въ наукѣ. Поттово размѣщенье наличныхъ языковъ по разрядамъ по сути является расположенiемъ языковъ по ступенямъ ихъ вырожденiя.
Другое распредѣленiе языковъ народовъ нашей Земли предполагаетъ наличiе «синтетическихъ» и «аналитическихъ» языковъ. «Синтетическiе» языки имѣютъ сложную граматику – въ основномъ и за счётъ того, что ихъ корни подвергаются большому числу превращенiй, образующихъ множество производныхъ корней и далѣе словъ. Въ «аналитическихъ» языкахъ слова почти никогда не измѣняются. «Аналитическiе» языки, какiе мы знаемъ, когда-то были «синтетическими», но съ теченiемъ времени выродились и превратились въ языки «аналитическiе». По утвержденiю самихъ Европейскихъ учёныхъ, почти всѣ современные намъ языки Европы тяготѣютъ къ упрощенiю спряженiй, обѣднѣнiю или утратѣ склоненiй, то есть обнаруживаютъ стремленiе къ состоянiю «аналитическому», въ отличiе отъ ихъ древняго состоянiя, при которомъ эти языки имѣли сложныя спряженiя и богатыя и гибкiя склоненiя.
Не отрицая существующее нынѣ раздѣленiе языковъ, въ нашемъ изслѣдованiи мы будемъ подразумѣвать, что всѣ языки дѣлятся на двѣ части; къ первой отнесёмъ языки, въ той или иной степени сохранившiе корневыя основы, ко второй – слоговые языки, въ которыхъ значенiя вещей и явленiй передаются слогами, «морфемами», принимаемыми тѣмъ не менѣе за основы, за «единицы языка». Наше языкознанiе тѣ языки, которые мы называемъ слоговыми, именуетъ «аморфными языками» (безформенными, изолирующими, корнеизолирующими) и ошибочно «корневыми языками», приводя въ примѣръ такихъ языковъ языкъ Китайскiй.[35] Въ связи съ такимъ нашимъ распредѣленiемъ языковъ, приведёмъ мысль П.Д. Успенскаго о различныхъ частяхъ человѣчества, которая въ какой-то мѣрѣ пояснитъ нашъ взглядъ на корневые и слоговые языки: учёный вводитъ понятiе внутренняго и внѣшняго круга человѣчества. Внѣшнiй кругъ – кругъ смѣшенiя языковъ; здѣсь люди говорятъ на разныхъ языкахъ и никогда не понимаютъ другъ друга или каждый всё понимаетъ по-своему. Болѣе того, во внѣшнемъ кругѣ люди думаютъ, что могутъ, а тѣмъ самымъ и имѣютъ право, понимать одну и ту же вещь по-разному.[36] Отъ этого умственное разсужденiе не можетъ передаваться точно. Мыслитель разсуждаетъ такъ, а слушатель или читатель его понимаетъ иначе, такъ какъ косыми, кривыми или тупыми орудiями невозможно выстроить чего-либо порядочнаго, и въ произведенiи общаго цѣлаго выйдетъ та же неправильность, потому что мысль зиждителя вездѣ переиначивается – замѣчалъ по этому же поводу П.А. Лукашевичъ.[37] Внутреннiй кругъ – это языкъ взаимопониманiя между людьми. Здѣсь люди однѣ и тѣ же вещи понимаютъ одинаково.[38] По нашему мнѣнiю, къ внутреннему кругу относятся корневые языки, къ внѣшнему – слоговые. Слоговые языки являются наиболѣе удалёнными отъ Первобытнаго языка; они основаны на усѣчённыхъ корняхъ Первобытнаго языка. Основу слоговаго письма составляютъ открытые слоги, заключающiе въ себѣ значенiя первоначальныхъ корней. Слоговъ-корней въ такихъ языкахъ безчисленное множество; «безчисленное» потому, что полнаго списка этихъ слоговъ не существуетъ и его невозможно составить, потому что не существуетъ правилъ, по которымъ образовались эти слого-корни. Слоговое письмо имѣетъ огромный недостатокъ, состоящiй въ томъ, что въ ходѣ обученiя чтенiю и письму требуетъ запоминанiя множества знаковъ (логограммъ, греч.) отдѣльно отъ произношенiя. Языки, основанные на слоговомъ письмѣ, осваиваются исключительно зубрёжкой. Корневые языки, въ отличiе отъ слоговыхъ, предполагаютъ изученiе числовидовъ или выводовъ въ общемъ видѣ, общихъ законовъ языка, изъ которыхъ проистекаютъ частныя правила, не требующiя ученiя наизусть. Слоговое письмо есть послѣдняя ступень вырожденiя корневаго языка. Египетское iероглифическое письмо, напримѣръ, по сути своей являясь письмомъ слоговаго языка, образовалось путёмъ упрощенiя, а лучше сказать, вырожденiя первобытной Египетской корневидной письменности. Яркiй образецъ современнаго слоговаго письма представленъ Китайской письменностью. Китайскiй языкъ первоначально былъ устроенъ точно такъ же, какъ и всѣ другiе языки; но въ послѣдствiе Китайцы приняли что-то въ родѣ представительныхъ, изобразительныхъ (гiероглифическихъ, греч.) письменъ. Въ Китайскомъ языкѣ, по мнѣнiю Рускаго учёнаго-китаевѣда Н.Я. Бичурина (монаха Iакинѳа), нѣтъ ни словопроизводства отъ корней, ни измѣненiя словъ по окончанiямъ; даже можно утверждать, что нѣтъ въ нёмъ и словъ, а говорятъ Китайцы звуками, которые безъ связи съ другими звуками не могутъ представлять опредѣлительныхъ понятiй. Число такихъ звуковъ невелико и не простирается выше 446.[39] Другiе изслѣдователи говорятъ, что всё словарное богатство Китайцевъ состоитъ изъ 450, самое большое изъ 480 односложныхъ звуковъ.[40] Китайскiй языкъ основанъ на названiяхъ произвольно выдуманныхъ знаковъ для каждаго слова, а самыя слова – на усѣчённыхъ корняхъ, съ неправильными усѣченiями этихъ корней, какъ по истотному (прямому), такъ и по обратному чтенiю, то есть по чтенiю какъ слѣва направо, такъ и справа налѣво. Тѣмъ не менѣе нужно признать, что даже въ Китайскомъ языкѣ можно увидѣть истотные корни, пусть и въ усѣчённомъ видѣ, но всё же познаваемые; но бѣда въ томъ, что сами Китайцы, по ихъ пониманiю своего языка и способамъ его изученiя, уже не способны узнать эти сохранившiеся у нихъ корни Праязыка. Въ качествѣ примѣра приведёмъ нѣсколько Китайскихъ словъ, одни изъ которыхъ содержатъ только первые слоги полныхъ словъ, другiя представляютъ, полные или неполные, обратные выговоры Индо-Европейскихъ словъ. Въ данныхъ примѣрахъ для насъ опредѣляющимъ являются значенiя и произношенiя Китайскихъ знаковъ, а не ихъ начертанiе: бай (白) – бѣлый и бэй (北) – сѣверъ образованы отъ общаго корня белъ, бѣлый, но для Китайца эти два слова не связаны между собой никакой общей мыслью. Далѣе: вôмень (我们) – мы (=нами въ обратномъ прочтенiи иманъ, а съ придыхательной в вôменъ); гинь (金) – золото (=гѫтъ=гôлтъ=золтъ, золото); го (國) – государство (отъ корня госъ, власть); гу (鵝) – гусь; жи (日) – солнце (=жечь, жгу, жги, по Руски, отъ корня гогъ, огонь); жинъ (人) – люди (=генъ, люди, по Романски); ки – конь, а по новому выговору чи (騎) – конный воинъ, всадникъ; линь (林) – лѣсъ (=lignum, «древесина», латн.); минь (名) – имя (минь въ обратномъ выговорѣ=нôмъ, номеръ, имя, на Латынѣ); му (母) – мать; пань (胖) – толстый (=пѫнъ=полный, по Руски); пи (皮) – кожа (=pella, по Неаполитански, или въ обратномъ выговорѣ – лǒпа=лупа, кожура, по Малоруски); синь (星) – звѣзда (=сiяю, сiяй, по Руски); синь=шань (星) – молнiя (=сiянiе, по Руски); сы (子) – сынъ; сюэ (雪) – снѣгъ; та (他,她) – онъ, она (=тотъ, та, по Руски); хо (火) – огнь, огонь (=ho=огъ=гѫгъ); чуань (船) – корабль (=чёлнъ, по Руски; човнъ, лодка, по Малоруски); ши (食) – ѣда (=ѣшь, по Руски) и т.п.[41]
Китайское образованiе есть чисто школьное: на изученiе языка убиваютъ лучшую часть своей жизни и начинаютъ учиться этому знанiю съ пяти лѣтъ. Нѣкоторые изслѣдователи полагаютъ, что Китайская письменность насчитываетъ около 80 тысячъ знакослововъ (iероглифовъ, греч.). Говорятъ, что Китайскiе учёные-языковѣды могутъ овладѣть 30-ю тысячами знакослововъ; образованными людьми считаются знающiе три тысячи знаковъ Китайскаго представительнаго письма, а обычные люди пользуются примѣрно полутора тысячами знаковъ. О Китайской граматикѣ мѣтко высказался Рускiй языковѣдъ А. Драгункинъ, что Китайскiй языкъ нынѣ представляетъ собою «аналитическiй» языкъ, ибо весь его словарный составъ есть слоги, съ которыми «вообще ничего не происходитъ, – ихъ просто какъ кубики нужно складывать въ предложенiя – это и есть Китайская граматика».[42] Англiйскiй языкъ также стремительно сваливается къ состоянiю современнаго Китайскаго языка. Въ Англiйскомъ, по замѣчанiю А. Драгункина, «осталось всего 10 измѣненiй, которыя можно произвести со словомъ», тогда какъ въ древности Англiйскiй имѣлъ сложное строенiе, былъ богатъ гранесловными превращенiями, напримѣръ, имѣлъ три рода, три числа, падежныя окончанiя и проч.[43] Кромѣ того, въ Англiйскомъ замѣчается постепенная утрата первообразной буквы р въ произношенiи, хотя на письмѣ она ещё сохраняется. Вотъ нѣсколько примѣровъ: arm [a:m], рука, fork [fo:k], вилка, hard [ha:d], трудный, hurt [hз:t], ранить, park [pa:k], заповѣдникъ, turn [tз:n], поворотъ, work [wз:k], работа, world [wз: ld], мiръ, и проч.
Въ Рускомъ языкознанiи по преданiю «единицей языка» всегда считался корень, пусть даже усѣчённый, и въ этомъ отношенiи наше пониманiе значенiя корня какъ первоосновы слова сильно отличается отъ Европейскаго пониманiя «единицы языка». Учёные народовъ, говорящихъ на составныхъ языкахъ, особенно это касается западно-Европейскихъ языковѣдовъ, придумали огромное число понятiй, оправдывающихъ уклоненiя ихъ письма и рѣчи отъ основныхъ законовъ языка. Въ Европѣ уже давно идётъ споръ о томъ, что такое корень и основа и можно ли приписывать корнямъ самостоятельное существованiе.[44] Единицей языка у нихъ теперь принята «морфема» отъ Греческаго μορφή, форма. Въ изложенiи И.А. Бодуэна де Куртенэ «Морфема – далѣе не дѣлимый, дальше неразложимый морфологическiй элементъ языковаго мышленiя». Подъ «морфемой» нынѣ разумѣютъ одновременно корень, приставку, окончанiе и даже соединительную гласную. Понятiе «морфема» въ Европейскомъ языкознанiи относится къ такимъ исходнымъ предпосылкамъ, которыя являются отправной точкой наблюденiя за живымъ языкомъ и основой для дальнѣйшихъ умственныхъ построенiй въ наукѣ о языкѣ. Понятiе «морфема» по существу отвергаетъ понятiе «корень» или, лучше сказать, подмѣняетъ его понятiемъ «слогъ», частицей, которая не является «единицей языка». Европейскiя представленiя о корнѣ у насъ воплотились въ такихъ безобразныхъ понятiяхъ какъ: «корень морфологическiй», подъ которымъ разумѣется «корень, выдѣляемый по отношенiю къ современному состоянiю языка»; «корень этимологическiй», то есть «корень, выдѣляемый по отношенiю къ прошедшимъ эпохамъ развитiя языка».[45] Согласно такому представленiю, одинъ и тотъ же корень въ прошломъ имѣлъ одну природу образованiя и имѣлъ одинъ видъ, а въ современную намъ пору почему-то оказался другой природы образованiя и прiобрѣлъ другой видъ и, вѣроятно, иное значенiе. Если мы будемъ продолжать изучать Рускiй языкъ, основываясь на тѣхъ ошибочныхъ основанiяхъ и способахъ научнаго изслѣдованiя, по которымъ Европейцы и нѣкоторые другiе народы изучаютъ свои языки, то мы скоро утратимъ важныя знанiя о Рускомъ языкѣ и языкъ нашъ превратится въ т.н. «аналитическiй», или, по-другому выражаясь, въ слоговый языкъ. Главнымъ условiемъ сохраненiя языка являются знанiя о его первоначалахъ, о корняхъ, на которыхъ построенъ любой языкъ. Если же носители языка утрачиваютъ знанiя о корняхъ, то языкъ медленно, но неуклонно вырождается, превращаясь въ слоговый, потому что невозможно сохранить того, чего ты не видишь и не понимаешь.
1.5. Рускiй языкъ дохристiанскихъ времёнъ
Языки рода человѣческаго произошли отъ Первобытнаго языка. Первобытный языкъ не погибъ совершенно, остатки его находятся во всѣхъ языкахъ Свѣта, въ однихъ больше, въ другихъ меньше. Этотъ языкъ существуетъ у разныхъ народовъ не словами своими, но корнями, изъ которыхъ каждый языкъ произвёлъ свои вѣтви, то есть производные корни, а далѣе слова. Руская вѣтвь Славянскаго языка, включающая Бѣлоруское, Великоруское и Малоруское нарѣчiя, стоитъ ближе другихъ языковъ къ языку Первобытному. Рускiе, подъ которыми слѣдуетъ разумѣть Бѣлорусовъ, Великорусовъ и Малорусовъ, до сегодняшняго дня сохраняютъ такую рѣчь, изъ коей многое бы легко понялъ Первобытный человѣкъ.[46] Академикъ РАН О.Н. Трубачёвъ (Вопросы языкознания. М., 1982. № 4. Стр. 10–26) указывалъ, что Праславянскiй языкъ настолько древнiй, что сливается съ раннимъ Индо-Европейскимъ времёнъ III тысячелѣтiя до Р.Х., то есть этотъ языкъ существуетъ по крайней мѣрѣ 5000 лѣтъ. Ф.П. Филинъ (1908–1982), крупнѣйшiй Совѣтскiй русистъ, устроитель нашей академической языковѣдческой науки, директоръ Института Рускаго языка АН СССР, доказывалъ, что истоки общеСлавянскаго языка уходятъ въ глубокую древность. Нашъ языкъ столь древнiй, что никто не можетъ указать на время его возникновенья, а истоки его теряются во мракѣ времёнъ допотопныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ исторiя Славянскихъ языковъ (нарѣчiй) есть исторiя двутысячелѣтняго ихъ искаженiя, траты и забвенiя, и, невзирая на это, сiи остатки ещё точны, опредѣлительны и мѣстами выявляютъ разумное построенiе образованнѣйшей въ мiрѣ рѣчи человѣческой.[47]
До введенiя на Руси христiанства въ 988 г., которое, какъ полагаютъ, распространялось по Рускимъ областямъ въ теченiе послѣдующихъ XI–XII вѣковъ, Рускiе были просвѣщённымъ народомъ. В.Н. Татищевъ указывалъ, что «Славяне задолго до Христа и Славянорусы собственно до Владимiра письмо имѣли, въ чёмъ намъ многiе древнiе писатели свидѣтельствуютъ».[48] Изъ Геродота (V в. до Р.Х.) слѣдуетъ, что всѣ Скиѳскiе народы говорили однимъ «Скиѳскимъ» языкомъ, но разными нарѣчiями, и отлично понимали другъ друга, несмотря на огромныя пространства, раздѣлявшiя ихъ. Ктезiй (Ctesiae Persica excerpta à Photio) сообщаетъ, что царь Скиѳовъ вызывалъ Дарiя, царя Персовъ, ругательнымъ письмомъ на бой ещё въ 513 г. до Р.Х.[49] Замѣтимъ, что къ Скиѳамъ Славянъ причисляли иноземные писатели: Левъ Дiаконъ, Кедринъ, Анна Комнина, Киннамъ и многiе другiе иноземные бытописатели. Славянскiе и Рускiе писатели разныхъ времёнъ, Несторъ, Лызловъ, Крекшинъ, Тредiаковскiй, Ломоносовъ, Сестренцевичъ-Богушъ, Венелинъ, Классенъ, Риттихъ, Чертковъ и другiе опредѣлённо считали Скиѳовъ предками Славянъ. Шафарикъ утверждаетъ, что во II–VII столѣтiяхъ по Р.Х. Греки и Римляне почитали сѣверныхъ и южныхъ Славянъ образованнымъ народомъ, знакомымъ съ письмомъ.[50] Ѳ.И. Буслаевъ относилъ начало Славянской письменности, по крайней мѣрѣ къ IV вѣку по Р.Х., а именно ко временамъ Улфилы, который сдѣлалъ Славянскiй переводъ Библiи.[51] Въ частности, Ѳёдоръ Ивановичъ писалъ: «Исповѣданiемъ христiанской вѣры предполагается знанiе грамоты; и если между Славянами задолго до Кирила и Меѳодiя распространилось уже христiанство, то безъ сомнѣнiя извѣстна была и грамотность…»[52] Вслѣдъ за Буслаевымъ объ этомъ же говоритъ академикъ АН СССР Б.Д. Грековъ, утверждая, что «христiанство было неизбѣжно связано съ распространенiемъ книжности. Но письменность была на Руси и до принятiя христiанства». Учёный указываетъ, что въ хроникѣ епископа Христина упоминается о томъ, что у него въ рукахъ была какая-то Руская лѣтопись (на Рускомъ языкѣ), писанная «Греческими буквами».[53] Въ половинѣ V в. письменные договоры съ Греками заключалъ Великiй Рускiй князь Атила,[54] а позже другiе Рускiе князья, въ томъ числѣ Олегъ, Игорь и Святославъ (IX–X вв.). Болѣе 1100 лѣтъ назадъ, 2 сентября 911 г., между Рускими и Греками былъ заключёнъ мирный рядъ, извѣстный подъ именемъ Договора Олега. По нашей лѣтописи, этому договору предшествовалъ походъ Олега на Царьградъ въ 907 г. и заключённый имъ тогда первый договоръ съ Греками. Кромѣ нашихъ лѣтописей объ этихъ древнихъ договорахъ упоминаетъ Византiйская лѣтопись второй половины X в. въ рѣчи пословъ Iоанна Цимисхiя, императора Византiи, воевавшаго со Святославомъ Игоревичемъ, Великимъ Рускимъ княземъ, приводимой въ исторiи Льва Дiакона.[55] Договоръ Олега съ Греками представляетъ намъ Русовъ знакомыми съ письмомъ, законами и торговлей. Въ мирномъ договорѣ Олега записано: «Похотѣнiемъ нашихъ Великихъ Князь, и по повелѣнiю отъ всѣхъ, иже суть подъ рукою его, сущихъ Руси, наша свѣтлость болѣе иныхъ хотящихъ, еже о бозѣ удержати и извѣстити такую любовь бывшую межи Хрестiаны и Русью, многажды право судихомъ; но точiю простословесне, и писанiемъ и клятвою твердою кленшесь оружiемъ своимъ, такую любовь утвердить…»[56] Въ этомъ же договорѣ Олега говорится о письменныхъ завѣщанiяхъ, которыя дѣлались Рускими людьми: «Ащель сотворитъ уряженiе, таковый да возметъ уряженое его, кому будетъ писалъ наслѣдити имѣнiе его…»[57] Карамзинъ, разбирая договоръ Олега съ Греками 911 г., говоритъ, что этотъ договоръ письменный является драгоцѣннымъ памятникомъ Исторiи Росiйской, сохранённымъ въ нашей лѣтописи.[58] Въ мирномъ договорѣ (945) по Ипатьевскому списку между Игоремъ, Великимъ княземъ Рускимъ, и Греческимъ государёмъ есть такiя слова, относящiяся къ Русамъ: «нынѣ же нашъ князь рѣшилъ посылать къ Вашему Царскому Величеству грамоту, въ которой будетъ написано – сколько кораблей князь посылаетъ».[59] Указывая на этѣ строки лѣтописи, Иванъ Болтинъ замѣчаетъ, что сiи слова доказываютъ неоспоримо, что у Рускихъ уже тогда было письмо.[60]
Другiе Славяне также издре́вле имѣли письмо. Славяне дохристiанскихъ времёнъ, знавшiе лѣтосчисленiе, что доказывается коренными Славянскими названiями временныхъ отрѣзковъ, такихъ какъ вѣкъ, годъ, лѣто, зима, весна, мѣсяцъ, недѣля, день, часъ, не могли не имѣть письма. А.Л. Шлёцеръ указываетъ на слѣды Франкскаго Славянскаго языка, сохранившiеся въ грамотахъ завоевателей Галiи. Этотъ Нѣмецкiй учёный говоритъ о томъ, что первые Французскiе короли присягали на древней книгѣ Новаго Завѣта (евангелiи, греч.), писанной по Славянски.[61] Французскiе короли при вступленiи на престолъ присягали на Реймскомъ Словенскомъ Евангелiи, которое, какъ думаетъ князь П.П. Вяземскiй, является слѣдствiемъ воспоминанiя ихъ Панонскаго (Словенскаго) происхожденiя.[62] Въ пользу дохристiанской образованности Славянъ говоритъ торговый письменный договоръ, подписанный Болгарами съ Греками въ 714/715 г. По сообщенiю Ѳеофана, Болгаре подписали такой же договоръ съ Греками при Константинѣ Копронимѣ, въ 774 г. Всё это свидѣтельствуетъ о томъ, что у Болгаръ, и вообще у Славянъ, была своя письменность задолго до принятiя христiанства. Болгаре использовали краткую Граматику своего языка уже въ 900 г., между тѣмъ какъ т.н. «просвѣщённые» Европейскiе народы приступили къ образованiю своихъ новыхъ языковъ гораздо позже. Венеды, языческiе Славяне, обитавшiе въ при-Балтiйскихъ странахъ, знали употребленiе буквъ. Дитмаръ (975–1019) разсказываетъ о надписяхъ на Ретрскихъ божествахъ Славянъ.[63] Древнѣйшiя саги упоминаютъ о Славянскомъ письмѣ – Венда-руниръ. Употребленiе древними Славянами рунъ не подлежитъ никакому сомнѣнiю – утверждалъ языковѣдъ XIX в. Р. Ниппертъ. Онъ полагалъ, что существовала связь между рунами Славянскими и Германскими, что доказываютъ слова, общiя для Славянъ и Германцевъ.[64] Можемъ ли мы помыслить, что одна часть Славянъ вѣдала письмо, а другая, причёмъ самая больша́я и сильная часть Славянства, то есть Рускiе, нѣтъ? Это было бы по меньшей мѣрѣ странно.
Полякъ Лаврентiй Суровецкiй сообщалъ о Славянскомъ языкѣ IX в.: въ общемъ мракѣ и бѣдности прочихъ живыхъ Европейскихъ языковъ, языкъ Славянскiй былъ сильнымъ, обильнымъ и совершеннымъ въ своёмъ построенiи. До XV столѣтiя Славянскiй языкъ былъ въ употребленiи во всей Германiи; императоръ Карлъ IV въ своей Золотой булѣ (1356) предписывалъ всѣмъ князьямъ обучать юношество Славянскому языку.[65] Совѣтскiе учёные 60-хъ годовъ прошлаго вѣка признавали наличiе письменности въ древне-Рускомъ государствѣ до крещенiя. Найдено множество предметовъ Славянъ со знаками и словами. Славяне писали на монетахъ, на оружiи, на печатяхъ, на стѣнахъ соборовъ, писали грамоты на берестѣ. Этѣ находки свидѣтельствуютъ о существованiи письменности у Славянъ, въ томъ числѣ и у Рускихъ, задолго до IX в. Гнѣздовская надпись на сосудѣ начала X в., надписи XI в. на шиферныхъ пряслицахъ, на кирпичахъ и другихъ издѣлiяхъ ремесла и т.п. – всё это говоритъ о широкомъ распространенiи грамотности въ Древней Руси среди простыхъ людей – ремесленныхъ, промысловыхъ и торговыхъ. Въ 1949 г. археологомъ Д.А. Авдусинымъ во время раскопокъ Гнѣздовскихъ кургановъ подъ Смоленскомъ была открыта древнѣйшая на то время Руская надпись, относящаяся къ первой четверти X в., что доказываетъ, что въ эту дохристiанскую ещё пору у Рускихъ была письменность. На сосудѣ было начертано «горухща», или «горушна» (пряность). Арабскiй путешественникъ Ахмедъ Ибнъ-Фадланъ (877–960), жившiй до обращенiя Руси въ христiанство, описываетъ обрядъ похоронъ знатнаго Руса и сообщаетъ, что Русы написали на доскѣ имя своего царя, котораго погребали.[66] Писаницы Софiи Кiевской, наряду со знаменитыми Новгородскими берестяными грамотами и надписями на орудiяхъ труда и быта, являются неопровержимыми свидѣтельствами широкаго распространенiя грамотности среди простаго народа.[67] Павелъ Яковлевичъ Черныхъ, докторъ филологическихъ наукъ (1954), професоръ Московскаго государственнаго университета им. М.В. Ломоносова, писалъ, что у Восточныхъ Славянъ въ IX в., а можетъ быть, и раньше, были «системы буквеннаго письма».[68] Эту мысль подтверждаетъ черноризецъ Храбръ (X в.), который въ своей работѣ «О письменахъ» утверждалъ: «прѣжде убо Словѣне не имѣху книгъ, но чрътами и рѣзами чьтѣху и гатааху, погани суще. Крестивше же ся, римьсками и гръчьскыми письмены нуждаахуся писати».[69] Отсюда слѣдуетъ выводъ о томъ, что Славяне издавна имѣли своё собственное письмо, начертанные и нарѣзанные знаки, но употребляли они его большею частiю для написанiя священныхъ заповѣдей, составляющихъ ихъ духовное ученье. Широкаго обращенiя книгъ въ народѣ у нихъ не было принято, что вовсе не означало необразованности народа.[70] У нашихъ предковъ не было иныхъ письменъ, кромѣ письменъ, утверждающихъ добронравiе, иныхъ обычаевъ, кромѣ обычаевъ, уважающихъ родство, цѣломудрiе, людкость, гостепрiимство и прочiя добродѣтели. Въ X в. Рускiй языкъ былъ чистымъ, величественнымъ, великолѣпно образованнымъ языкомъ, общимъ для государя и подданныхъ, – доказывалъ Рускiй изслѣдователь Н.Г. Устряловъ.[71] Великiй Ломоносовъ писалъ о Рускомъ языкѣ XVIII в.: «Повелитель многихъ языковъ языкъ Росiйскiй не только обширностiю мѣстъ, гдѣ онъ господствуетъ, но купно собственнымъ своимъ пространствомъ и довольствiемъ великъ предъ всѣми въ Европѣ…» Нѣмецъ Шлёцеръ, котораго нельзя заподозрѣть въ любви къ Славянству, признавалъ Славянскiй языкъ совершеннѣе всѣхъ Европейскихъ языковъ и утверждалъ, что онъ прежде всѣхъ прiобрѣлъ это совершенство.[72] Въ первой половинѣ XX в. эту мысль Шлёцера повторялъ А. Мейе, писавшiй о старо-Славянскомъ языкѣ какъ объ одномъ изъ самыхъ древнихъ языковъ Индо-Европейской семьи и продолжающемъ безъ какого-либо перерыва своё существованiе общаго Индо-Европейскаго языка. Въ Славянскомъ языкѣ нельзя замѣтить тѣхъ внезапныхъ измѣненiй, которыя придаютъ столь характерный видъ языкамъ Греческому, Итальянскому, Нѣмецкому и особенно Латинскому. Въ новое время древнѣйшее, дохристiанское, происхожденiе Славянской письменности въ своихъ работахъ отстаивали Н.А. Константиновъ, А.С. Львовъ, С.П. Обнорскiй, А.А. Формозовъ, П.Я. Черныхъ и многiе другiе учёные.
Просвѣщенiе Рускихъ дохристiанскихъ времёнъ подтверждается найденными въ нашихъ земляхъ берестяными грамотами. Возрастъ старѣйшихъ изъ нихъ наша наука опредѣляетъ рубежёмъ первой трети XI в., однако надо учесть, что нѣкоторыя грамоты не имѣютъ даты, привязанной къ строительному ярусу (стратиграфической датировки), то есть найдены не при раскопкахъ. Надо также учесть, что особой палеографiи бересты пока не существуетъ. Палеографическiя даты берестяныхъ грамотъ основаны на выводахъ Рускихъ палеографовъ XIX–XX вѣковъ, изучившихъ измѣненiя Рускихъ буквъ въ книгахъ и актахъ, написанныхъ чернилами на пергаментѣ и на бумагѣ.[73] Есть свидѣтельства существованiя берестяныхъ грамотъ въ болѣе раннюю пору. Професоръ А.В. Арциховскiй упоминаетъ о сообщенiи 987 г. Арабскаго писателя Ибнъ анъ-Недима («Книга росписи наукамъ»), передававшаго слова нѣкоего Кавказскаго князя: «Мне разсказывалъ одинъ, на правдивость котораго я полагаюсь, что одинъ изъ царей горы Кабкъ [Кавказа] послалъ его къ царю Русовъ; онъ утверждалъ, что они имѣютъ письмена, вырѣзаемыя на деревѣ. Онъ же показалъ мне кусокъ бѣлаго дерева, на которомъ были изображенiя, не знаю, были ли они слова или отдѣльныя буквы, подобно этому». Далѣе учёный поясняетъ, что подъ «кускомъ бѣлаго дерева» слѣдуетъ разумѣть бересту. Изъ этого замѣчанiя можно сдѣлать выводъ, что самъ Арциховскiй допускалъ существованiе письменности на Руси до Кирила и Меѳодiя. Отъ себя добавимъ, что отсутствiе безспорныхъ толкованiй этой надписи не отмѣняетъ свидѣтельство существованiя на Руси дохристiанской письменности. Любопытны также свѣдѣнiя о грамотахъ и даже книгахъ на берестѣ, относящихся къ концу XVII или къ первой половинѣ XVIII в. Они были написаны большей частiю въ Сибири, а иногда на Крайнемъ Сѣверѣ Европейской части нашей страны.[74] Эти памятники Руской письменности продолжаютъ обычай письма на берестѣ и подтверждаютъ древность этого обычая.
Первыя находки берестяныхъ грамотъ относятся къ раскопкамъ 1951–1955 гг. въ Новгородѣ. Къ концу 2003 г. кромѣ Новгорода берестяныя грамоты были найдены въ такихъ городахъ, какъ: Витебскъ, Звенигородъ Галицкiй, Москва, Мстиславль, Новгородское («Рюриково») городище, Псковъ, Смоленскъ, Старая Руса, Старая Рязань, Тверь, Торжокъ, Вологда и Саратовъ. Въ древнемъ Новгородѣ, въ частности, жило множество людей, умѣющихъ читать и писать, и едва ли кто-нибудь станетъ теперь это опровергать. Несмотря на значительную долю христiанскаго духовенства въ населенiи Новгорода и его высокiй уровень грамотности, къ подавляющему большинству берестяныхъ грамотъ духовныя лица не имѣли никакого отношенiя.[75] Большинство изъ отправителей и получателей берестяной почты были свѣтскими людьми, то есть берестяныя грамоты являются обычными бытовыми или дѣловыми письмами, которыми обмѣнивались простые люди, горожане и сельскiй людъ. Въ связи съ этимъ берестяныя грамоты въ полной мѣрѣ отражаютъ живой народный разговорный языкъ, отражаютъ его въ гораздо большей степени, чѣмъ какая-либо другая письменность. Грамотой владѣли всѣ жители Новгорода, въ томъ числѣ женщины и дѣти. Академикъ Росiйской академiи наукъ по Отдѣленiю литературы и языка А.А. Зализнякъ сообщаетъ, что самое большое число берестяныхъ грамотъ, писанныхъ женщинами, приходится на XI–XII вв. Въ XIII–XV вв. число берестяныхъ грамотъ, принадлежавшихъ женщинамъ, неуклонно уменьшается, что свидѣтельствуетъ объ общемъ паденiи грамотности въ Рускомъ обществѣ въ эту пору. Исконно Руское происхожденiе языка берестяныхъ грамотъ подтверждается изслѣдованiями професора В.И. Борковскаго и другихъ языковѣдовъ, которые указываютъ на туземную старину словосочине́нья (синтаксиса, греч.) и употребленiе падежей берестяныхъ грамотъ, отчасти продолжающихъ существовать въ различныхъ сѣверныхъ, южныхъ и западныхъ говорахъ современнаго Рускаго языка.[76] Разсматривая звуковыя и гранесловныя (граматическiя, греч.) особенности Новгородскихъ берестяныхъ грамотъ, В.И. Борковскiй отмѣчалъ почти полное отсутствiе въ нихъ Церковно-Славянскихъ словъ; это означаетъ, что словарный составъ языка берестяныхъ грамотъ принадлежалъ древне-Рускому языку, а не Церковно-Славянскому.[77] Позже А.А. Зализнякъ повторилъ утвержденiе Борковскаго, сообщивъ въ своей работѣ «Древне-Новгородский диалект», что «подавляющее большинство берестяныхъ грамотъ написаны по древне-Руски, небольшое число – по Церковно-Славянски».[78]
О дохристiанскомъ просвѣщенiи Рускихъ свидѣтельствуетъ, въ частности, Новгородская грамота № 591, относящаяся къ 30-мъ годамъ XI в., на которой изображена полная Руская азбука, отличающаяся отъ Церковно-Славянской тѣмъ, что въ ней отсутствуютъ извѣстныя Греческiя буквы. Здѣсь важно подчеркнуть, что если первая найденная археологами Новгородская грамота принадлежитъ къ 30-мъ годамъ XI в., то начало письменности на Руси очевидно лежитъ въ значительно болѣе раннемъ времени. Мы видимъ Рускую азбуку на берестяныхъ грамотахъ всего черезъ 40 лѣтъ послѣ крещенiя Кiева въ 988 г. (Новгородъ крестили ещё позже); это не можетъ означать ничего инаго, какъ только то, что эта азбука существовала у насъ и до крещенiя Рускихъ городовъ. Для достиженiя такого уровня грамотности населенiя, который имѣлъ мѣсто въ Новгородѣ начала XI в., даже въ наши дни ушло бы не одно десятилѣтiе, а въ ту пору подобной всеобщей грамотности можно было достигнуть лишь въ ходѣ постепенныхъ преобразованiй, а на нихъ потребовалось бы столѣтiе. Учтёмъ также, что первый Новгородскiй епископъ умеръ въ 1030 г., когда грамотность среди жителей Новгорода была уже всеобщей. Если допустить, что Кирилъ и Меѳодiй принесли грамоту на Русь, то слѣдуетъ допустить также, что Рускiй народъ, принявъ грамоту Церковно-Славянскаго языка, немедленно приступилъ къ созданiю письменныхъ правилъ Рускаго народнаго языка, бытовавшаго тогда по всей Руси, и оставилъ памятники этой письменности въ видѣ берестяныхъ грамотъ. И всё это онъ совершилъ всего за 40 лѣтъ! Какъ народъ, не имѣвшiй письменности, разработалъ и ввёлъ въ оборотъ правила правописанiя народнаго языка, едва ознакомившись съ правописанiемъ Церковно-Славянскаго, сiе есть тайна великая. Къ мѣсту будетъ привести одно любопытнѣйшее замѣчанiе А.С. Зуева по этому вопросу: «О берестѣ въ качествѣ писчаго матерiала въ литературѣ не сохранилось упоминанiй, кромѣ житiя Сергiя Радонежскаго. Поэтому открытiе первой берестяной грамоты въ 1951 г. было неожиданностью».[79] Намъ совершенно понятно, что неожиданностью это было прежде всего для учёнаго мiра, который убѣдилъ себя, что Рускiе до крещенiя не имѣли своего письма. Но для насъ здѣсь важенъ выводъ изслѣдователя А.С. Зуева о томъ, что если чего-то нѣтъ въ источникахъ, это вовсе не значитъ, что явленiя не существовало.
Прямыя значенiя числительныхъ имёнъ перваго десятка Славянскаго счёта составляютъ памятникъ древней дохристiанской письменности, которая является неотъемлемой частью Славянскаго и Рускаго языческаго вѣрованiя. Съ древнѣйшихъ времёнъ извѣстна взаимосвязь слова и числа, а буквы азбукъ многихъ народовъ имѣютъ числовыя значенiя. Скрытые смыслы наименованiя Славянскихъ числительныхъ перваго десятка въ половинѣ XIX в. объяснилъ П.А. Лукашевичъ: 1. Единъ, человѣкъ. 2. Два=дьва= дъва=дива, дѣва, божество нижняго уровня. 3. Три=търи=тери, торы (род. пад.), земли. 4. Четыре=кетыре=кôтôрой (чьей? коей?), твердью. 5. Пять=пѫть=пентъ, владѣетъ держитъ пятернёю, рукою. 6. Шесть=сей есть. 7. Седмь=седъимый, сѣдящiй, занимающiй мѣсто. 8. Восемь=воземь=вожемъ=межовь, межою, между (слово «восемь» образовано обратнымъ прочтенiемъ слова «межовъ», причёмъ буква ж, восходящая къ первообразной гортанной г, перепутана съ другой первообразной гортанной х, изъ которой образовалась второобразная с). 9. Девять=дѣвами, дивами (богами). 10. Десять= духами (такъ какъ духъ во мн. числѣ – дуси, а по Польски – дехъ и деси, мн. ч.). Итакъ, древнiй Славянскiй счётъ перваго десятка сохранёнъ для насъ нашими предками въ видѣ заповѣди: человѣкъ дѣва Земли (торы), коей твердiю (материкомъ) владѣетъ, – сей есть сѣдяй между дѣвами, духами (то есть отъ дѣвъ, духовъ).[80] Рускiе дохристiанскихъ времёнъ имѣли преданiя и повѣсти о подвигахъ своихъ отцевъ и о важныхъ событiяхъ своего народа, то есть имѣли лѣтописанiе (исторiю, греч.). Почти всѣ источники, содержавшiе такiя преданiя, были уничтожены введённымъ на Руси христiанствомъ.[81] Древнѣйшiя Рускiя сказанiя не могли составиться внѣ родственнаго имъ круга Славянскихъ поэтическихъ былинъ. Рускiе пѣвцы вполнѣ сознавали кровное родство Руской поэзiи съ поэзiею прочихъ Славянскихъ народовъ. Отголоски поэзiи южныхъ Славянъ, слышавшiеся на Руси въ XI–XII вв. и гораздо раньше того, свивались съ голосами Рускими въ то прекрасное полногласiе, которое надобно назвать древнѣйшими обще-Славянскими или всѣ-Славянскими преданiями.[82] Тредiаковскiй, Шевырёвъ, Буслаевъ считали наши богатырскiя повѣсти обломками древнѣйшихъ сказанiй, сочинитель которыхъ остаётся неизвѣстнымъ. Князь Павелъ Петровичъ Вяземскiй полагалъ очевиднымъ сродство нашихъ богатырскихъ пѣсенъ съ поэзiей Египетской, Индiйской, Персидской, Халдейской, Татарской и Финской; но тутъ же онъ замѣчаетъ, что всѣ эти произвѣденiя мало могли бы послужить къ объясненiю Рускихъ былинъ и, въ частности, «Слова о плъку Игоревѣ».[83] Давно было замѣчено сходство Романскихъ и Бретонскихъ сказокъ со сказками Славянъ; извѣстно родство Фригiйскихъ сказокъ со сказками при-Дунайскихъ Славянъ; очевидна близость Рускихъ былинъ съ Восточными сказанiями. Вяземскiй показываетъ, что наши сказки ближе къ древнимъ преданiямъ боговщины, чѣмъ Гомеровы сказанiя. Донъ и Дунай – средоточiя Валiйскихъ, Французскихъ и Скандинавскихъ сказанiй о Троянскомъ происхожденiи этихъ народовъ. Баснословiе (миѳологiя, греч.) Халдеевъ, напримѣръ, служитъ поясненiемъ нашей народной словесности.[84] Вмѣстѣ съ тѣмъ пересуды о заимствованiи сказанiй однимъ народомъ у другаго совершенно безплодны. Въ связи съ этимъ утвержденiемъ Вяземскiй писалъ: «Суетное состязанiе о принадлежности народныхъ сказокъ Индiи, Грецiи или Семитическому племени не можетъ привести ни къ какому результату». Всѣ сказанiя разсказываются у разныхъ народовъ со своимъ несомнѣнно самостоятельнымъ характеромъ и воспроизводятъ жизнь того народа, среди коего они слагались.[85]
У Славянъ, и прежде всего у Рускихъ, замѣтно особое стремленiе придерживаться древнѣйшихъ правилъ языка. Нашъ языкъ сохранилъ полный составъ первоначальныхъ звуковъ; онъ заключаетъ въ себѣ полный составъ согласныхъ и гласныхъ буквы, которыхъ многiе языки вовсе не имѣютъ или имѣютъ только соединенно съ другими буквами и, что всего важнѣе, имѣютъ двузвучныя гласныя, юсы (ѫ, ѧ), изъ коихъ первая рѣшаетъ великую задачу корнеобразованiя.[86] По мнѣнiю П.А. Лукашевича, первоначальный языкъ въ лицѣ Малорускаго нарѣчiя Рускаго языка имѣетъ вполнѣ музыкальную граматику и другiя особыя, чрезвычайно важныя свойства Первобытнаго языка. Южно-Рускiй музыкальный выговоръ гласныхъ, напримѣръ, никоимъ образомъ не отступаетъ отъ Первобытнаго языка, то же самое можно сказать и о согласныхъ.[87] Славянскiй языкъ въ своихъ нарѣчiяхъ сохраняетъ ещё въ себѣ сокровищницу истотей, которыя входятъ во всѣ языки мiра; они имѣютъ дивное гранесловное устроенiе, а Словенскiй и Лужицкiй – полное двойственное число.[88] Гранесловное устройство древней Славянской рѣчи дохристiанской поры, по наличiю многообразныхъ причастiй, сжатости слога, многоразличности окончанiй, имѣвшихъ нѣкогда особый отдѣльный смыслъ, особаго музыкальнаго, или «койнаго» состоянiя гласныхъ и проч., было совершенно, отчётливо и выразительно.[89] Извѣстно, что въ древне-Рускомъ языкѣ было больше способовъ склоненiя существительныхъ, чѣмъ въ современномъ намъ Рускомъ языкѣ. Какъ слѣдуетъ изъ исторической граматики Рускаго языка, въ нашемъ языкѣ до XIV в. сохранялось два будущихъ времени, четыре прошедшихъ времени, склоненiе имёнъ существительныхъ по шести основамъ со своими окончанiями. Во времена Ломоносова существительныя мужскаго рода склонялись пятью различными способами, женскаго – тремя, средняго – двумя. Прежде въ Рускомъ языкѣ чиселъ было не два, а три: единственное, двойственное и множественное. Родовъ было четыре: мужской, женскiй, среднiй и общiй. Примѣрами общаго рода могутъ служитъ слова происходящiя отъ глаголовъ: плакса, пьяница и т.п. Падежей было семь.[90]
Въ Рускомъ языкѣ дохристiанскихъ времёнъ существовали правила, которыми мы нынче, къ сожалѣнiю, пренебрегаемъ, нанося такимъ образомъ вредъ нашему древнему языку. Написанiя сряду однѣхъ и тѣхъ же согласныхъ буквъ въ словахъ не допускалось, а если въ рѣчи такiя согласныя оказывались рядомъ, то на письмѣ одна изъ нихъ опускалась. Правило, по которому не дозволялось стоять рядомъ двумъ одинаковымъ и подобозвучнымъ буквамъ, протоiерей Герасимъ Павскiй называлъ стариннымъ закономъ Рускаго языка.[91] Введённый въ Московскомъ государствѣ, въ подражанье Нѣмцамъ, обычай удваивать согласныя въ словахъ нынѣ отчасти помогаетъ носителямъ языка на письмѣ различать коренную часть слова и приставку (оттѣнокъ, воззванiе, воззрѣнiе) или окончанiе (плѣнникъ), но часто не имѣетъ никакого смысла. Даже при стеченiи двухъ одинаковыхъ согласныхъ, одного кореннаго и одного принадлежащаго къ окончанiю, въ старину пользовались только одною буквою и постоянно писали: Русьскый или Рускiй вмѣсто Русскiй. Малорусы писали Русьскый, Великорусы – Рускiй. В.И. Даль въ своёмъ Словарѣ въ статьѣ «Русакъ» объ удвоенiи с въ словѣ Рускiй написалъ слѣдующее: «Встарь писали Правда Руская; только Польша прозвала насъ Россiей, россiянами, россiйскими, по правописанiю Латинскому, а мы переняли это, перенесли въ кирилицу свою и пишемъ Русскiй!» Слово «предверiе», мѣсто передъ входомъ, словарь Ожегова показываетъ въ видѣ «преддверiе», а словарь Даля – «предверiе» и «преддверiе», сохраняя такимъ образомъ и древнее написанiе этого слова. Наши предки не могли ошибиться въ этомъ словѣ, воспринявь его въ значенiи «состоянiя передъ тѣмъ какъ повѣрить», ибо, во-первыхъ, такого слова у насъ просто нѣтъ, а во-вторыхъ, если бы такое слово и было, то должно было писаться «предвѣрiе», то есть съ буквой ять (ѣ). Но людямъ, не знающимъ правилъ Рускаго языка, удобнѣе имѣть въ словаряхъ «преддверiе». Обычай, въ подражанье Европейскимъ языкамъ, удваивать согласныя сначала распространился на иностранныя слова, а потомъ и на Рускiя. Въ языкахъ, произошедшихъ отъ Латинскаго, двойныя согласныя буквы примѣняются для указанiя на твёрдость согласной, напримѣръ, въ словѣ профессоръ. В.И. Даль по этому поводу говорилъ, что писать слово профессоръ по Руски со сдвоенной с нѣтъ надобности, наше с и безъ того твёрдое ss.[92] Удвоенiе согласныхъ въ окончанiяхъ нѣкоторыхъ словъ, преимущественно нн, объясняется выпускомъ ь, который въ Рускомъ языкѣ иногда замѣнялся звукомъ е; напримѣръ, истинный-истиненъ, странный-страненъ. Въ такихъ окончанiяхъ оба нн имѣютъ не одинаковое значенiе; первое н принадлежитъ къ окончанiю существительныхъ: истина, времени, а второе – окончанiе прилагательныхъ и причастiй. Въ современномъ письмѣ удвоенныя согласныя примѣняются у насъ чаще всего въ словахъ иностранныхъ, каковы: суббота, грамматика и друг. Но и эти слова въ старину постоянно писались: субота, граматика.[93]
Въ нашемъ древнемъ языкѣ отсутствовали слова, начинавшiяся съ гласной буквы. Нѣкогда въ языкѣ Славянскихъ народовъ произошло разрушенiе, которое заключалось въ потерѣ его важныхъ свойствъ, а именно въ забвенiи музыкальной граматики языка; вмѣстѣ съ нею подверглась той же участи и придыхательная согласная г (h). Какъ только она исчезла въ выговорѣ, то Славянскiе нынѣ уцѣлѣвшiе языки и даже нѣкоторыя ихъ нарѣчiя распались на два отдѣла. Придыхательная согласная г (h) совершенно исчезла въ языкахъ Славянъ Задунайскихъ, также въ Польскомъ языкѣ и Великорускомъ нарѣчiи; въ послѣднемъ она замѣнена частью чрезъ в, а частью чрезъ г (g). Въ тѣхъ Славянскихъ языкахъ и нарѣчiяхъ, въ которыхъ музыкальная граматика не переставала удерживаться, то есть въ нарѣчiи Верхне-Лужицкомъ, языкѣ Чешскомъ, въ его нарѣчiяхъ Моравскомъ и Словенскомъ, и въ Рускихъ нарѣчiяхъ – Малорускомъ, Бѣлорускомъ и Новгородскомъ, совершенно позабыто г (g).[94] Такимъ образомъ, по забвенiи музыкальной граматики Славянскаго языка въ нѣкоторыхъ словахъ, начинавшихся съ придыхательной г, первая согласная была замѣнена согласной в; позднѣе согласная буква въ началѣ такихъ словъ была совсѣмъ отброшена. Въ памятникахъ нашей словесности разныхъ времёнъ встрѣчаются различныя написанiя одного и того же слова, напримѣръ: гострый – вострый – острый, гокно – вокно – окно, гостровъ – востровъ – островъ. Нѣкоторыя первыя корневыя согласныя въ отдѣльныхъ словахъ, утерянныя уже у насъ, до сихъ поръ сохраняются въ другихъ Славянскихъ нарѣчiяхъ, напримѣръ, въ Лужицкомъ: hелень – елень, hобѣдать – обѣдать, hоблакъ – одежда, hогень – огонь, или въ Малорускомъ: горёлъ – орёлъ, горихъ – орѣхъ. Даже въ новое время бывало, что въ нѣкоторыхъ словахъ придыхательная г отбрасывалась; поэтому такiя слова, какъ господа, господарь, государь, въ XVIII в. записывались въ видѣ оспода, осподарь, осударь; въ ту же пору слова вотчина, восемь, вонъ, воспа стали неправильно или усѣчённо произносить: отчина, осемь, онъ, оспа.[95] Слова Алтай, алтарь, алтынъ, алатырь и нѣкоторыя имъ подобныя также усѣчены въ своей первой согласной г. Всѣ эти слова имѣютъ общiй корень голтъ, отъ котораго переходомъ первой согласной г въ з, а далѣе въ ж образованы наши слова золото (голтъ=золтъ, золото), жёлтый (голтъ=жолтъ, жёлтый).
Усѣченiя въ начальной согласной были въ прошломъ и въ языкахъ другихъ народовъ. Дiонисiй Галикарнаскiй свидѣтельствуетъ (L.1), что у древнѣйшихъ Грековъ, то есть у Пелазговъ, ко всѣмъ тѣмъ словамъ, которыя у Элиновъ, при Дiонисiи, начинались съ гласныхъ буквъ, прибавлялась согласная f (а точнѣе сказать, звукъ в). Позднiе Греки отбрасывали начальную согласную и начинали слово съ первой гласной. Латинскiй языкъ возстановилъ придыхательную согласную въ началѣ словъ: у Грековъ пишется espera (ἑσπέρα), вечеръ, а у Латинянъ – vespera, вечеръ. Обычаи усѣченiя начальной согласной всеобщи, стародавни и наблюдаются въ различныхъ языкахъ; первопричина этого обычая связана, вѣроятно, съ сохраненiемъ силъ говорящаго. Однако въ такихъ случаяхъ важно помнить, что обычай не можетъ отмѣнять законы языка, и поэтому въ учебникахъ и на письмѣ слѣдуетъ беречь первообразные виды словъ.
Что касается древнѣйшихъ правилъ ударенья (при́звукъ, на́голосъ), то И.И. Срезневскiй писалъ, что первоначально ударенья въ словахъ падали на коренныя гласныя, а впослѣдствiи ихъ стали переносить и на слоги прибавочные и, наконецъ, подчинили ударенье внѣшнимъ условiямъ образованiя словъ и оставили ихъ неподвижно на опредѣлённомъ мѣстѣ во всѣхъ словахъ одинаково, вовсе безъ отношенiя къ составнымъ частямъ и видамъ образованiя словъ. Тѣмъ не менѣе на всёмъ пространствѣ Рускаго языка бо́льшая часть словъ произносится по отношенiю къ ударенью одинаково.[96] Однако В.И. Даль отмѣчалъ, что сѣверный и восточный Великорускiе говоры всегда почти держатся одного ударенья (на первые и среднiе слоги), а южный и западный – другаго (на среднiе и послѣднiй). Москва болѣе держится втораго, а Питеръ нерѣдко своего третьяго, Нѣмецкаго.[97] Съ примѣрами смѣны мѣста ударенья въ словахъ Рускаго языка можно ознакомиться у Л.Л. Касаткина (2018). Такъ, напримѣръ, ещё недавно призвукъ въ словѣ ка́мень въ косвенныхъ падежахъ, какъ правило, приходился на корень: ка́мней, ка́мнямъ, ка́мнями, ка́мняхъ («Близъ ка́мней вѣковыхъ, покрытыхъ жёлтымъ мохомъ, Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ». Пушкинъ). Позже правиломъ Рускаго языка стало ударенье на окончанiи этого слова.[98] Учёный указываетъ, что смѣщенiе ударенiя съ основы, то есть съ корня, на окончанiе происходитъ въ невозвратныхъ глаголахъ средняго рода (звало́, ждало́), въ то время какъ прежде было принято зва́ло, жда́ло. Въ возвратныхъ глаголахъ прошедшаго времени переносъ ударенiя съ основы на некоренныя гласныя происходитъ не только въ среднемъ родѣ, какъ это наблюдается у невозвратныхъ глаголовъ, но и во множественномъ числѣ. Если старшимъ удареньемъ было гна́лось, зва́лось, гна́лись, зва́лись, то измѣненiя привели къ гнало́сь, звало́сь, гнали́сь, звали́сь.[99] Поучителенъ примѣръ перехода ударенья съ корневой гласной на гласную окончанiя въ словѣ горѣть, корень котораго есть горъ, омыслъ высшаго духовнаго мiра, высоты (однокоренныя слова: гора, горнiй и проч.). Первоначально было: огонь го́ритъ, то есть возносится ввысь, стремится вверхъ. Когда перенесли ударенье съ корневой гласной на окончанiе, то закрылась въ сёмъ словѣ первоначальная мысль, разорвалась связь со значенiемъ корня, и слово превратилось въ пустой звукъ.[100] Приведёмъ ещё примѣры переноса ударенья съ корня на некорневые слоги въ глаголахъ съ опредѣлённымъ типомъ спряженiя въ современномъ Рускомъ языкѣ по сравненiю съ древне-Рускимъ, въ которыхъ первымъ поставимъ слово древне-Рускаго языка, а вторымъ – современнаго: вмѣ́стити – вмѣсти́ть, въпа́дати – впада́ть, на́йдетъ – найдётъ, опра́вдати – оправда́ть, оста́вляти – оставля́ть, уда́ренiе – ударе́нiе, уда́ряти – ударя́ть, ума́лити – умали́ть. Измѣненiямъ подвергались и другiя части рѣчи.
Болѣе обширныя измѣненiя порядка древняго ударенья мы наблюдаемъ въ языкахъ другихъ народовъ. Въ Польскомъ языкѣ, напримѣръ, ударенiе всегда падаетъ на предпослѣднiй слогъ; въ Чешскомъ – на первый слогъ. Во Французскомъ языкѣ, также какъ въ Турецкомъ и Татарскомъ, ударенье всегда падаетъ на послѣднiй слогъ. Въ Нѣмецкомъ языкѣ, какъ и въ другихъ Германскихъ языкахъ, также какъ въ Славянскихъ, корневая гласная относится къ ударному слогу слова. Въ Санскритѣ, гдѣ самымъ важнымъ различiемъ въ именномъ словообразованiи было ударенье, слово могло имѣть значенiе то какъ имя дѣятеля или прилагательнаго, то какъ имя дѣйствiя. Съ удареньемъ на корнѣ слово было именемъ дѣйствiя и относилось къ среднему роду; съ удареньемъ на окончанiи оно было именемъ дѣятеля или прилагательнымъ и первоначально принадлежало къ общему роду. Напримѣръ, брахма (въ Санскритѣ среднiй родъ), молитва и брахма (муж. родъ), жрецъ.[101] Въ Ведiйскомъ языкѣ, также какъ въ Санскритѣ, ударенью на корнѣ соотвѣтствуетъ значенiе имени дѣйствiя, ударенью на окончанiи – значенiе имени дѣятеля.[102]
Несмотря на смѣщенiя ударенья въ нѣкоторыхъ словахъ съ корневыхъ гласныхъ на окончанiя, слѣдуетъ отмѣтить, что въ нашемъ современномъ языкѣ въ основномъ сохранилось ударенье древне-Рускаго языка. Въ Рускомъ языкѣ самымъ распространённымъ видомъ ударенья существительныхъ до сихъ поръ является ударенье на корневую гласную, составляя 92 %.[103] Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что ударенье является однимъ изъ важныхъ спсобовъ различенiя словъ, а значитъ, и словообразованiя (за́мокъ – замóкъ, па́рить – пари́ть).
1.6. Рускiй языкъ послѣ введенiя христiанства на Руси
Лѣтописанiе многихъ народовъ Востока и Запада представляетъ намъ поразительные примѣры презрѣнiя ученiя своихъ предковъ, заставившаго вѣру, законъ, науку и искуство отвергнуть свои первоначальные общенародные образы и узаконить для себя книжный языкъ, совершенно непонятный народу; такiя сообщества съ необходимостью начинали чуждаться своего происхожденiя. Такъ было на востокѣ брахманскомъ, будiйскомъ, магометанскомъ; такъ было и на Латинскомъ западѣ.[104] Въ V в. до Р.Х. въ Грецiи произошёлъ переворотъ въ письмѣ: тогда былъ принятъ Iоническiй алфавитъ; около II столѣтiя до Р.Х. Римъ ввёлъ у себя Латинскую азбуку вмѣсто Этруской; въ IX и X столѣтiи Арабы и Iудейскiе масореты исправили своё письмо; древнiе Скандинавы употребляли сперва руническое письмо, но потомъ оставили его и вмѣстѣ съ христiанствомъ приняли Латинскiя буквы. Армяне, нѣкогда писавшiе «Греческими» буквами, то есть тѣми же, что и мы, впослѣдствiи составили себѣ особую азбуку съ новыми знаками и въ новомъ порядкѣ.[105] И у насъ такъ случилось, хотя и въ значительно менѣе разрушительной мѣрѣ, когда Русь покрестили. Съ приходомъ на Русь христiанства богослужебнымъ языкомъ восточныхъ Славянъ былъ принятъ Церковно-Славянскiй языкъ, основанный на старо-Болгарскомъ нарѣчiи, значительно уклонившимся уже отъ своихъ обще-Славянскихъ началъ. Со времени принятiя христiанства народными нашими нарѣчiями и словами мы стали пренебрегать, считая ихъ недостойными нашего вниманiя. Со словъ Ломоносова мы знаемъ о старинномъ правилѣ, соблюдаемомъ во многихъ языкахъ, согласно которому въ азбуку не должны быть вводимы знаки для звуковъ не присущихъ данному языку. Тѣмъ не менѣе по принятiи христiанства на Руси измѣнили азбуку, включивъ въ неё дополнительно семь Греческихъ буквъ: Ф (фертъ), Ѿ (отъ), Ѡ (о), Ѯ (кси), Ѱ (пси), Ѳ (ѳита), V (ижица). Протоiерей Г. Павскiй въ отношенiи Греческихъ буквъ говорилъ, что этѣ буквы въ древнѣйшей нашей азбукѣ не существовали, а входили въ Словенскую азбуку послѣ св. Кирила мало по малу. Иначе понять нельзя, отчего онѣ стоятъ въ ней въ такомъ безпорядкѣ.[106]
По принятiи христiанства въ Рускихъ земляхъ стали изымать изъ обращенiя древнiя книги; они свозились въ монастыри, частiю уничтожались немедленно, а частiю сохранялись втунѣ. Въ Памятникахъ XII ст., изданныхъ К.Ѳ. Калайдовичемъ, говорится о сожиганiи книгъ, содержащихъ положенiя совершенно противныя постановленiямъ церкви. Уничтоженiе книгъ происходило и во времена правленiя Петра I. Пётръ указалъ осмотрѣть и забрать во всѣхъ монастыряхъ, обрѣтающихся въ Росiйскомъ государствѣ, всѣ древнiя жалованныя грамоты и письма, а также книги историческiя, рукописныя и печатныя, «какiя гдѣ потребныя къ извѣстiю найдутся», обѣщая вернуть подлинники обратно. Однако извѣстно, что всѣ изъятые памятники Рускаго письма безслѣдно исчезли. Князья, вмѣстѣ съ христiанскими проповѣдниками, въ своей борьбѣ за власть надъ Рускими землями и родами такъ старались объ истребленiи памяти о прошломъ, что появились основанiя утверждать, что у Рускаго народа до Кирила не было своей письменности.
Такъ называемый Церковно-Славянскiй языкъ былъ «созданъ» старанiями христiанскихъ проповѣдниковъ, подданныхъ Восточной Римской (Греческой) имперiи, Константиномъ (Кириломъ) и Меѳодiемъ, на основѣ старо-Болгарскаго языка, и былъ учреждёнъ какъ общiй богослужебный языкъ Славянъ, обращённыхъ въ христiанство. Использованiе Церковно-Славянскаго языка въ христiанскомъ богослуженiи въ дальнѣйшемъ стало толковаться въ томъ смыслѣ, что Кирилъ и Меѳодiй дали письменность Славянамъ.
Насъ хотятъ убѣдить въ томъ, что Славяне, до крещенiя имѣвшiе благоустроенное правленiе, сильнѣйшiя войска, суды и законы, строившiе города, храмы, корабли, занимавшiеся международной торговлей, земледѣлiемъ и искуствами, изготовлявшiе для себя не только всё необходимое, но и вещи роскоши, не знали письменности. Совершенно невозможно представить, чтобы многомилiонный Славянскiй народъ, въ IX ст. занимавшiй земли отъ Уральскихъ горъ до береговъ Рейна и говорившiй языкомъ, который включалъ въ себя множество красивѣйшихъ нарѣчiй, не имѣль письменности!
Принято считать, что Кирилъ родился въ 827 г., умеръ въ 869 г.; его старшiй братъ Меѳодiй умеръ въ 885 г. Отца Константина и Меѳодiя звали Львомъ; онъ былъ помощникомъ градоначальника. Iеромонахъ Алипiй (Гамановичъ) говоритъ, что отецъ ихъ былъ Славяниномъ, другiе учёные уточняютъ – Болгариномъ. Ю. Венелинъ въ своихъ изслѣдованiяхъ доказываетъ, что Кирилъ и Меѳодiй были Славяне-Болгары.[107] Во времена Константина и Меѳодiя, которые родились и выросли въ портовомъ городѣ Селунѣ (Ѳесалоникѣ), находившемся въ области Македонскихъ Славянъ, Славянскiй языкъ господствовалъ не только въ этой странѣ, но и во всей Грецiи.[108] Въ IX в. Славянскiй языкъ въ Византiи былъ всеобщимъ, народнымъ языкомъ. Замѣтимъ между прочимъ, что въ городѣ Селунѣ въ ту пору находилось главное торжище Болгарскихъ и Македонскихъ Славянъ. По преданiямъ, изложеннымъ въ «Житiи» Меѳодiя, Греческiй императоръ Михаилъ (840–867), напутствуя братьевъ, въ числѣ прочаго заявилъ: «Вы оба Солуня-не, а всѣ Солуняне хорошо говорятъ по Славянски…»; другими словами, Солуняне были Славянами по происхожденiю. Составитель Руской Четьи разсказываетъ, что Кирилъ пребывалъ нѣкоторое время въ Крымскомъ Корсунѣ (Херсонесѣ, греч.), городѣ, сопредѣльномъ Козарамъ (извѣстнымъ также подъ именемъ Хазаровъ), гдѣ обучался Козарскому языку, и прибавляетъ – «бесѣдоваху же языкомъ Словенскимъ Козаре».[109] Козары тѣхъ времёнъ говорили однимъ Славянскимъ нарѣчiемъ съ Болгарами.[110] Въ Корсунѣ Константинъ состязался съ Самаряниномъ, который принёсъ ему Самарянскiя книги. Константинъ за нѣсколько дней выучился читать этѣ книги «безъ порока», изъ чего слѣдуетъ, что книги были написаны на языкѣ, извѣстномъ Константину. Здѣсь же онъ познакомился съ книгами, написанными Рускими буквами, и быстро научился читать ихъ. Дмитрiй Ивановичъ Иловайскiй замѣчаетъ: изъ всѣхъ сказанiй, вошедшихъ въ такъ называемыя Панонскiя житiя Кирила и Меѳодiя, сказанiе о путешествiи къ Козарамъ наиболѣе достовѣрно, поскольку въ его основу легло сочиненiе Меѳодiя о пребыванiи Кирила въ земляхъ Козаръ, въ отличiе отъ другихъ частей «Житiя», составленныхъ изъ разсказовъ его учениковъ, и слѣдовательно, этѣ части во многомъ баснословны. Напрасно учёные-слависты относились съ пренебреженiемъ къ первому сказанiю, написанному собственно Меѳодiемъ, и обходили его, отдавая предпочтенiе баснословнымъ частямъ «Житiя», несогласнымъ съ первымъ сказанiемъ и менѣе его достовѣрнымъ. Однако главная вина должна пасть на историковъ, которые не подозрѣвали исконнаго существованiя Славянскаго народа на Таврическомъ полуостровѣ. Исключенiе въ этомъ отношенiи представляетъ И.И. Срезневскiй, который на Первомъ Археологическомъ съѣздѣ, происходившемъ въ Москвѣ въ 1869 г., предложилъ новыя соображенiя о началѣ Славянской азбуки, связавъ ихъ съ извѣстiемъ «Житiя» о Рускихъ письменахъ, найденныхъ въ Корсунѣ.[111] Въ частности, И.И. Срезневскiй упомянулъ объ одномъ мѣстѣ въ житiи Константина (Кирила) философа, которое, несмотря на многочисленность различныхъ рукописей, вездѣ читается одинаковымъ образомъ. Въ этомъ мѣстѣ сказано, что до изобрѣтенiя Константиномъ Славянской азбуки существовали Псалтирь и Евангелiе на Рускомъ языкѣ. Въ житiи Константина читается, что онъ, услышавши Рускаго, говорившаго съ нимъ, долженъ былъ только прислушаться къ видоизмѣненiямъ гласныхъ и согласныхъ, какъ тотъ употреблялъ ихъ, и вскорѣ началъ «честь и сказать», то есть читать и объяснять или толковать по собственному языку. Это извѣстiе И.И. Срезневскiй считалъ свѣтлымъ указанiемъ въ отношенiи начала Славянской азбуки, котораго не слѣдуетъ упускать изъ виду.[112]
