Ищу следы невидимые
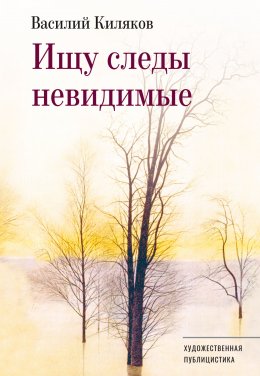
© Киляков В.В., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
М.П. Лобанов
- Благословенно всё доброе на земле,
- всё сострадающее и милосердное…
- …Перерабатывать эмоциональность —
- в духовность, в духовные глубины.
В книге В.В. Килякова «Ищу следы невидимые…» использованы материалы из литературного наследия Михаила Петровича Лобанова – писателя, фронтовика, бессменного – более 50-ти лет! – руководителя творческого семинара прозы, профессора Литературного института А.М. Горького (единственного – за всю 90-летнюю историю вуза – руководителя полувекового семинара-долгожителя). Документальные материалы, свидетельства из его архива подготовлены к печати Т.Н. Окуловой, вдовой М.П. Лобанова, хранителем его рукописей, верной соратницей и помощницей в трудах, кандидатом исторических наук, ст. научным сотрудником ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, членом СП России. Автор сердечно благодарит Татьяну Николаевну за её историко-культурную лепту в создание этой художественно-публицистической книги.
Об авторе
Василий Васильевич Киляков родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал дежурным электриком, мастером на заводе «почтовый ящик» в г. Электросталь, служил в армии (г. Киев, Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище), фельдъегерем по спецпоручениям Главного центра спецсвязи (Москва), затем: начальник отдела Главного Центра Спецсвязи; личная охрана, Росгвардия.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1996 году (мастерская М.П. Лобанова).
Член Союза писателей России с 1996 года. Живет в городе Электросталь Московской области.
Публиковался в журналах: «Литературная учёба», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Роман-газета», «Новый мир», «Берега», «День и ночь», «Гостиный Дворъ», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Подъём», «Юность», «Волга-21», «Немига литературная» (Беларусь), «Простор» (Казахстан) и других изданиях. В газетах: «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», на сайтах: «Русская народная линия», «Российский писатель», «МолОко», «Literra»…
Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им. Б.Н. Полевого (1996), «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992), отмечен за книгу «Посылка из Америки» – в номинации «Лучшая проза на русском языке 2019 года в Германии» на Германском международном конкурсе русскоязычных авторов «Лучшая книга года» и др.
В 2019 году вошёл в короткий список «Чистая книга» конкурса им. Ф.А. Абрамова, в короткий список премии им. В.Г. Распутина. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019) Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского Совета Русской Православной Церкви (2019). Лауреат премии журнала «Наш современник» 2020 года. В 2022 году вновь признан одним из лучших авторов, удостоен премии «Нашего современника». Лауреат Международной премии «Югра» (2020), Всесоюзной премии имени Н.С. Лескова (2021). За поэтическую книгу «От истока к устью» награждён Всесоюзной премией им. В.Т. Станцева (2021). В октябре 2022 года удостоен звания «Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С.А. Есенина» Союза Писателей России, «Филофеевской премии». Состоит в жюри конкурсов премий: имени Ф.М. Достоевского, «Мiр Слова», «Просвещение через книгу», Международного литературного форума «Золотой Витязь» (проза).
Красота и неподкупная правда
Для русского писателя всегда было важно ощутить контуры современной ему реальности, уловить и обозначить её чувственное восприятие, не только понять смысл событий и поступков, но и ухватить содержание самой этой эпохи, внутри которой довелось дышать и жить художнику и его народу. Каждый повествователь и литературный мыслитель по-своему считывает открывающиеся ему знаки и письмена, но почти всегда они включают в себя молекулы подлинной жизни, пусть даже автор будет во многом тенденциозен. Однако его первичные впечатления и умозаключения наверняка хранят под собой вполне достоверную основу, хотя бы она и имела малый вес и плохую наглядность для иного стороннего человека. Всё дело в существенных опорных точках реальной жизни, в её главнейших постулатах и привычках. Вот почему тот автор, взгляд которого упал на узловые предметы и явления времени, становится писателем выдающимся, вне зависимости от того, о радостном или о трагическом повествуют его литературные страницы.
Василий Киляков – писатель, примечательный, в первую очередь, своей интонацией. Его сюжеты и персонажи отличаются ни на что не похожей «вживлённостью» в окружающий их мир: в деревне – это мир уходящий, кажется, безвозвратно и непоправимо, постепенно и тихо; в городе – мир, рушащийся на глазах, теряющий человеческое тепло, забывающий о добре и зле и устремлённый только к собственному эгоистическому самостоянию. В рассказах и повестях прозаика читатель часто обнаруживает конфликты и эмоции, которые обычно не называются и не показываются в современных книгах. Будь то зияющая нравственная пропасть между совестливым отцом и циничным сыном. Или исподволь зреющая ярость телохранителя, видящего ежедневную низость хозяина. Однажды, пусть только в воображении, служивый выпускает тайный гнев на волю и бьёт о землю своего нанимателя – ещё, ещё и ещё раз…
В записках о современности Киляков запоминается читателю сокрушённым авторским тоном, в котором улавливается горечь и от собственной вины за гибель советского миропорядка – за то, что ранее привычные понятия о любви и чести превратились теперь в пустую риторику.
Однако печаль художника в прозе и заметках оказывается свойством только его скорбящей души. Этот вздох сердца он никому не навязывает, но показывает то, что видят его глаза, что улавливает его слух даже и под земною корой. И одновременно всматривается в книги своих собратьев по перу, в их подвижническую деятельность во благо русской культуры и Православной веры.
В его устах часто звучит имя Михаила Петровича Лобанова, выдающегося критика и мыслителя, профессора Литературного института им. А.М. Горького. Семинар прозы Лобанова не раз называли «семьей», потому что вот так, по-семейному, старший говорил с молодым поколением, которое взялся учить уму-разуму. Он обладал удивительным умением называть вещи своими именами и никогда не боялся этого. Неслучайно многие завидовали ученикам Михаила Петровича белой завистью: редкое счастье входить в «семейный круг» подобного уникального человека.
Василия Килякова по праву можно считать одним из лучших выпускников лобановской литературной школы. Практически все его статьи о творениях наших классиков и лучших произведениях советского периода написаны с этих позиций. Когда речь заходит о современниках – Дмитрии Мизгулине, Николае Бурляеве, Александре Орлове, о других авторах, каждая подобная работа симптоматична для времени и места – Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Красноярска, Пскова, Воронежа… Перечисление географических точек на карте словно бы заживляет ноющие рубцы в окоёме разорванного пространства отечественной культуры и лишний раз позволяет сказать с внутренней уверенностью: русское искусство не собирается умирать, а если его голос на какие-то годы стал тихим, то это значит, что копились творческие силы, и уже близко мгновение, когда этот голос вновь станет уверенным и свободным.
В статьях Василия Килякова много радости от осознания того, что русский художник сегодня менее одинок, нежели в чёрное вчерашнее время. Око творца и мыслителя открыто, ему доступны тайны прошлого, нынешняя меланхолия, видны очертания твердыни духа. И эта книга, кажется, подводит черту под минувшим и будто требует от читателя вглядеться в день завтрашний, во многом холодный и ветреный, но наполненный красотой и неподкупной правдой.
Вячеслав Лютый,
председатель Совета по критике
Союза писателей России
Живи как пишешь
Русский лес Михаила Лобанова
В жизни человека, ищущего сочетания «прекрасного и вечного», кроме дней его рождения, женитьбы, появления на свет детей, этих по-настоящему значительных для него событий, есть ещё и дни незабываемые, определяющие – это встречи с духовным авторитетом. Таким авторитетом, такой личностью стал для меня мой учитель Михаил Петрович Лобанов.
Помню первую встречу с Михаилом Петровичем в августе трагического для моей страны 1991 года, когда я приехал в Литинститут на сдачу экзамена по «мастерству» и, пройдя творческий конкурс с оценкой «отлично», был окрылён этим успехом. Я знал тогда, к кому и зачем поступаю в Литературный институт, вполне определился в своих чаяниях и ждал встречи с автором «Аксакова» и «Островского» в ЖЗЛ – настоящим мастером, человеком, написавшим «Из памятного», «Надежду исканий», «В сражении и любви», книги, в которых тончайшим образом были разобраны и литературные опыты студентов. И то, как они были разобраны, не оставляло никаких сомнений, что учиться необходимо именно у Лобанова.
Если желаешь понять хоть что-нибудь в мире, в литературе, – нужно двигаться вперёд от подлинного, пережитого, только тогда твой путь станет «дорогой к себе». Сегодня, когда прошло пять лет со дня ухода Михаила Петровича, я вижу, что не ошибся. Я поступал к нему три раза, поступал, выбирая именно тот поток, которым руководил он. А тогда, в 1991-м, я прошёл творческие конкурсы по жанру «критика» к Е.А. Сидорову, будущему министру культуры, и по жанру «проза» – к М.П. Лобанову, ни минуты не сомневался, на котором из преподавателей остановить свой выбор, если, конечно, Михаил Петрович примет меня. (Танки, однако, уже пыхтели по брусчатке Москвы…)
«Поднимись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России», – писал Л.М. Леонов. Вот именно: самоуважение, уверенность в себе и в судьбах Родины – и внушал нам Михаил Петрович всем видом своим, образом мыслей и творчества. Он – прямой продолжатель дела Леонида Леонова – отдал годы изучению его творческого наследия, разговаривал с ним, учился у него, перенимал и впоследствии передавал нам, студентам, те каноны жизни и «самостояния», которые несла русская интеллигенция той ещё, «царской» эпохи. Благородная, национально-ориентированная интеллигенция – не прозападнического толка интеллигенцию имею в виду, не «мировую обшмыгу» (по слову Ф.М. Достоевского), а – подразумеваю почвенников, государственников, центристов, жизнь готовых отдать за Россию-Родину не задумываясь.
До сего дня не знаю никого, кто мог бы лучше, подлиннее, «первозданней», что ли, донести до нас, тогдашних студентов «перестроечных» времён и либерального перегиба-перелома, – главную мысль, идею неповторимого романа Л.М. Леонова «Русский лес»: что «лес» – главное богатство страны, а «лес» этот – люди русские. И как же он оказался прав! Сбережение нации, Веры Православной, культивирование русской души и духа в людях, способных слушать и слышать, – вот главная идея и та цель, которой М.П. Лобанов отдал всю жизнь и отдаёт через книги свои и сегодня, высокая традиция, истоки которой – от Батюшкова, Карамзина, Державина.
Он всегда «на передовой» – от Курской дуги, с того страшного боя, в котором танки плавились и горели всей толщей брони, в котором в семнадцать с небольшим был он ранен. Лобанов и сегодня на передовой – своим трудом, живым творческим наследием литератора, критика, преподавателя. Вся жизнь его – Служение с большой буквы Отечеству и Литературе. А сколько ему привелось пережить и передумать – знает не всякий, даже из тех, кто следит за современной литературной жизнью. «Живи как пишешь, и пиши как живешь» – этот старый девиз, который любил Михаил Петрович Лобанов, надо записать и запомнить всему студенчеству, которое и сегодня ищет ответы на вопросы самые важные и необходимые. Я мечтаю, чтобы и мои сыновья, когда подрастут, могли бы слушать Михаила Петровича, питаться от него – «воспитываться», учиться у него. Благодаря ему я получил счастливую возможность разговаривать с Вадимом Кожиновым, о. Дмитрием Дудко, Юрием Кузнецовым, Юрием Лощицем, Глебом Горышиным, Эдуардом Володиным, Николаем Старшиновым, Семёном Шуртаковым. Он открыл во мне человека, который имеет право уважать себя, любить соплеменников, ценить и искать главное в людях: способность к творчеству, умение по-своему мыслить и никогда не расставаться с книгой. Он «влюбил» меня в русский эпос и оживил мою веру – открыл мне окно духовное, притом не навязывая вовсе своего мнения, своего образа мысли, не довлея никогда, но лишь подавал руку, когда мне, в пылу молодости и некоторой наивности, было трудно подниматься вверх, а проще бы, казалось, – вниз.
Благодарю Провидение за этот Дар: познакомиться с Лобановым, за встречи и беседы с ним, за то, что многому научился у него. Низкий поклон памяти его светлой – редкому его таланту – мудрому преподавателю и наставнику. Всегда помню его советы, его милосердие и доброжелательность. В нём удивительно сочетались требовательность и доброта, отцовская нежность – с твёрдостью в вопросах самых сущностных, принципиальных. Он учил ясно видеть, ясно мыслить и уметь обобщать факты, казалось бы, случайные, частные – поднимать их до общезначимых выводов. Учил ответственности и мужеству человечности на примере всей своей жизни. Он благословил нас изучать жизнь, простых людей, претворяя, переплавляя свои наблюдения и сами судьбы наши – в наши книги.
2021
Честно, цело, здраво…
В конце 50-х – начале 60-х в газете «Литература и жизнь» М.П. Лобанов возглавлял отдел «Литература и искусство» и лично встречался с Шергиным. И вот перечитываю дневники Бориса Викторовича Шергина, они так просты, оригинальны, чистосердечны, что хочется их читать и перечитывать. Есть в этих простых, кроме завораживающего языка, записях нечто большее, даже – великое, что хочется взять с собой в житейскую дорогу.
Вот запись от 9 мая, среда, 1944 год: «Развращённый ум мешает видеть, что́ есть стержень и главное в моей жизни и что́ является побочным. Отсюда, наверное, сбивчивое моё поведение. Шаткость моего поведения (рождённая слабостью характера) может поставить меня перед лицом неизбывного отчаяния».
Б.В. Шергин прожил почти восемьдесят лет. Это годы великих житейских испытаний: ампутация ноги в юности, частичная утрата зрения, первые шаги в литературе, первый успех… И тут – вульгарно-социологический наскок на литературу, разгромная критика – и издательства отвернулись от мастера оригинального, самобытного… И – нищета. Сверчков переулок, подвал… зарешёченное окно в полуслепом помещении под лестницей…
Певец северной земли оставил нам божественное наследие – нечто радостное, благостное, как сказал бы он сам. Во многих его писаниях сияет Сам Бог. Язык (например, в «Поморских былинах и сказаниях») – бесценен.
Язык писателя – суть его души. Главная беда сегодняшней литературы не в том даже, что нет хорошего языка, а – в малодушии: нет души, способной излучать язык. От причин – к следствию. И дальше – нечто сокровенное, нечто «касаемое» до нас всех (по дневникам), «расслабленных, хромающих на оба колена» – то есть безъязыких, как он записал, и всё же – идущих по жизни: «Для меня, человека расслабленного, хромающего на оба колена, велик труд – идти правильно и нести ношу, не роняя её. Но если я не приму этот труд, если не буду править (хотя бы остаток жизненного пути) «в мире честно, цело, здраво», для меня начнётся ещё в мире сем – мука вечная».
Итак, чтобы идти правильно и нести ношу, не роняя её, Борис Шергин завещал нам жить «в мире честно, цело, здраво». И какая поэзия – не вымученная, не высиженная в академических залах, а выстраданная – разливается здесь, какая красота души светится в дневниковых его записях!
«26 мая, суббота, – записано в дневнике. – Вечерняя заря ослепительно глядит в подвальное оконце. Оконце открыто настежь, на мостовую. Зеленеют омытые дождичком деревья. Немолчно (целый день!) чирикают воробьи, кричат ребятишки. И над всем, над всем – зов колокола: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный: звонят ко всенощной, к молитве благостной…» Завтра – Троицын день».
И вся жизнь Шергина – как яркий июньский Троицын день, солнечный и зелёный. Так озарена душа его, что и меня озаряет.
1992
Предстояние. Памяти учителя
О М.П. Лобанове
«Духовность – это то, что отозвалось в душе порывами милосердия». Так сказал незадолго до своего ухода Михаил Петрович Лобанов. Мне передала эти слова супруга его, наперсница и друг, хранитель огромного наследия – лобановского достояния – Татьяна Николаевна Окулова (Лобанова). Эти трагические, правдивые слова девяностолетнего старца, как слова молитвы – проникновенной музыкой и тайной подсказкой для жизни звучали, не отпускали всю долгую дорогу в ночи из Екшура до самой Москвы, до метро «Котельники». И даже в ночном московском метро я всё связывал с ними, вспоминал, процеживал сквозь сито этих слов воспоминания о нём, видел внутренним взором его улыбку, жесты, слышал-вспоминал ненавязчивые, но всегда глубочайшие напутствия и советы при прощании… Вот и теперь, даже покинув этот мир, он давал мне совет. Теперь уже через близкого и дорогого человека – супругу.
Так что же такое жизнь? В самом деле – «Луковка» Достоевского? Но как же сурово, жёстко и безжалостно противостоит нынешний мир всем им, классикам нашим: и Достоевскому, и Лобанову, и Астафьеву, и Абрамову, и Распутину… И Бунину, и Куприну… И Льву Толстому даже! Этот «новый мир» противостоит всей нашей русской культуре.
Той русской культуре, которая объединяла малые народы воедино, и в СССР, и прежде. И весь мир читал на русском Гамзатова и Айтматова, Лесю Украинку и Шота Руставели. Мир осиротел, съёжился. Теперь эти республики, кажется, овдовели… «Порывами милосердия» по отношению ко всем людям, к читателю была во многом «та литература». Порывы милосердия, по Лобанову, – это и есть любовь, сострадательная, деятельная любовь к людям, и все писания Лобанова как редчайшего её, любви, представителя – вовсе даже и не «луковичкой» они оказались, а чем-то гораздо более важным, бо́льшим – и долгим, на века. И для мира, и для тех же «малых народов».
Но вот уже стали забывать имена великих писателей и принимать навязанные привычки и правила. Сегодня, к сожалению, почти всё – не то и не так. И в этой беспросветной тьме сегодняшней жизни, бытового и литературного «раздрая» – как яркая лампочка зажглась, как чудо: Дворец культуры в Екшуре имени М.П. Лобанова!
Несомненно, что он сам, покинув этот мир несколько лет назад, молится о нас теперь, напоминает о себе. И праведной молитвой его о своей земле и Родине, о его родном селе близ Спас-Клепиков, случился этот подарок, это напоминание о том, что мы – люди. Что у нас много обязанностей, а не только права. И о том, что нужно видеть во всяком человеке, даже незнакомом прохожем – «Замысел Божий», по слову Достоевского. И любить именно этот Замысел о человеке. Любить человека, несмотря ни на что, даже если «по делам его» – любить ну никак невозможно!..
И мне всё не верилось, что в России даже теперь можно назвать район, улицу, Дом культуры именем не либерального болвана или оборотистого банкира, проворовавшегося мэра или чиновника, который всю жизнь свою «празднует блистательно», а именем героя, фронтовика, почвенника («русофил» – негодное слово, «русолюб» – лучше). Именем человека, вся жизнь которого – Предстояние, Служение Отечеству и культуре, учительство, литература и нравственное делание; передача опыта и жизненного, и литературного, бескорыстие и молитва…
Как радостно за эту победу среди бесконечной череды поражений и раздора, и неприятия друг друга, и мести, и взаимных упрёков в рядах наших… И за нас самих, всё-таки любящих свою землю, хоть каждый – и по-своему.
Когда прощались в Екшуре с Татьяной Николаевной, я с тайной радостью (не был прежде знаком с ней лично) – любовался ею. Знать, «и один в поле воин, коли ладно скроен!». Дочь фронтовика, участника обороны Сталинграда, она, конечно, знает, что почём в этой жизни. И как трогательна забота её о каждом из нас, обрадовавшихся возможности встречи и участию в освящении, открытии мемориальной доски на Доме культуры имени Михаила Петровича и внимавших празднику и молитве за «благоденствие и чистоту» екшурского недавно отстроенного ДК… Родные черты рязанцев… музыка хорошего, чистого слова… добросердечие принимавших нашу делегацию в Ек-шуре… Видишь, слышишь, угадываешь в «своём» человеке всегда – своего. Глава администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин (который тоже недавно покинул этот мир – как всё зыбко, непредсказуемо!.. А тогда – деятельный, полный сил и замыслов, забавно остроумный) – встретил нас с нескрываемой радостью, как дорогих гостей. И предупредительность, и внимание его к каждому – этого большого, богатырского сложения человека – были особенно милы и трогательны. Как и – чисто женская заботливость и скрупулёзное вникновение в мельчайщие детали в подготовке этого большого события заместителя Главы администрации по социальным вопросам Елены Викторовны Панкратовой.
Среди встречавших нас радушных хозяев этого праздника запомнилось: колоритная фигура ещё одного русского богатыря, земляка Лобанова, давнего его друга и почитателя, Евгения Поликарповича Кочеткова. Бывший начальник районной милиции, полковник, почетный гражданин Клепиковского района, он снимал документальные фильмы о родной Мещерской природе (показанные по Рязанскому телевидению), стал настоящим хранителем культуры этого края. Делом чести считает он сохранение памяти о выдающемся русском писателе, мыслителе. Михаил Петрович всегда остаётся для него (как он сам говорит) «воплощением честности, порядочности и скромности» (знаю, что земляки Лобанова ведут речь и о том, чтобы назвать его именем одну из улиц в Клепиках)..
…И вот Дом культуры в Екшуре имени Михаила Петровича Лобанова открыт, дело сделано. Памятная доска (к которой в скором времени добавится мемориальная, с барельефом писателя) гласит: «Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры муниципального образования – Клепиковский муниципальный район», филиал № 15. Екшурский сельский дом культуры имени М.П. Лобанова. 391022, Рязанская область, Клепиковский район, Екшур, ул. Красный Октябрь, д. 15/6».
Открытие памятной доски на новом ДК освятил и благословил священник отец Геннадий Рязанцев-Седогин, один из учеников Лобанова. Есть в этом глубокий смысл, нечто провиденциальное: ученик-писатель освящает Дом культуры имени своего учителя. О. Геннадий Рязанцев-Седогин – Председатель Правления Липецкой писательской организации «Союз писателей России», протоиерей… (Я время от времени открывал в полутьме автобуса подаренную им книгу, читал первое, что открывала рука, читал из его нового романа: «“Становящийся смысл” – это строящийся храм, место на земле, через которое проходит ось мироздания. Вся полнота жизни – и земной, и небесной – вращается вокруг этого таинственного сооружения. А между тем люди, душой и телом привязанные только к земному, не замечают присутствия глубины, которая, впрочем, не умаляется от этого»). Такая перекличка с книгой «Внутреннее и внешнее» Лобанова поразила меня. Рукоположенный священник, настоятель храма Михаила Архангела в Липецке, который построен им с помощью Божией и тщанием прихожан, – он взял груз со всей тяжестью его… И вот – несёт опыт учителя дальше, в будущее.
«По делам их узнаете их». По делам учеников познаётся величие учителя. И тотчас вспомнилась давняя, начала 2000-х годов, переписка Лобанова, опубликованная в его книге «Твердыня духа», с отцом Феодором, монахом Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, который теперь уже и сам наставник. Их дивная переписка исповедальна: разговор душ… С каким уважением, даже почтением в этой переписке Лобанов-учитель обращался к ученику-монаху!.. Как высоко ставил он Веру, духовный сан!
А нам на семинарах, уже в 1991-м, Лобанов разъяснял суть «атак времени» на священников, на военных-офицеров – в ту, «пригорбачёвскую», бытность. Яростные наскоки на Церковь и на храмы в прессе – от «Московского комсомольца» до «Смены» и «Огонька», от либералов… Он говорил так: «Во-первых, необходимо отделять саму Веру от персоналий (и в героическом строю попадаются неважные воины). Во-вторых, они, священники, рукоположены, а это значит, что те, кто оступился (из священноначалия), – каждый по иному счёту сам за своё ответит перед Богом, и ответят (о том напоминают и святые отцы церкви Православной) на суровом суде иначе, чем миряне. И, наконец, ещё одно, и главное – даже из ржавого крана течёт святая вода». (Благодать через рукоположение действует независимо от человеческих характеристик священника).
…Вечер памяти Лобанова на родине его открыл глава Екшурского сельского поселения Олег Викторович Закалюкин. Затем выступил глава администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин, поднимались на сцену и многие другие. Радушные хозяева подготовили замечательную литературно-музыкальную композицию – поистине творчески руководит Екшурским Домом культуры (и, в частности, – вокальной группой ДК «Кумушки») певица Елена Яранцева. Выступали профессиональные артисты, была яркая, переливающаяся всеми красками родной клепиковской сторонушки художественная самодеятельность.
Выступили литераторы, в том числе и мы, приехавшие из Москвы, очные и заочные ученики Михаила Петровича.
Тепло и хорошо говорили, тревожа аудиторию самыми насущными проблемами писателей и читателей, об эстафете поколений – от Леонида Леонова, М.А. Шолохова, преемственность так много значила для Лобанова: от леоновского «Русского леса» – и первой работы о нём Михаила Петровича – до последнего романа «Пирамида». Тревожили, потому что невозможно говорить о Лобанове и не соотносить его мировидение – с нашим взглядом на современность. И это соотношение, конечно, не в нашу пользу, не в пользу веяний нынешнего времени – не радует. Заместитель председателя Союза писателей России Н.И. Дорошенко вспомнил именно об этом, рассказал залу о проблемах творческого становления молодого писателя – они известны ему, как мало кому (он с давних пор в СП России – ответственный секретарь по работе с молодыми авторами). Ему есть о чём сказать, чем поделиться с аудиторией; было предложено, в частности, в будущем проводить в этом прекрасном культурном центре Лобановские чтения.
Вспоминал Михаила Петровича и Александр Евсюков – молодой, но уже крепко, уверенно пишущий автор. А вслед за ним взяла слово и легко, и свободно выступала и читала свои рассказы Софья Гуськова, актриса Театра Российской Армии и тоже ученица Лобанова. Передавали эстафету другие: читали стихи, исполняли песни на стихи Сергея Есенина…
Русские сарафаны, замечательные светлые лица… Праздник, даже при многочисленности приглашённых и присутствовавших в зале, получился камерным, уютным, почти семейным. Из родных Лобанова в зале присутствовали: брат по материнской линии Николай Агапов, дочь Михаила Петровича – Марина Могутина и его внук Глеб, сказавший много хороших слов об открытии Дома культуры.
Впечатления остались самые добрые. И не только потому, что здание ДК на родине Лобанова так ново, так чисто и уютно: построен и оборудован корпус – на перспективу, с широкими возможностями показа фильмов, с цифровыми технологиями, всегда отныне готов для встреч с писателями от СП России, желающими посетить Екшур, – с будущими посланниками, которые пойдут теми же дорогами от ДК Лобанова к храму, теми же путями, где хаживал Михаил Петрович. Сердце утешалось в Екшуре этим милым, мягким гласным, рязанским протяжным наречием с выговором – на «е» и «а»: округляют, бегут словеса, катятся, освежают интонациями; удобряют речь рязанцы метким народным словечком, метафорой, пословицей щедро, даже с избытком порой. Так заметны, памятны мне эти говоры с детства, особенно в присказках и в поговорках. «Я люблю этот край подсвешный, / Где на взгорок через луга / На молебен рядком неспешным. / Как монахи, идут стога», – написал очарованный «Мещерскими бродами», замечательными людьми этого края поэт, секретарь Правления Союза писателей России Евгений Юшин, много потрудившийся для того, чтобы памятное событие на родине Лобанова состоялось.
…Мы впервые в Спас-Клепиках. Припомнились записи Михаила Петровича «Из памятного» об этих местах, где он говорит в раздумьях о родине – из поездок с чужбины, записывает из какой-то азиатской страны примерно так: дождь, дождь и дождь несколько дней. Включил телевизор. Там прыгающая цветная обезьяна – скорее выключить!.. Почему так просится душа домой, на родину, в чём дело? А дело в том, что моя память здесь, на чужбине, – пуста. Не цепляется, не может ухватиться сердечная память за события. Всё там – на родине – узнаваемо, всё сокровенно: увидел куст – там бегал в детстве босиком… а у тех кустов – мама обморозила ноги, когда рубили дрова в лесу… Всё цепляет, всё тревожит на родине, всё наполняет воспоминаниями душу. За границей же, среди пальм, нет родовой памяти, оттого и тянет так домой – к полноте сердца. Воспроизвожу его мысли по памяти, но суть именно такова.
Теперь и я побывал в родных местах его, о которых столько сказано и с такой любовью. Здесь он родился, здесь жил. К этой земле сердечно был привязан… «На родной сторонушке – рад своей воронушке…» – метко замечено в народе. Даже и вороне-воронушке – и той рад! Михаил Петрович если и отъезжал за границу, то всегда ненадолго и стремился скорее вернуться домой.
…Как поразительно талантлив наш народ, наша земля: километров в тридцати пяти от дома Есенина (если напрямую) – родина Лобанова. Оба учились в Спас-Клепиках. Ходили одними тропинками, купались (с небольшой временной разницей: Лобанов родился в ноябре 1925-го, а Есенин ушёл в декабре того же года) – в одной реке (и она недалека от ДК, река Пра). Как удивительно, как выразительно богата наша Почва: в какой Калифорнии или в каком предместье Альп возможна такая корневая система, такой «симбиоз» таланта, мудрости и добра? Два крыла: с одной стороны – есенинская порывистость, чувственность, необычайная «моцартианская» лёгкость слова, афористичность – «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете…». Яркость и свежесть – в жизни и в литературе. Другое «крыло» – и смысл всей жизни – в служении русскому делу Михаила Петровича Лобанова, фронтовика, мыслителя, преподавателя, критика; мудрость, центризм, государственность, глубокая Православная вера, имперское мышление с акцентом на сбережение народа. Сдержанность и взвешенность во всём. Есенинская задорная «удаль забияки и сорванца» и «…я более всего весну люблю…» – в сочетании с лобановским полнейшим безразличием к славе, с идеей нравственного вдумчивого воспитания и поддержки человека труда, с определённой, ясно выраженной идеей сохранения народа, в особенности народа русского – главного достояния. (Русский лес, по Л. Леонову – народ, который необходимо сберегать… И первая книга Лобанова, повторим, – о Леонове, о его романе «Русский лес»). Два крыла, без которых нет взлёта и не может состояться полёт.
«Да по́лно! – думалось иногда. – Понимают ли вполне там, в Екшуре, памятную доску кому, какой Личности они открыли, и осуществима ли, возможна ли и впрямь мечта: писателям под эгидой СП России и впредь «разрабатывать» эту «систему Лобанова» – посещать ДК регулярно, устраивать вечера и встречи его памяти. Навещать и дом его на родине, культивировать память о нём, возрастая нравственно и творчески с молодняком-подлеском, о котором говорил Дорошенко, о котором нынче так радеет наш писательский Союз. Как ни прикидывай, а – поистине мечта, если задуматься: вечера поэзии Есенина в ДК Лобанова. (Или вечера другого прозаика, поэта, критика, любого одарённого литератора, талант которого созвучен и сродственен талантам Лобанова, Есенина). Не всё бы улицам Марка Захарова да «Центрам зарубежья» Солженицына – столбовую дорогу, и в Москве – особенно. Зачин есть, начало состоялось 12 декабря 2019 года на Рязанщине. Но есть и реальная возможность – народному движению переименований – дойти и до самой Белокаменной, и до Северной нашей Пальмиры. С таким размахом думалось мне тогда, и бежала-струилась за окном автобуса таинственная ночная дорога к Москве из-под рязанского Екшура, и бросали блики светлые афиши и светофоры, радужные играющие цвета (в разночтенье своём подобные моим далеко ведущим мечтам).
…Есенинские строки «лицом к лицу лица не увидать» стали крылатыми и через десятилетия восславили поэта, а его замалчивали десятилетия. Уверен, что рано или поздно Россия вернётся к подлинному осмыслению и переосмыслению наследия писателя, критика, публициста Михаила Петровича Лобанова – ярчайшей личности. Переписка его с В.И. Беловым, В.П. Астафьевым, В.Г. Распутиным – многажды цитируется и издаётся. «Капитан Тушин», «боец на передовой» – по слову критика Юрия Михайловича Павлова. Так жил Лобанов, таковым и ушёл. Последние годы были особенно тяжелы. Быть может, если бы он продолжил преподавание в Литинституте и дальше, то и дни жизни продлились бы, даже скорее всего так. Преподавание, верность литературе, русскость в глубинном, религиозном смысле – вот источники, которые питали его. Уверен, дело всей его жизни – обучение, воспитание (вос-питание духовное) молодёжи – было прервано кем-то «высокопоставленным» намеренно. Кто, по чьему «задёру», замыслу и умыслу вынудил его, профессора, руководителя семинара, кафедры творчества Литературного института с более чем полувековым преподавательским служением, заслуженного работника Высшей школы России, почётного работника культуры города Москвы, написать в августе 2014 года это «заявление» на имя и. о. ректора? Эту невероятную «просьбу» «в связи со сложившимися обстоятельствами» освободить его от занимаемой должности руководителя творческого семинара «по собственному желанию»; «просьбу», ознаменовавшую наступление для Литинститута новых времён после ухода с поста ректора Б.Н. Тарасова и так дорого стоившую ему – фронтовику, раненному в боях за родину, наставнику молодёжи с его абсолютным литературным слухом, с любовью к делу, к своим «семинаристам» – и с их ответной взаимной любовью к нему… Горько вспоминать.
Я часто беру его книги с дарственными надписями, веду диалог с ним внутренне, разговариваю через его строки, так, как если бы был он жив, и мы снова встретились. «Василию Килякову, который собирался впопыхах, а оказался на Олимпе. Город Владимир, 2 апреля 1996 года. Приём в СП России». Такая вот, с юмором, дарственная надпись на его книге, подаренной мне, «В сражении и любви». Вся жизнь его – сражение и любовь к людям, порывы милосердия… Неизбывное осталось ощущение, что отдавал он всего себя, без остатка – с такой величайшей жалостливостью воспринимал окружающих, с таким состраданием. Не соотносил себя с людьми, как теперешние «волчата-писатели» «с их плебейской, мутной и безотрадной прозой» (его выражение), а именно жил, проживал судьбу каждого ученика. Он набирал семинары, искал талантливых. И как же радовался, если находил! Талант был главным критерием его оценки, а его добротой пользовались. Я знаю, что он давал деньги ученикам и ученицам, – конечно, без отдачи. И узнал об этом, понятно, не от него… Да разве только это… О его всепрощении ходили легенды. Никогда не забыть, как он здоровался. Крепко, внимательно брал за руку. Глядел прямо в душу. Не выспрашивал, но каждое слово он «видел». Именно видел, а не только слышал… Или такая дарственная запись на книге «Твердыня духа», это уже 2010 год: «Дорогому Василию Килякову с сердечной благодарностью за внимание к моей литературной работе, что меня и трогает, и воодушевляет. Ваш Михаил Лобанов, 21 апреля 2011 года. Литинститут». Как это цепляет, особенно теперь, до самого дна души.
Дарственная на его книге «Оболганная империя» – не для широкого читателя. Строки убористым остроугольным почерком горьки и суровы, с написанным откровенным признанием не поспоришь… Он был твёрд, всегда собран. Не «умел быть твёрдым», а именно был таковым – мягким же казался только от любви, даже нежности к людям. Но жёсткость была для него не характерна. Помню, как он подписывал «Оболганную империю» с некоторой застенчивостью умудрённого человека, для которого борьба – всё-таки не самое главное в жизни, а главное – литература, которую ещё во время дискуссии «Классика и мы» в 1977 году – он, единственный из писателей, по словам Юрия Павлова, трактовал через категорию тайны как высшей потребности души. Культура, творчество, чувство родины. Уметь принимать человека как «сколок» Образа Божьего – вот что было важным в его жизни. Понять эту тайну Божью – Человека – и, разоблачив, преодолеть про́пасть между величием и низостью человеческой – помочь в этом делании всем. Да разве же разоблачению этой тайны не стоит посвятить жизнь, в самом деле?! Величие человека – в его мечте, в стремлениях сердца.
…Что за тайна – он сам? Откуда вообще в русском народе эти вспышки-явления великих праведников и святых, эти таланты из недр народных, эти явления Духа? Среди нищеты, кромешного голода рождается в селе Иншаково в рязанской глуши мальчик под крышей из дырявой щепы и соломы, продуваемой всеми ветрами. Мальчик, который сам находит и выбирает, что ему прочесть, чтобы сформировать и «огранить» характер. Пишет первые рассказы в четырнадцать лет, а после войны, вернувшись с фронта, будучи уже студентом, посылает последнюю краюху хлеба родным – матери и малолетним сводным братьям… (Вспомнить его голод фронтовой и ту буханку хлеба, которую он нашёл на фронте, на передовой, на шоссе, случайно, ту, которую ел перед боем, разделив по-братски с ребятами-воинами, вчерашними школьниками, быть может, перед последним сражением (Лобанов М.П. Из памятного // Молодая гвардия. 1985. № 4. Цит. по: Он же. Страницы памятного. М., 1988. С. 256). Ему самому в ту пору едва исполнилось семнадцать. Как трогательно и сокровенно описывает первый бой и впоследствии батальон, от которого осталось в живых и отправилось на переформирование и новые атаки всего лишь пятнадцать человек…) В пять лет остался без отца (мать, имея двоих детей, вышла замуж ещё раз за вдовца, у которого было и своих пятеро, чтобы родить ему ещё четверых). По свидетельству родных, он сам, младо-воин, еле-еле стоял на ногах от постоянного недоедания. А средний сводный брат Валентин, иногда путаясь, называл его папой. В письмах ему он так и писал: «Остаюсь твой сын Валя…»
Что и как он читал в то время, о чём размышлял? И что это было за время – дальнее, почти былинное? Когда к семерым – среди беспросветного труда и недорода, и голода – рожали ещё четверых? И жили! И при этом – гордость его, Лобанова, – за нацию, за «цементирующую все народы и республики» силу. «Русский лес», лес человеческий… И что же это – порода, наконец, неразгаданная, русская? Любимое слово и высшая похвала поступку или писателю из его уст: «Настоящий русак!» (так называл он, кстати, и своего клепиковского друга-земляка Е.П. Кочеткова, о котором уже говорилось выше, которому он посвятил и страничку в своём «опыте духовной автобиографии», книге «В сражении и любви»). С 1990-х годов я слышал эту похвалу подвигу того или иного человека от него – совсем нечасто – мало кого он удостаивал таким званием, произносил всё реже эти слова. И как же оскорбляло его нынешнее засилье и дикарская «игра» – эта война на литературном поле ныне живущих, повторяю, молодых «волчат» в литературе и в жизни!..
Помню, с каким недоумением – может же такое вообще случиться! – передал он мне однажды через студента Андрея Тимофеева книгу «Десятка», в которой разве только Захар Прилепин не выпустил матерный рассказ, избежал этого. Лобанов, мастер слова, был поражён, изумлён, будто при нём поругали святыню… Литература была для него на втором месте среди святынь, и вдруг – такое. Что же оставалось? Ему самому написать разгром на этих «волчат», тем самым давая им рекламу своим именем? Он выбрал другой путь – в противовес бездарям и циникам из «Десятки»: сборник своих выпускников «В шесть часов вечера каждый вторник». В сборнике под эгидой Литинститута он собрал прозу своих дипломников. В июле 2013 года книга вышла в свет (помощницей в литературной работе была супруга Татьяна Николаевна). Достойный ответ. Сверх того – явная, «чистая» победа через книгу – в этом споре о нравственности, не заочно, а делом – в этом весь М.П. Лобанов – ответить, дать отпор, но ответить нравственно, достойно. Сопротивляться всячески «просвещённому мещанству» и особенно – непросвещённому…
Читая книгу выпускников с первого рассказа «Хозяин» Алексея Серова, я искренне радовался – какая удача! И горевал: ну что такое тысяча экземпляров сборника! Как разогнать облака таким тиражом? Серов – талантливый светлый писатель, этакий «анти-Сенчин». Читаешь и – внутренне обмираешь, но не от тревожной беспросветной мути нашей «житухи» под либеральный аккомпанемент «елтышевых» или «десяток», а – от перспективы хоть и далёкого, но – света. В этом рассказе рабочий парень – по существу становится хозяином предприятия. По преданности делу, заводу, по нравственному устроению своему – честно – не только побеждает новых заводских «приватизаторов», а оказывается и хозяином положения, рачительным и подлинным директором по существу не только цеха, а – и самого завода, отвечает при систематической задержке зарплат; – и становится добытчиком и ревнителем порученного заказа. Только такой хозяин и одновременно деловой работник, не рвач, не устремлённый к прибыли «денежный мешок» и мог спасти положение. Эти «денежные мешки», по обналиченным векселям купившие всё производство, едва не угробили завод. Спасает простой рабочий. И здесь опять: «Внутреннее и внешнее» – твердь Лобановская (у Михаила Петровича есть книга, которая, напомню, так и называется: «Внутреннее и внешнее»). И этот сборник выпускников Литинститута – «выстрелил»! На презентации в Литинституте тогдашний ректор Борис Николаевич Тарасов назвал его «беспрецедентной книгой». Высоко оценил его известный публицист, критик, тогда – зам. главного редактора журнала «Наш современник» (увы, ныне тоже ушедший) А.И. Казинцев. С сочувствием отозвался о книге в своей статье «Остров надежды» духовно чуткий писатель (по лобановскому определению) А. Трапезников («Литературная Россия»), откликнулась и «Независимая газета». А вот что написала выпускница Литинститута, автор рецензии в журнале «Наш современник» Е. Злобина: «Эта книга поразительна. Она вызывает шок. Представьте, что вы жили себе и жили долгие годы, думая, что всё происходящее вокруг – точно и верно. И вдруг оказалось, что всё это время на самом деле вы висели в пространстве вверх ногами и вдруг вернулись в нормальное положение. Читали-читали книги и журналы, будучи уверены в том, что имеете дело с литературой, – а оказывается, всё это время вам подсовывали пустые погремушки, в которых за шумом, трескотнёй фраз и расчётливым позированием нет ни мысли, ни глубины, ни художественной правды. Вот, одна настоящая книга – и горы литературного глянца, которыми вы напичканы, рассыпаются в пыль».
На сайте «Российский писатель», в альманахе «Артбухта» (Севастополь – Москва) отмечали лучшие писатели России и по содержанию, и по оформлению этот сборник, называли «более чем достойным…».
И, конечно, справедливо. Псевдолитературе, так называемым «Десяткам» (это явление – новые «десятки», новые «успешные писатели», вошедшие, по М.П., в дьявольскую систему обогащения, «а ля Д. Быков», с его, Быкова Д., – патологической «брезгливостью к жалости») – ответ им всем – чистой книгой: «В шесть часов вечера каждый вторник». Хороший урок! Как говорил сам Михаил Петрович, «есть литература и псевдолитература». И этой «новой», «демократической», денационализированной, авангардистской псевдолитературе (по его же словам) – конечно же, явно не по нраву пришёлся выход книги учеников Лобанова. Им глубоко ненавистны традиции великой русской литературы, неотделимой от этики, от духовности как основы слова, от постоянной социальной ответственности. Однако этот «междусобойчик», эти «стаи» «литературных дельцов» нынче стали запускать, загонять, определять даже и в вузовские, и в школьные учебники, о чём не раз писал М.П. Лобанов (в том числе в книге «Оболганная империя»[1]).
Но кто же широко прорекламирует хорошую книгу, настоящую литературу – и, как пример, именно «В шесть часов вечера каждый вторник» – да ещё, под редакцией самого М.П. Лобанова! – наше общее достояние. Почему не предложить эту книгу, нравственно выверенную, чистую, – для прочтения школьникам и студентам? Или «Болонская система» не позволяет? Почему не представить её на телевидении, на страницах других центральных изданий? Кто же на деле сегодня заинтересован в издании настоящей подлинной литературы? Кто даст «большому кораблю – большое плавание»? Как же безответственно, бессодержательно мы живём: нам Сальникова да Гузель Яхину подавай… Или Водолазкина…
Не скрою – дорого мне, что открывается наша «семинарская» книга и моим рассказом «Капитал», в котором, по слову Лобанова, «показана трагедия 90-х в истории семьи». Считая этот рассказ классическим, М.П. со свойственным ему великодушием назвал автора его «выдающимся писателем, который в наше смутное время ставит на место всех умственников, самодельных гениев» (в числе последних упоминал авторов пресловутой, раскрученной «Десятки», сборника рассказов, в котором, по замечанию нашего наставника, – «нет и намёка на серьезную жизнь»).
«О молодой литературе» – руководитель творческого семинара прозы М.П. Лобанов – из замечаний к последней книге «Убеждение»: «В этой книге рассказов студентов Литинститута «В шесть часов вечера каждый вторник…» – единство разнородных рассказов – разнородные авторы при цельности». И далее: «В этой книге представлены такие выдающиеся русские писатели, авторы среднего поколения, как Киляков, Серов, Богданов, Жуков…». «Совершенно не замечают выпускников Лит. института, таких, как Богданов, Жуков, недавно умерших, о которых писали в «Лит. Газете», современных коренных русских писателей (Киляков, Серов) среднего поколения – уже зрелых мастеров, тончайших психологов, мощной художественной изобразительности». Далее замета: «свящ. Вл. Соколов – о нищете талантливых писателей». «Священник Владимир Соколов в своей книге «Мистика или духовность? Ереси против христианства» (М., 2012), обоснованно выделяя проблему таланта в современном мире, пишет: «Талант всегда восходит, а бездарность падает, вовлекая в поток падения и окружающих. Восхождение же требует воздержания от соблазна – аскетического подвига, поэтому талантливый человек почти всегда лишенец: во-первых, развращённое общество из ненависти лишает его благ, во-вторых, – и сам он ограничивает себя в потреблении, ибо обилие и роскошь развращает дух, а в творчестве приводит к пошлости». «…Обновление жизни, в котором так нуждается сегодня мир, невозможно, если подлинно талантливые люди не займут центральное место в духовной, общественно-политической и культурной жизни человечества… (с.197–198)» (см.: Лобанов М.П. Убеждение // Наш современник, 2015, № 11. С. 244–256). «И нет более верного способа убрать писателя, публициста из строя борющихся, как замолчать его, заткнуть ему рот (выражение П. Флоренского). А это значит заткнуть рот самому народу, выразителем которого является талантливый автор». Зачем нынешней Москве сборник, составленный из дипломников Лобанова? Ведь в «споре о нравственности» книга «В шесть часов вечера каждый вторник» показывает именно внутреннее делание – а это бесспорно удар по «соросятам», по «шубинским» и «быковским» прожектам. Для непосвящённых поясню: в шесть часов вечера каждый вторник – Михаил Петрович Лобанов в Литинституте, в старом здании (бывшее имение Герцена) – вёл курс, давал уроки по мастерству будущим писателям. Преподавал студентам Литинститута, обучавшимся очно, и заочникам. Как говорил он, наш наставник, в слове для участников «презентации» сборника: «Пусть эта проникновенная книга напомнит вам в будущем весеннюю пору вашего творчества с его свежестью чувств, открытостью взгляда на мир, стремлением к чему-то высшему».
Лобанов был убеждён: «…признание, значение этой выдающейся книги только возрастёт со временем. Слишком она контрастирует, «ставит на своё место» господствующую ныне игру в литературе, агрессивность авторского самоутверждения, жизненную, духовную, нравственную немощь. Не важно, что не каждый из этих тридцати двух авторов (представляющих только последний период истории семинара – начало XXI века) “выйдет в писатели”, ведь главное здесь – убедительное свидетельство того, какое обилие молодых талантов, подтверждающих, что Россия, несмотря ни на что, жива, её творческая молодёжь противостоит злу и насилию, всему разрушительному, что русский язык по-прежнему объединяет людей разных народностей нашей некогда единой великой страны».
В книге, которая противостоит бескорневой «антикультуре» и которая вместила рассказы выпускников Лобанова: русских, башкир, татар, белорусов, украинцев – живут образы нашего времени во всём его многообразии. И тотчас с такой жалостью, до «судороги щёк» (по-есенински) вижу, вспоминаю учителя – и удивляюсь: вот, сегодня ищут днём с огнём русскую идею – как её определить? Ответ – в одном слове: «Лобанов»!
По Лобанову, мир внешний, мир грубой материи – требовательный и беспощадный. Но не этот мир грубой силы или власти – вовсе не он окажется решающим. Мир внутренний, невидимый – вот тайна, и смысл, и соль. Откуда же и как он пришёл к такому убеждению, как выстрадал уверенность: внутреннее – важнее и прочнее внешнего? И пронёс это убеждение через всю долгую, почти в целый век, дистанцию своей жизни… Здесь Тайна Благодати, которую он не держал за семью замками.
ТV, Ютуб демонстрируют нам ныне чиновников, партийных бонз – и отпрысков их, «золотых» столичных мальчиков как пример для подражания, которые в жизни своей ничего тяжелее ложки не поднимали. Передвигаются исключительно на такси. Приглашённые «на голубом глазу» – так легко, скоро и убеждённо-легковесно говорят… Этакое жонглёрство англицизмами и суржиком из молодёжного сленга и мусорной мовы – неких «интеллектуалов» без приложения души. Совсем другое дело – знания, добытые трудным путём страданий, сомнений. Выстраданные, кровью омытые, испытанные, не голословные, на «пикировку» и непризнание, на слом и на удар проверенные.
…Продолжим вспоминать о Мастере под мемориальной доской в Екшуре. Первые рассказы Лобанов публикует в четырнадцать лет в Спас-Клепиковской газете «Колхозная постройка». Они, эти рассказы 1940–1941 годов, были представлены в лобановской экспозиции в фойе ДК. Их разыскали, как я узнал, сотрудники Рязанской областной библиотеки и старейшая сотрудница Клепиковской районной библиотеки Г.Н. Ликий. Кстати, рядом с этими предвоенными «рассказиками» (как он сам их впоследствии называл) и первыми статьями одного из лучших учеников Екшурской средней школы мы увидели тогда многие редкие материалы, например, связанные с его участием в Великой Отечественной, – фотокопии военных справок, орденских книжек, ряд документов из семейного архива, военные воспоминания писателя, пехотинца «На передовой». Всё это было собрано, как оказалось, руководителем музея боевой и трудовой славы Клепиковской школы № 1 Тамарой Александровной Артамоновой, подвижницей-краеведом, которая многие годы переписывалась с Михаилом Петровичем; он присылал в музей письма, книги свои с дарственными надписями, поддерживая живую связь с родной землей. Результатом кропотливой краеведческой и военно-патриотической работы, которая давно велась в школьном музее, стала посвященная памяти знаменитого земляка Лобановская экспозиция. Как нам стало известно, в предшествующем настоящему празднику в Ек-шуре году заняла она первое место на краеведческой конференции «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» (секция «Родословная. Наши земляки»).
И снова и снова – зарницы памяти. Вечной памяти…
В 1943-м – спецкурсы под Уфой и отправка из пулемётного училища стрелком на фронт. Август того же сорок третьего – Брянский фронт, Курская дуга. Разрыв мины – и тяжелейшее ранение при наступлении. По его собственным воспоминаниям, правую руку он, едва живой после атаки, «нёс, как ребёнка», от нестерпимой боли прижимая к груди. С трудом выбрался – повреждена кость. В конце войны, после увольнения из армии, этот юноша из Иншаково, девятнадцати лет от роду, поступает на филфак МГУ, который окончит с отличием. Однако в 1949-м он выберет не литературоведческие штудии, а совершенно иной путь. Получит назначение в ростовскую газету «Молот» – этого он и добивался.
Ростов. Вёшенская. Михаил Шолохов… Первая супруга с младенцем отказывается следовать за Лобановым, съезжать от матери «на пустую кочку».
Потрясённый «Тихим Доном», Лобанов собирает материалы для написания исследования о великом романе. Встречается с Шолоховым, которому напоминает, что тот по матери – тоже рязанский. «Нет, – ответил гордо Михаил Александрович, – нет, я казак! Во мне нет мужицкой крови». И смешно, и трогательно. И ростовские степи, и Дон очаровали Лобанова совершенно. С трепетом из окна поезда разглядывал он те места, где Гришка Мелехов сеял хлеб и воевал. И там, в Ростове, происходит одно из главных событий его жизни, о котором он напишет в книге «В сражении и любви». В одиночестве, обессиленный голодом и ослабленный ранением, переживает он тяжёлую форму туберкулёза. От редакции его изредка посещали, приносили немного еды, но болезнь так тяжела, что «не было сил пройти насквозь, от стены к стене маленькую съёмную комнату», просто «пройти от стены до стены». Кровь шла горлом… Необычайная слабость из-за голода, едва ли не исход души… И вдруг – открываются высшие, непостижимые сферы. Об этом он говорил мне прикровенно однажды и писал гораздо позже, переосмысляя произошедшее, в той же книге, «В сражении и любви». «Благодать» – изречёт он, вспоминая об этой грани жизни и смерти. И навсегда это чувство останется с ним и станет его путеводной звездой.
Кроме заметных и замечательных писателей он воспитал в «застойные» 1970-е и в начале 1980-х годов в атеистической обстановке нескольких священников и одного архимандрита, и продолжал дело всей жизни своей и в трагических 1990-х, и в 2000-х. Хочется спросить у тех, кому Церковь не Мать и кому Бог не Отец: «А вы, отцы, так же смогли воспитать детей, как воспитывал, учеников, он, наш педагог?»
Поразительно, как Михаил Петрович вызывал на себя огонь самых яростных противников русскости духа. Когда он выпускал книги, писал статьи, то «старался уйти в «русский дух», в чём виделось наиболее действенное противостояние «разлагателям России»»[2]. Говорил независимо. Мог ли промолчать или просто просидеть какое-то время в тишине, чтобы отдышаться? Нет, никак. И вот «Просвещённое мещанство», 1968 года. От А. Яковлева донос-опус «Против антиисто-ризма», 1972. (Кстати, есть мнение в литературных кругах, что донос этот заказан был А.Н. Яковлевым и расписан по пунктам, исполнен был за мзду небезызвестным, послушным «верхним эшелонам власти» официозным критиком, а вовсе не самим будущем «прорабом перестройки». Даже и доносы написать сами не умели эти каменщики влиятельные, эти «прорабы» да «архитекторы перестроек»). Яковлев же и раскрутил «возмущение» М.П. Лобановым – поднял волну и погнал её аж до Андропова. И то, что возмущало его, высокопоставленного «бровастого» чиновника, он же – А. Яковлев, как это ни удивительно, – поставит, помимо всего прочего – целью и образом своей жизни и впредь: приспособленчество, мещанство, жажду наживы и исключительно собственного благоденствия… Таковым и останется в нашей памяти этот «куратор перестройки», который в 1958–1959 годах стажировался в Колумбийском университете США. Он же заявит в 2005 году цинично и развязно: «Несмотря на нищих в переходах, на войны на окраинах, на беженцев, на новых русских со всеми их прелестями – сегодня страна лучше, чем пятнадцать лет назад»… Он был хорошо «устроен», избалован безнаказанностью и мог позволить себе выпады самые разнузданные и циничные (А. Яковлев. «С ничтожествами из ямы не вылезти»). Да разве – только он один, а сколько недоброжелателей по отмашке тех же Андропова и Яковлева выбрали мишенью именно Михаила Петровича?.. Как любили о ту пору именно что по отмашке сверху налетать ордой на одного…
По просьбе автора повести «Драчуны» Михаила Алексеева – Михаил Петрович честно пишет свои мысли о ней. И опять виноват Лобанов… М. Алексеев в недалёком будущем примет и поведёт журнал «Москва», станет благополучно главным редактором, а Михаил Петрович – снова в опале. Это теперь переписывают историю, вернее, пытаются переписать. Лобанов покинул нас, и вот – «заговор молчания» официозных СМИ (как выразился один из учеников М.П.) в связи с его кончиной… Демонстративное равнодушие «прогрессивной общественности», публичной (в самом прямом смысле слова)…Такое впечатление, что определённым кругам свербело, скребло, хотелось вычеркнуть из нашей истории имя выдающегося мыслителя и великого патриота России.
«Доставалось, достаётся мне за эту “русскую духовную стихию”», – говорил сам Михаил Петрович в статье «Убеждение» из последней своей автобиографической книги. Вспоминая тёплые слова Вадима Кожинова о Лобанове, назвавшего его «наиболее полнокровно – из всех известных мне моих современников – воплотившем в себе русскую духовную стихию»[3], горблюсь от тяжести намеренного «непонимания», непризнания его чиновниками от литературы, политиками. И сам М.П. добавлял, бывало: «Лично меня это нисколько не удивляет, надо же расплачиваться за свои убеждения, за которые мне достаётся с обеих сторон».
Фронтовик Михаил Лобанов имел в виду не только открытых своих оппонентов. (Речь шла об имевшем место сознательном замалчивании имени «признанного патриарха отечественной патриотической мысли» иными «записными патриотами», по его выражению, – теми, кто «о себе – на первом месте»). О «переписывании истории патриотического движения с “выбрасыванием” Лобанова, истории его жизни и более чем полувековой борьбы». «Перечёркивание моего имени в русской литературе, того направления в ней, которому я верен» – это его слова, М.П. Лобанова, это боль последних лет жизни писателя, участника битвы на Курской дуге.
У истоков русской национальной линии сегодня стали записывать свои имена совсем другие люди, большие чиновники. Мода – или спохватились? И эти подтасовки смешны, от них, от этих «крикливых, горлопановских» (по выражению самого автора книги «Убеждение») «ура-патриотов» он тоже натерпелся. Кто они – легко прочесть и просчитать. Уже не Лобанов, а другие теперь, как вдруг оказалось в новые времена в «первых передовых записных патриотах»… В связи с этой попыткой замалчивания его книг, его направления в русской литературе, «переделывания истории литературы» (причем, увы – не только открытыми недругами) М.П. замечает: «Дело не в том, что замалчивается моя фамилия, а замалчивается направление моей работы, направление, которому я верен».
«Мое направление должно продвигаться. Оно не продвигается, а нарочито замалчивается». «Дело не столько во мне, сколько в русском направлении. Я никогда не играл в литературу, я отдал целиком ей всю жизнь». (Может быть, сказал как-то сам М.П., здесь тот случай, о котором писал Вадим Кожинов в своей рецензии на его рукопись (16 февр. 1981) о тех литераторах, которые не доросли до понимания творчества критика, его «внутренней значительности» (жур. «Наш современник». 2015, № 8)). Те именно оказались в списках патриотов сегодня, которые благоденствовали тогда, когда он, в вынужденной своей внутренней эмиграции, взялся за любимых русофилов Аксакова и Островского. Но и здесь его новый взгляд на известные вещи был из ряда вон выходящим, и книга «А.Н. Островский» в «ЖЗЛ» (1979) «вызвала целую бурю» (критик Юрий Павлов), подвергаясь остракизму за православную духовность и религиозность. А в 1994–1995 годах его работа над книгой «Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи» стала явлением. Именно в эти годы ненависть к фигуре Сталина достигла апогея. Искусственно разжигались гнев и ярость народа, подпитываемые нарочито устроенной бедностью и голодом большинства, даже нищетой во всех смыслах этого слова, включая Библейский.
После выхода его книги о Сталине он сам однажды сказал мне: «Если бы раньше прочитал твой рассказ «Сиделец», Василий, то непременно поставил бы его, как и живые страницы отца Дмитрия Дудко о Сталине, в свой сборник, в свою книгу «свидетельств о Сталине». И всего-то дел, казалось бы: старик-сиделец у бабки водки выпил, но как живо написано! В коротком рассказе – вся суть и срез целой эпохи». Конечно, я был счастлив. Выше похвалы для меня и быть не могло. Даже и не оттого, что он признал «руку» молодого тогда литератора, а потому, что посчитал строки рассказа достойными своей книги. Казалось, он увидел и во мне – бойца, стрелка. Позже рассказ был опубликован и получил премию им. Андрея Платонова «Умное сердце» (2011 г.) газеты «Гудок» (РЖД). Получается – и я выстрелил не «в небо», не «в белый свет как в копеечку», – в цель.
В самое жестокое для страны время 1991–1996 годов студенты учились у него стойкости и «непробиваемой» выдержке, «стоической», но – в православном понимании стоицизма (если такой симбиоз возможен). Для неправославных и вовсе не объяснимы его неизменная твёрдость, постоянство, непоколебимое рачение о ближних, и в самое суровое время, если отсчитывать от окончания Великой Отечественной войны, – это 1991–1996 годы – он не менял убеждений. Даже принимая в расчёт, какой раскол (без всякого «кипения весёлого») был тогда в стране даже на низовом, бытовом уровне: кто-то ушёл в бандиты, кто-то – охранниками в ЧОПы. Россия была в растерянности и разоре… В этом, похоже, и состояла подлинная суть горбачёвской «перестройки с ускорением». Ускорились так, что встали прокатные станы в Электростали – городе тяжёлого машиностроения. Военный завод («почтовый ящик»), где я работал, «переквалифицировали» под той же вывеской: «изделия» (военный термин оружия, боевых машин, детали для которых изготавливали на станках ЧПУ) – Госзаказ переоформили на иные «изделия»: кастрюли и гусятницы: разоружение, капиталисты стали внезапно «братьями» «в общем, в глобальном масштабе» (по словам первого президента). Бандитизм, безверие, раздрай. Три дороги оставались нам, молодым, в те угрюмые времена: в милицию – но туда-то попасть даже на самую захудалую должность было непросто, да и годиков было мне за тридцать. Или – в те «частные» охранные предприятия (где платили чуть больше, чем в милиции, но с задержками иногда по полгода), или – на рынок в торгаши. И это с техническим-то и высшим образованиями. Один из моих друзей так и поступил: окончив «Бауманку», встал на рынке у своего ветхого прицепа со стиральными порошками. Вот такое «своё дело» открыл он. Купил на складе – продал на рынке, с этого и живи-прозябай. А работа его с нанотехнологиями по напылению графитом и теплоизоляции – прорывная, как потом оказалось! – побоку. Ни звание, ни защита диссертации – стали никому не нужны…
Нищета, отчаяние. Безгонорарные публикации, пустая, нищая, голодная «читательская» публика в Москве… Даже в Москве: на улицах и рынках, на вокзалах и за лотками сплошь – мешочники да лавочники. Жизнь они полностью подмяли под себя, эти самые торгаши, – и взирали с лотков на прохожих, как пауки из щелей взирали бы, выслеживая мух. Палёной водки – море разливанное. Пляски хоровые с подтанцовкой и ужимками уголовников – урок на блатные мотивы М. Танича с фартовым выплясом (и это со сцены Кремлёвского зала!) аферюг, и тустеп-чечёточка их: «Все на работочку, а мы бацаем свою чечёточку…». Милиция – и та с удовольствием подчинилась «блатной музыке» во всех смыслах слова, распальцовкам («музыка» – по фене – «блатной разговор»). И не где-нибудь, повторяю, а в самом Государственном Кремлёвском Дворце.
По телевидению – чернуха, «600 секунд» и «Красный квадрат». Вознесенский воспевает подтяжки убитого Листьева Влада – точно так же, как некогда воспевал подтяжки Высоцкого Владимира. Дались ему эти подтяжки! «Получили дозу своего лекарства», как говорится… Тот, кто открыто вывалил напоказ духовные отбросы – то есть был занят тем, что через телевидение за большие деньги пронимал до дрожи знобящими картинками разложения, тот, кто разводил «крыс» и душевную помойку, кто культивировал пороки, он самый, в радужных подтяжках, опять-таки заимствованных у американцев, и был убит и растерзан этими самыми выросшими и натасканными на живую кровь «крысами»… Этакая мистерия с жертвоприношениями во славу Золотого Тельца. Некая метиска-телеведущая, губастая, отвратная, с голыми ляжками и в кожаной короткой юбке – кривлялась в заставке на ТВ к её программе для молодёжи, как мастурбирующая мартышка – на анонсах: «Про это». А в интервью своих объясняла, что в мужеложстве и лесбиянстве якобы нет никакого порока: «Это заложено в самой природе…»
Отец мой, преподаватель электротехники, однажды смотрел-смотрел – не выдержал, подошёл и плюнул в «голубой экран», в это «публичное́ пространство». Актёр Филатов начитывал «Федота-стрельца, удалого молодца», уже заикаясь и пришепётывая (казалось бы – вот оно время и ему подумать о душе, на грани инсульта. Нет!) – и всё фотографировался: то с кошечками, то с собачками – какая прелесть! В этом вся суть актёрства: самолюбование. Страна летит в тартарары – а они, наши актёры, всё с кошечками да собачками… Удивительный инфантилизм, конформизм. Впрочем, чего же ждать в трудные времена от трансляторов чужих, вызубренных «под кино» монологов, написанных для недалёкого зрителя? Впрочем: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».
И «каждый вторник в шесть часов вечера», вернее – к шести вечера из далёкого пригорода, из самой Электростали ехали мы, студенты «Лита», опускались и поднимались по метро, по улицам великого града Московского, превращённого в 90-е в помойку, мимо угрюмого памятника Пушкину, с немым укором склонившего и выю, и главу, – тянулись мы по адресу незабвенному и теперь: «Тверской бульвар, дом 25». К бывшему родовому фамильному поместью Герцена-Яковлева-«iskander», к Литинституту. «Каждый вторник, в шесть вечера» к Михаилу Петровичу Лобанову на семинары «по прозе». Хотя, какая «проза», когда в душе – смятение. Столько ропота и недовольства… Явная несправедливость и ложь мытарили нас: «…Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои…», – как принуждали нас учить наизусть «ревнителя прогресса и просвещения», «вольнодумца» (с масонской подоплёкой) «века Разума» Радищева, но ведь это, казалось, осталось в прошлом, но теперь-то, теперь, как же так. И, мы, максималисты, как многие по молодости, ставили главный вопрос: а зачем жить?! И вот в таком-то смятении духа вдруг слышал на семинаре от Лобанова: «Василий, пиши. Ты должен, обязан писать, несмотря ни на что. Пиши из себя, своё». Он словно отмывал, отстирывал и бережно отжимал наши души. И они снова вспыхивали, как «ландыши», по есенинскому слову. Духовная баня…
Этот жест его искалеченной на фронте правой руки – жест вперёд, от груди, от сердца, он как бы отдавал себя нам – разве его забудешь… Отдавал, отнимая что-то от себя, – снова последнее, как прежде, на фронте – последнюю краюху, найденную на дороге перед боем – товарищам, которых, быть может, видел в последний раз. Или – как впоследствии, в университетские годы, когда мальчишкой-инвалидом Отечественной войны посылал свой прибережённый паёк – белый батон – младшим братьям в изголодавшуюся послевоенную деревню, – так и при встречах-уроках он делился с нами хлебом насущным, духовным. Так и виделось: отдавал последнее однополчанам, затем – сводным братьям, а теперь – нам, мне, ученику-«семинаристу» Василию Килякову.
…Вижу его въявь, как держит он очки за дужку. Плечистый серый рябенький пиджачок… Отеческий взгляд – с таким порой состраданием, от которого сжималось сердце, – с таким пристальным участием, что не передать словом… Всех выслушает, а затем взвешенно, с высоты огромного опыта, даст своё заключение. И когда объяснял он нам главное – тончайшие пружины жизни и подземные невидимые рычаги и шестерёнки становились отчётливо скрипучи, слышны и зримы. И оторопь брала тогда: как же я-то этого не заметил, сам, без подсказки, ведь так очевидно!? И, вроде бы, знал и видел то же, что и Лобанов, но – не так цепко смотрел, что ли… Акцентировать, обобщать он умел как никто из встреченных мной по жизни. Прошёл мимо многого я, и за «пустяки» почёл многое важное, принял ключевое за что-то не достойное внимания. А вот он, Лобанов, посмотрел и – тотчас увидел. И именно то́ и увидел, и понял как раз то самое, что оказалось важным, обобщающим, итоговым. Он словно с другой стороны показывал предмет, со стороны совсем неожиданной. И тогда мы, ученики, обмирали от внутренней радости, от понятого, раскрытого нам во всей полноте Предмета.
«Предмет, предметность». Он любил это слово – «Предмет». Предмет как Божье изделие. Предмет как фактура – не выдуманное изделие, не метафора, а пережитое. Божье попущение или же – веление свыше. Прожитое, обдуманное, внутренним жаром опалённое. Тогда только высказанное на бумаге становится полновесным и только твоим, честно заслуженным собственным Опытом – ценнейшим – в сотворчестве с Демиургом. Это и есть Предмет в его понимании. А опыт такой предметности необычайно дорог и необыкновенно важен всякому, а уж писателю тем более. Всё не осмысленное и не поднятое до Предмета, непонятое – так и останется всего лишь попыткой разглядеть, разгадать, расколдовать, расшифровать. Додумать. Слово это благодатное, лобановское, слово большого Художника, такое же ёмкое слово, как понятие: «внутреннее и внешнее». Любое – и грубое, и тонкое – он чувствовал иначе, острее, зорче именно внутренним зрением. Так у И.А. Бунина был обострённый взгляд на внешнее, а у Лобанова – на внутреннее, на тот мир, который невидим, сокровенен, но в то же время реальнее видимого. Постигнуть сказанное им в книгах, возвращаться как можно чаще к его наследию – вот мой совет всем литераторам, преподавателям, всем, связанным с искусством, а уж православным – тем более. И почаще бывать на его родине, в память о нём, в Екшуре, в ДК его имени – всенепременно…
Строг он был (к себе, прежде всего) и к общему нашему «писательскому цеху» необычайно. Как метко и со знанием дела оценивал: два-три слова по существу – и все в цель, в самую точку. Как пристально наблюдал он – до самых мелочей. И словб, и поступки – взвешивал всё на тех же весах: нравственность, вера, любовь. Совесть, благодарность, убеждение (три принципа, которые он вывел из опыта своей долгой жизни, по которым, по его суждению, можно разделять людей)[4]. И как же русские писатели дорожили его мнением!
В.П. Астафьев просил его написать предисловие к своей книге «Последний поклон». Его переписка с В.Г. Распутиным, В.И. Беловым – бесценны… Уверен, не было писателя, который не желал бы, чтобы о нём написал сам Михаил Петрович Лобанов. Даже среди либералов: пусть изругает, раскритикует, но упомянет хотя бы имя автора в печати – уже удача. С содроганием предполагаю, сколько потеряла литература оттого, что его замалчивали по указке сверху, что из-за травли и идеологических «разносов» партийными бонзами и либеральной прессой был он загнан в «ЖЗЛ». Но вот – написал «А.Н. Островского», «С.Т. Аксакова» – и опять промыслительный подарок. Это – не просто биографии «русофилов» и любимых писателей. Они все связаны, навечно стянуты насущным временем через «идеологическую борьбу между либералами, западниками и почвенниками» (его слова). Издавна горела и тлела эта война и необычайно ярко вспыхнула опять в начале 1990-х. И всё же – литература была для него даже превыше этой борьбы, так честен он был, выше же творчества и таланта – только Сам Христос…
Размышляю: возможно ли наверстать теперь то, что недосказано было им о современной литературе? Сколько не открытых им имён так и ушли, не обозначенные им, в неизвестность… Сколько талантливого народа из глубинки не получили благодатного помазания маслицем на лоб от него, от его искалеченной на фронте десницы!.. Но разве его в том вина? Дали бы говорить ему беспрепятственно, будь шире его аудитория, как расцвела бы наша литература! А среди всех могли быть, как говорят в народе, «на́большие». Не узнаем теперь о них никогда. И кто же посмел ждать от него и принять его заявление «об уходе»? Когда-нибудь откроется и это. Шила в мешке не утаишь. Однако он оставил нам свой, лобановский ключ к постижению «литературы и жизни» (по названию одной из его статей) – вот об этом явлении и просим теперь говорить.
«Дух, Духовность… Русский… – Нельзя!» – так решили: Ю. Андропов, А. Яковлев со товарищи. Хотелось спросить поимённо и у хитроумных закопёрщиков «перестройки»: а почему, собственно, «нельзя»? Однажды в 1992 году я не выдержал и, удивлённый тем, что Лобанов так страдал от наскоков того самого А.Н. Яковлева, сказал ему возмущённо: «Неужели кого-то обидит, если я скажу прямо и просто очевидное: я – русский? В России скажу. Послушайте – вот даже в Германии, не где-нибудь, замечу особо, а в Германии самой, только что объединённой, – и там едва ли не на каждом столбе висят обращения: «Немцы». И никто не срывает эти листы-обращения, не давит и не теснит за эти призывы, не преследует… И это в той Германии, которая через страшную кровь и скорбь мировую после двух мировых войн, где она была и главной разрушительной силой, Германии не только национально заорганизованной, но «нацистской», фашистской по сути, как знаем, в иные времена (я видел группы молодчиков в кожаных куртках и кожаных штанах, в ботинках подкованных, с бляшками-молниями видел молодёжь профашистскую на улицах Берлина 92-го года). И никто не задерживал этих «скинхедов» на немецкий манер. Они отлавливали поляков, вьетнамцев, турок и избивали их. Едва-едва удалось разделить и огородиться стеной от их воинственности и национализма, удивительно! Не обижает никого из стран «толерантных» и это их «Deutsche!» – обращение к нации даже в восточной части Берлина – ни аусзидлеров, ни поздних переселенцев, ни эмигрантов в Германии. Разве все забыли, к чему привёл этот их тевтонский аппетит с идеей «сверхчеловечества». А Россия теперь вынуждена всё время контратаками пробавляться: русский – не чихни, не вздохни в ответ на любые происки новоявленных «зажигателей Вселенной» (выражаясь языком наших героических предков). Иначе скопом вся Европа навалится. Ведь всё, что было завоёвано нами ценой больших жертв со времен походов Наполеона, – всё мы «вернули» им. «Вернули взад», как говорят в народе. Вернули и покорённую Германию, точнее – отдали страну-агрессора в орбиту США и Западной Европы. Без всяких репараций и контрибуций – безоглядно, по-горбачёвски отдали восточную часть разделённой по заслугам Германии. А из давней истории Европы наполеоновской: Александр Павлович, государь наш, в своё время дошёл с казаками до Парижа, помолился на бульваре Сен-Жермен – и вернулся назад, и казачков вернул (я имел в виду молитву царя в день Светлого Христова Воскресения (1814 г.) с православным своим русским воинством в земле иноплеменника, на месте казни Людовика XVI, описанную Н.А. Шильдером). Или – всё та же Берлинская стена, которую по отмашке Горбачёва позволили разрушить. Ушли из Берлина, ушли из Прибалтики, Чехии, из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, сдали даже и «ридну мати-Украину»… И её тоже, оставили всё. Да разве только это… И вот: «я – русский» в самой России – не скажи! Толерантность или терпимость ко злу, что исповедуется сегодня, непонятна. Или просто предательство?..» – так говорил я М.П. Лобанову. А в ответ услышал: ««Ах, Родина, какой я стал смешной! На щёки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец…» – всё это было. Всё это уже было, Василий».
…Лобанов выслушивал нас внимательно. Он знал, что в августе 1992-го радиостанцией «Немецкая волна» за участие в литературном конкурсе, объявленном «Дойче Велле» в газете «Труд», я был приглашён в Германию и два месяца учился немецкому языку в «Гёте-институте». Учился у «носителей языка», осваивал немецкие акценты, так сказать. Такая была объявлена мне «награда» за победу в номинации международного конкурса в жанре «радиорассказ». И вот этот интересный подход немцев: обучить лауреата-писателя своему языку, показать свою культуру русскому молодому писателю, ошеломить достатком и сытостью в сравнении с дефицитом бывшего Союза и тем «перевербовать» в свою пользу – был ясен ему, фронтовику. Это же не просто посыл, тут всё с дальним прицелом: влюбить в себя, очаровать, быть может, и проводником своих немецких идей сделать… Сытостью, удобством, довольством немецким приголубить. Вот-де: что там тебе твоя Россия, киндер-писатель! – голодная прихожая Европы. Вот, смотри, как надо жить – и разумей: «гросс-бир», свиные сосиски, и прочее. Угодливые «мензы» на каждом шагу. Такие «акценты» – я и сам сразу уловил. О них же говорил и «великий» – в понимании немцев – Ханс Магнус Энцербергер на нашем совместном выступлении в «Гёте-центре». (Вот откуда пошли и наши «Ельцин-центр, «Центр зарубежья», «Сахаров-центр», «Гоголь-центр»… – от лакеев-подражателей Европе). Они увидели, эти подражатели, лакированную поверхность западной культуры – и поверили навскидку, сразу. Таковы эти самые «акценты». А мы и свой-то язык на уроках в школах и вузах сокращаем и сжимаем до предела. Так сжимается бумага в костре пожарища всероссийского, зато английский вводят повсеместно. Может быть, мы уже завоёваны, мы оккупированы, страна-победитель нацизма?
«…Как же ты выдержал там два месяца совсем один, – спросил Лобанов при первой встрече. – Я и двух недель там не прожил бы, в этом «погружении в чужбину»»… – И попал в самую точку. Пришлось признаться, как я был поражён обилием пищи и вещей, особенно в западной части Германии. Обилием совершенно не нужным, излишеством, которое некуда деть. Сорок пар носков одного размера и всяческой раскраски. В то же время в нашей стране крупа была по карточкам, по два кило в руки, мыло – по куску в месяц. Водка и табак только у спекулянтов с шестизначными астрономическими ценниками… а там – сияющие бронзовым и золотым отливом здания, блистающие машины на промытых с шампунем шоссе. …Я поделился наблюдением, что при всей их сытости… глаза у них пустые, как пластмассовые пуговицы на пальто. Улыбки – натянутые. Доброжелательность – явно фальшивая. Попроси реально чем-то помочь при видимом участии, да вот хотя бы и дать на билет десять марок, и последует недоумение, улыбка слетает с лица, проверено личным опытом. И потому, признался, я так соскучился по родине, так скучал, что нашёл в парке уголок на Хайденберг-штрассе, островок России с берёзкой и небом. Снимал ботинки и садился босиком на траву у берёзки, чтобы не было видно небоскрёбов, чтобы сердце отошло…
Ах, Рязань, Рязань моя, ах, моя Вятка… Как же я заболел ностальгией! Эта ностальгия, как оказалось, тяжелее всех болезней, даже и с COVID-19 вместе взятых… Я купил приёмник и держал его под подушкой. Частушки Трухиной на средних волнах приёмника, через треск и заунывные шумы – единственно и лечили меня от тоски, помогали хотя бы заснуть.
Никогда не забыть и взгляд, с которым он слушал. Он был чуток к людям, а к ученикам – в особенности. И это тот человек, который нашёл и выбрал для учёбы в своём мастер-классе даже и Виктора Пелевина… Разве это не демократизм, в отсутствии которого его смели упрекать и яковлевы, и присные им «яковлевцы»? Подлинный, честный демократизм, внутренняя свобода. Казалось бы, что у них общего? Дар учителя – не утилитарного отнюдь человека. «Демократичного консерватора» (как сказал кто-то из студентов). В его «духовных теплицах» росли и согревались всякие, даже самые причудливые и необычные цветы, лишь бы жила теплица среди мороза. Пусть и погаршински с «Attalea princeps», с заокеанской пальмой-Пелевиным, например, лишь был бы плод… Думаю, даже уверен, что мы увидели бы и совсем иного Пелевина, настоящего, а не проект «АСТ» – если б он доучился у Лобанова, если бы не был отчислен – нашли бы автора ярче, содержательней, глубже, и знали бы его теперь как настоящего писателя, а – не полемиста, не «поп-артовца», спорщика с действительностью, пишущего «про отрезанные ноги в лётных училищах» и про «пустоту». Нет сомнений: тех, кто выучился у Лобанова, нельзя пробежать так, как читают сегодня изготовителей легковесных литературных изделий. Прочитал, скоротал время (пусть и не без первичного интереса порой). Закрыл книгу, и – тотчас забыл. Лобановское носишь годами, десятилетиями, переосмысливаешь, передумываешь.
…И ещё о Германии. Надежда Середина, студентка из Воронежа, рассказывала мне в тех же 1990-х, как она сидела с правкой повести в его квартире на Юго-Западе Москвы. Вдруг – звонок в дверь: «Помощь гуманитарная». Девица из соцзащиты уже предчувствовала радость, которую она внесёт и в эту квартиру очередного фронтовика. Начала выкладывать с улыбкой кормилицы соевое масло в двухлитровой жестяной банке, галеты, сухое молоко в огромной блестящей упаковке:
– Это от немцев.
– От кого? – не сразу понял, уточнил Лобанов.
– От немцев, говорю. Помощь благотворительная, – со снисхождением к наивному удивлению этого пожилого человека отвечала разносчица.
– Вот немцам и отнесите всё это, – был ответ.
…Вспоминал я, радуясь за Екшур, за получивший имя Лобанова ДК, и припоминал милые сердцу встречи с ним на праздниках. Он, как я помню, праздновал лишь День Победы да тезоименитство, именины – день памяти святого Михаила Архангела (Святой Михаил Архангел – Архистратиг, Глава святого воинства Ангелов и Архангелов). И праздновали мы чаще всего не день рождения учителя 17 ноября, а – тот же ноябрь, но 21 числа. Он гордился своим именем и причастностью (по имени) Архангелу Михаилу. «Всю нечистую силу сверг мой святой», – сказал он негромко однажды. И сколько же цветов, сколько радости, фотографий и пожеланий было на таких встречах! Как теперь вижу: стаканчик из пластика в его руке, в стаканчике шампанское. Лучистый взгляд небесно-голубых его глаз. И эти полстаканчика игристого он пил час – и не допивал, скромно ставил на стол, принимая цветы охапками от вновь и вновь приходящих. Тех, кто давным-давно окончил Литинститут, не забыл навестить его в заветной аудитории № 11. И как он радовался, протягивал по-персидски руки навстречу: «О-о, Василий, Александр! Мои дорогие!..»
Скромен был удивительно. Никаких подношений не терпел, не брал. Однажды один из нас, дипломников, «просачковал» и не принёс к сроку преддипломную работу, что было обязательным. Тогда он, студент, догадался сделать так: чтобы не осрамиться перед учителем, купил дорогой японский кассетник-магнитофон, записал беседу трёх старух в электричке, переписал-переложил от руки их диалог и напечатал на машинке всё то, что «стенографировал», чуть подредактировал – и принёс Михаилу Петровичу, пытаясь выдать подделку за «эксклюзив». Я никогда не видел прежде учителя таким рассерженным. «Что это? – спрашивал он, возмущаясь. – Это что?» – «Повесть», – робея, отвечал студент. – «У вас защита на носу, а вы приносите мне запись какого-то обывательского партсобрания!..» Тогда студент не нашёл ничего лучше, как предложить: «Михаил Петрович, а можно я вам свой дорогой кассетник принесу? Чудо, что за магнитофон! Настоящий японец!..» Взрыв ещё большего негодования потряс стены аудитории: «Конечно, несите, да поторапливайтесь! Несите ваш магнитофон. Но в бумаге, в виде хорошей повести или – рассказами! Вот ещё, выдумал… Магнитофон!..»
Однажды был я свидетелем, как заочники, собравшись во вторник, разложили ужин. Сухую колбасу, хлеб… Удивительно совпало. Все работали и учились заочно. Один привёз горячие батоны из пекарни на Новослободской. Другой – колбасу сухую черкизовскую (он работал там в охране, на Черкизовском мясном заводе). Третий – молоко лианозовское… Пир горой. Я с удовольствием кусал, ломал, резал и жевал с моими гостеприимными друзьями. Михаил Петрович, в очках, лицом к нам, просматривал рассказы и повести к предстоящему обсуждению. Снедь была до того вкусна, что я не удержался, нарезал бутерброд, налил чаю из термоса, принёс и поставил перед ним. Он молча посмотрел на меня поверх очков и вновь углубился в чтение… Ребята поняли мой жест доброй воли по-своему. И вот уже угощением был заставлен первый стол для учителя, и мы с радостью ждали похвалы. Как же, поделиться – первое дело! Не тому ли учили нас наши родители с младых ногтей? Не тому ли са́мому и он учил нас всегда? Каково же было наше удивление, когда, дочитав рукописи, глядя пристально нам в лица, он несколько рассерженно и деловито сказал: «Так, всё? Всех присутствующих переписать в журнал. И убрать всё это! Какое-то паломничество, честное слово!..»
Это его точное: «паломничество» – никогда не забыть. За ним надо было записывать, ходить с карандашом и блокнотом. Я однажды так шутя и сказал ему. «Вам, как Гёте, своего Эккермана-секретаря надо бы. Вы греете этот мир высказываниями, как грел бы зиму огонь при открытой печи». – «Вот уж чего я не хотел бы, Василий, так это – испортить кому-нибудь жизнь обожанием своей персоны, как Гёте испортил жизнь Иоганну Эккерману. Запретил ему жениться, запретил, по сути, саму свободу и даже сам мир Божий! Ради себя, любимого, ради гениальности своей… Так мнить о себе – позорно. Будь ты даже Гёте».
До сих пор повторяют: «диссидент Окуджава», «диссидент Вознесенский», Евтушенко, Ахмадулина… И Василий Аксёнов – тоже «диссидент». Какие же это диссиденты, – в золотых пелёнках прожившие? Из-за границ не вылезали! Лобанов – я вижу – вот кто настоящий «диссидент»! Но, во-первых – он настоящий русский патриот. Никогда не был антисоветским диссидентом, обласканным Западом (как не был обласкан, к примеру, и знаменитый священник, духовный писатель о. Дмитрий Дудко).
Уже в поздние советские годы за правду об испытаниях, выпавших на долю русского народа, о голоде 1933 года, на него, на Лобанова, обрушился гнев дорастающего до «генсека» Ю. Андропова, потребовавшего принять специальное постановление ЦК партии, осуждающее статью Лобанова «Освобождение». За такое «диссидентство», за действительный русский патриотизм на Западе не платят ни славой, ни долларами, ни учёными званиями, ни докторскими мантиями, ни почётными лауреатствами (это хорошо чувствовала Татьяна Глушкова, говорившая о «литераторах типа М. Лобанова, которые понимали, что именно невостребованность Западом может сделать честь русскому патриоту»).
Прощение и всепрощение наше не имеет границ… Вспомнить только зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Стукалина и зав. отделом культуры Шауро – и подачу ими докладной Андропову. Вспомнить давление на Лобанова-писателя многих и многих даже очень авторитетных и влиятельных критиков и чиновников. Его тиранили хорошо устроенные замы и завы из числа тех, кто поддерживал тогдашнего председателя отдела пропаганды ЦК КПСС А.Н. Яковлева. Сколько их и сегодня, не прозревших… «Слепота!» – как-то сказал Лобанов о них. «Но слепота ли, Михаил Петрович? Может, это не глупость, а измена?» – хотелось спросить его. И он понимал, что́ это за слепота, и я смолчал: не хотел причинять ему боль…
За что били его? За ответственное напоминание всем о том, что именно здесь, в России, главное-то в мировой истории как раз и свершается. Что «Дух» и «Духовность» – не фикции, не некая безгласная субстанция, а самая насущная реальность. Докладные записки на Лобанова, как много их было в его жизни… Писали чиновники, писали и жаловались коллеги-преподаватели. Случалось, даже и «ученики» писали доносы. Как многое мы забыли, как много всего «простили» так легкодумно и доверчиво… Космополиты гнали его, русского, за русскость, при этом сами никогда не бедствовали. «Перестроились» очень быстро, почти мгновенно, и мстили патриоту, да ещё и партийному. Лобанов вступил в партию в 1954-м. И не скрывал этого, не стыдился, не жёг партбилет на телевидении. Всегда был собой, вызывая огонь на себя, – даже не на «батарею» свою, тушинскую, не на соратников и друзей, – а на самого себя прежде всего, и осознанно. Очень сожалел, что сняли главреда «Волги» Николая Палькина, где и поместил Палькин его «скандальную» статью, всю жизнь жалел. «Волга» – журнал, который стал знаменит лобановским «Освобождением». «Вишневый омут», роман Михаила Алексеева: жгут сады… И вот – его же «Драчуны». И Лобанов не может не отозваться на народную беду. Он пишет про раскулачивание. И опять накинулись!..
Проханов рассказывал, как «АНЯ» (партийная кличка А.Н. Яковлева), – приобняв однажды, пытался, картаво выкатывая слова и иронизируя по поводу убеждений, – перевербовать его, Проханова А.А., в «демократы»… Лобанову он не рискнул бы даже намекнуть про этакое, не то что предложить такую «новую» доктрину и тактику, никогда не решился бы, знал: неподкупный русак не стерпит и двух слов намеченной «перевербовки». Ответ был бы слишком очевиден, предсказуем. Лобанова с подачи Яковлева и по велению Андропова вызывали на Лубянку. Он рассказывал: «Вошёл в проходную. Сдал паспорт, получил пропуск и пошутил, сказав прапорщикам у телефона: «К вам вход копейка, выход рубль». Но кагэбэшник-комендант так взглянул на него, что шутка повисла в воздухе. Зайдя в каменный мешок, как в западню, он не верил уже, что выйдет оттуда…
«Таскали» на Лубянку и священника о. Дмитрия Дудко, который позже приходил к нам на семинары. Невысокий, необычайной крепости и фонтанирующий энергией священник. Вошёл в аудиторию второго этажа (лобановскую аудиторию) батюшка Дмитрий в широкой – «в пол» – епитрахили. Семинар в тот день первой нашей встречи длился часа четыре… О. Дмитрий пытливо и молодо переходил, почти перебегал от парты к парте к каждому студенту. Каждого спрашивал сам и отвечал на вопросы с шутками-прибаутками, отвечал экспромт-афоризмами, чем всех нас сразу и совершенно очаровал. Вразумлял нас, молодых остолопов… Реагировал мгновенно. Это в его-то годы, которые принято называть «преклонными»!
Михаил Петрович однажды рассказывал, как в конце восьмидесятых годов оказался с выпускником своего семинара Женей Булиным (ныне протоиерей отец Евгений – настоятель храма Михаила Архангела в селе Загорново в Подмосковье) и Николаем Тетеновым из США в подмосковном Черкизово, где служил в храме и проводил беседы с молодыми прихожанами священник Дмитрий Дудко. «Устали в тот день смертельно, – рассказывал Михаил Петрович. – После долгого ночного разговора лёг я на диван в небольшой комнатке батюшки, за тонкой дощатой переборкой, отделявшей нас. Так устали от переездов и выступлений, – словом, «вряд до места», как говорят рязанские, до кровати добраться бы… Проснулся вдруг от какого-то еле уловимого движения, шёпота. Отец Дмитрий подождал, пока все заснут, утомлённые заботами и хлопотами дня, встал и – тайно молится, молится, молится…»
Затем я прочитал об этом эпизоде в его книге «Твердыня духа». И здесь он уже не говорит про усталость. Сколько скромности в этом эпизоде о «недосягаемости» священника, который по рукоположению и ответственности перед Богом – не ро́вня нам, мирянам, в духовном надмирном плане. Священник, который, молясь, как бы перемещается в высшие сферы – в сферы Духа. Как непритворно уважал он сан иерейский, монашество, благоговел перед подлинным старчеством!.. И как чужд был сам всякой гордыни, превозношения. Вот эти строки – и его сосредоточенная «внутренняя» сокровенная интонация, которую, конечно, почувствует и читатель: «Уже в конце восьмидесятых годов мы втроём – выпускник Литературного института Женя Булин (ныне отец Евгений), Николай Тетенов из США, редактор журнала «Русское самосознание», и я приехали в подмосковное Черкизово, где служил в храме о. Димитрий Дудко. После вечернего Богослужения, трапезы с участием большой группы молодёжи – духовных детей батюшки – мы отправились на ночлег. Я лежал на диване, а за перегородкой стоял отец Димитрий и полушёпотом читал молитвы. Днём мы прогуливались с ним по берегу Москвы-реки, удивительно широкой здесь, разговаривали на разные мирские темы. Для меня он был Дмитрием Сергеевичем, чуть ли не коллегой по литературе. И вот теперь, слушая за перегородкой молитвы отца Димитрия, я почувствовал недосягаемость его для меня, и все наши недавние дневные разговоры были как будто с другим человеком. Было уже за полночь, глаза мои слипались, одолевал сон, я со всё меньшим вниманием прислушивался, а он всё молился, молился, молился…» («Твердыня духа», с. 940). О. Дмитрий Дудко – о М.П. Лобанове, о 60-70-х – нач. 80-х гг.: «Я Лобанова давно уже заметил по его произведениям, они мне очень нравились, были удивительно духовны. Как он всё хорошо понимал в безбожный период в нашей стране и безбоязненно обо всём говорил. Его статья «Освобождение» наделала большой переполох. Лобанова наказали. Вот они герои, а всё выставляют кого-то, кто им и в подмётки не годится. Мучаются другие, а лавры пожинает кто-то, но забывают враги, что есть Промысл Божий, есть Грозный Судия, по выражению Лермонтова: «Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не поможет вновь». Я почувствовал в Лобанове по духу сродное мне» (Священник Дмитрий Дудко. «Шторм или пристань?». М., 2001)… И вот от быта – мы, ученики – бежали к Лобанову, в духовную баню, повторюсь. Именно так. Порой жёсткую, с переменой полюсов и смыслов. Затем мгновения милосердия – зарницы. Как редко, как горестно редко радуют эти всполохи-зарницы! Приоткрывая другой мир – настоящий, подлинный, который мы, простые смертные, видим «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно».
Творческий конкурс в Литинститут в 1991-м был, к моему удивлению, пройден мной сразу на два потока: к Евгению Сидорову на критику и к Лобанову на прозу. Собеседование было последним из пяти. И решающим – мастер сам отбирал учеников.
«…Так у кого же ты желаешь учиться?» – был задан мне вопрос на этом главном и последнем экзамене-собеседовании. (По результатам творческого конкурса и этого последнего экзамена преподаватели, включая «оппонентов», пытливо присматривались к каждому абитуриенту). В ту пору литература и сами писатели были в большой цене. Писатели были интересны, ценимы, уважаемы. Они задавали тон и направление мысли. К ним прислушивались, на них настраивались. А.Б. Чаковский – даже и тот собирал огромные залы. Теперь его вряд ли кто вспомнит, а тогда… Пройдя творческий конкурс, сдав экзамены, я задумался. А подумать было о чём. Вспомнил «синтез», синтетику Евгения Сидорова и его разрекламированные дружеские связи с Евтушенко и иже с ним, книги его (какое-то многословие) от которых в душе ничего не осталось. И полнокровные, полные энергии и жизни книги Лобанова. Конечно, я мечтал печататься. И ясно было, что Сидоров (в случае поступления к нему) может открыть широкие врата в издательства. Но не станут ли эти врата «вратами адовыми» – читай «либеральными»? А Лобанов? Лобанов научит писать. И тебя не напечатают, наверное… И, конечно, ты будешь сам биться в редакции, потому что такому человеку не скажешь: помоги, устрой рукопись!..
– У Лобанова. Только у Лобанова, – ответствовал я приёмной комиссии.
«Оппоненты» Мариэтта Чудакова и Анатолий Приставкин недовольно переглянулись, заёрзали за широким столом, крытым зелёным сукном:
– А почему?
– Я хочу быть плотником, учеником плотника (я намекал на Писание).
– А столяром? – парировал Приставкин.
– Столяр – нечто иное. Не о столярном рубанке и клее речь…
И я увидел, как он, Михаил Петрович Лобанов, сидя с краю и улыбаясь, подмигивает мне, но так, чтобы никто не мог увидеть, тем глазом в проф́ иль, который обращён ко мне, с моей стороны, и так скрыто-задорно, что и мне самому стало весело. Подмигнул мне – ободрить, чтобы никто не заметил… Было в этом нечто от пушкинской шутки и от есенинского озорства. Излучалась забота отцовская от забавного подмигивания в самую нужную минуту. Теперь-то понимаю, что я (по молодости) заметно волновался перед столь представительной комиссией, в которой не знал и половины докторов наук и профессоров, и запомнил его, Лобанова, заключительные слова, сразу снявшие напряжение:
– Хороший плотник – он же и столяр. И критику не оставим, и прозу подтянем. Берём!..
Он учил, что литература – не забава, а сама жизнь. Точнее, ток этой жизни, её кровь – Литература (именно так, с большой буквы). Не игра в «сюр-» и «пост-». А поиск самого фермента – тонкое наблюдение, способность убеждать образами, которые (в отличие от журналистики) остаются на века. Литература – то, на чём воспитываются поколения, как на любимом романе «Тихий Дон». Не случайно он и перед самым своим уходом вернулся именно к этой книге. Отними у нас классику: музыку Свиридова и Рахманинова, поэзию Пушкина и Лермонтова, прозу Толстого и Достоевского – и мы нищие, не великая нация. Не оттого ли немцы и американцы рассеивают по всему миру – как клён канадский по ветру пускает семена, как борщевик – свои языковые центры, «Гёте-институты», «Американские центры», «Американские клубы образования», «Центры английского языка», «BKC-international House», «Языковой центр Cherrylane» и прочие; перековывают в свою «веру», добиваются порою не только лояльности, а через гранты – прямо-таки поклонения своей культуре?.. И здесь необходимо отметить усердие иностранцев, внимание к литераторам из России, – понимают, кто и как именно сможет повлиять на сверстников, кто привезёт впечатления и укрепит влияние их культуры на русский «общинный менталитет».
В связи с такого рода влиянием Нового и Старого света на молодёжь вспоминается, как однажды наш учитель пришёл на семинар, был чернее тучи. Из лазарета больничного он ушёл, ни у кого не спрашивая разрешения. Было так. Семинар наш, намеченный на ближайший вторник, – накануне отменили, случай – редчайший. Лобанов был во вторник всегда. Вёл семинары, что называется, «без дураков», и, приди я один или любой из нас вместо двадцати учеников, – он и для одного вёл бы урок, не отпустил бы. Два-три часа, по обыкновению своему, он вёл бы семинар по мастерству так же пристально, не считаясь со своим временем. И вот – вдруг семинар отменён, что такое!.. И случилась отмена в канун дня и ночи расстрелов октября 1993-го. Мобильных телефонов тогда не было, а оповещали студенты друг друга – по стационарным – тем примитивным, дисковым, что работали на проводе (да и те не у каждого были, «сарафанное радио» дополняло недостаток аппаратуры). И вот известие горькое: Михаил Петрович лежит в клинике с серьёзным диагнозом. Рецидив, обострение болезни поражённого лёгкого с тех ещё, давних ростовских времён, боль застарелая, хроническая… Лёгкие, альвеолы повреждены, донимает кашель, слабость. Он периодически проходил обследование, но тут открывшиеся каверны принудили к стационару. Конец сентября – снова затемнение, воспаление плевры. И вот – атака на «Белый дом» – и объявление из деканата: «Лобановцам-семинаристам срочно собраться во вторник на семинар. Непременно». Конечно, светлая радость сначала: «…значит, подлечили, значит, здоров?..».
И вот вошёл. Высокий. Голова по обыкновению чуть закинута назад, по-монашески космат, седовато-рус. Но в тот день более обычного закинута назад голова, прямая спина, что значило: он внутренне напряжён. Повесил гороховый плащик на вешалку в аудитории. «Все собрались?» – «Все». И вдруг – вскинув брови, стоя: «Стрельба. В столице! И это – в самом центре Европы! В Москве!.. По своим. По народу!.. Что это? – взволнованно говорил он нам. – Какой позор на весь мир! Как в какой-нибудь Замбии или Бангладеш! Что происходит?!»
Оказалось, как мы узнали впоследствии, что там, в больнице, куда нередко ложился и подлечивал лёгкие от последствий туберкулёза ещё с Ростова (переросшего в хроническое недомогание, мучившее его постоянно), – он по окончании процедур вышел в холл. Больные любовались телевизором. В общем зале клиники на этот раз – скопище. В стационаре смотрели «Новости», против «рецепшена» висел телевизор. Он смотрел и никак не мог понять, отказывался верить, что это будни Москвы октября 1993-го. Принял «Новости» за художественную картину какого-то умельца из новомодных. Такие вставки бывают: режиссёры, ничтоже сумняшеся, не смущаясь ничуть, смешивают будни с фантастикой и в «тело» сценария вставляют нечто фантастическое вроде прибытия инопланетян и внезапной войны с ними. В тот же день он покинул больницу, не долечившись. Просто ушёл, кашляя и задыхаясь. Он и с нами говорил в тот день, подкашливая, бледный, даже серый лицом. Но об этом его «побеге», повторяю, мы узнали лишь спустя годы после стрельбы по Дому Советов (он не переносил слов «Белый дом» – этакого реверанса Америке). И я сам через годы снова с благодарностью ему вспоминаю об этом.
И здесь он весь: ушёл из клиники, не завершив поправку своего здоровья, чтобы успокоить нас, своих учеников, по-отцовски или даже по-матерински, чтобы объяснить ситуацию так, как он её видел. Собрал нас, как собрала бы птица в своё гнездо птенцов, чтобы сберечь от опасности.
И при всём сказанном – удивительно: не все его студенты разделяли его убеждения. Даже не так: разделяли – но не многие, как я теперь понимаю, верно оценивали только избранные. Не всё бывало гладко и в преподавании. Произносились, слышались порой и провокационные реплики от студентов-кретинов. И как же было стыдно за вопрошающих, за эти вопросы-ремарки «с подтекстом»! И жаль было его, когда он отвечал им, порой смущённо (на нелепый вопрос от «младо-либерала», ученика), но всегда – пояснял взвешенно, доходчиво, корректно, явно жалея самолюбие вопрошавшего, которого и самого за бестактный его вопрос мы, молодые тогда и жадные до истины, могли поднять на смех всей аудиторией. Понятно, Лобанов мог так ответить – отбрить так, что только держись. Но нет, не уничтожал, не унижал, и понятно, ведь тогда осмеянный собеседник-ученик был бы взбешён, затаил бы ярость и носил бы камень за пазухой. Михаил Петрович вообще никогда не довлел, никого не давил, «не нависал», не навязывал своего мнения. Каждый шёл своим путём…
Никогда не было и любимчиков у него, как и нелюбимых. Его, будто бы, упрекают порой в антисемитизме. Это от незнания самой лобановской сути и мирови́дения его. У нас на семинаре учился шесть лет Игорь Кецельман, приезжал из подмосковного города Пушкино. И ни разу не было сказано ничего обидного, что смутило или задело бы его хоть мало-мальски. Только раз Кецельман что-то «заподозрил», да и то – нашёл с чьей-то лукавой подачи, верно, – с домыслов неких подозрительных юнцов безусых – упрёк в адрес корневого русского писателя, прошедшего войну, – нечто в давней полемической периодике 1970-х годов, а вовсе не в обсуждении, не на нашем семинаре. Игорь благополучно окончил Литинститут, защитился уверенно качественно созданными рассказами о московском зоопарке, где работал по окончании биофака института. Впоследствии печатался в журнале «Октябрь», в журнале «Подъём», в других журналах. Мы были дружны с Игорем, и это только один из многих, которого я знал. А сколько прошло таких ребят за его, Лобанова, более чем полувековой стаж преподавания…
«За всю жизнь мне так и не пришлось встретить человека, который с таким чутким вниманием, граничащим с отцовской любовью, относился бы к творчеству своих подопечных. Для него все мы, невзирая на лица и возраст, национальность, убеждения и на меру таланта, были учениками, его студентами, по-родственному близкими, за которых – и это ощущал каждый – он нёс какую-то высшую ответственность, своим собственным примером являя нам исполнение нравственного закона. В то безбожное, полное политического лицемерия время он был для нас евангельским самарянином, который врачевал наши души, возливая на немощи наши «вино и елей» мудрости и любви», – прочитал недавно я в журнале «Славянка» (2018, № 1) эти слова выпускника семинара Михаила Петровича 1980-х годов Сергея Тимченко из его статьи «Лобановская твердь» – предисловия главного редактора к открывавшейся в журнале новой рубрике «Лобановские чтения». Именно! Как это верно! М.П. нёс какую-то высшую ответственность, всем примером своим являя исполнение «нравственного закона» – как это точно сказано. Мудрость и такт Лобанова были как будто не от мира сего.
А вот как свидетельствует об этой высшей ответственности наставника еще один выпускник Литинститута тех же 80-х годов, ныне протоиерей, известный писатель Владимир Чугунов, а тогда вольнослушатель, посещавший семинары Лобанова (о чём он рассказал подробно, в частности, в своём недавнем романе «Причастие». – См.: Чугунов В.А. Причастие, роман. Нижний Новгород, изд-во «Родное пепелище», 2017). Он вспоминает поразительный факт – историю, связанную с церковностью их, студентов (во времена государственного атеизма), тех, которых Михаил Петрович буквально спас от отчисления: «Хождение в церковь чуть не обернулась нашей троице исключением из Литинститута. Как узнал позже, по просьбе М. П. Лобанова он (ректор Литинститута В. К. Егоров – В.К.) обратился к своим бывшим коллегам из ЦК ВЛКСМ, те к коллегам из КГБ и кампанию прекратили, а уж казалось бы, всё» (Владимир Чугунов. «Преодоление неофитствующего максимализма» // Литературная Россия. 04.04.2014). Ещё одним из этой «троицы», добавим, был вышеназванный лобановский «семинарист» Геннадий Рязанцев, ныне – протоиерей (см. об этом: Рязанцев-Седогин Г.Н. «Приметы памяти сердечной» // Литературная газета. 2017, № 1–2. С. 8; В Божественном молчании. М., 2017. С. 139–152).
…И вот – Екшур, и Дом культуры в его родовом селе, наконец-то признание. Неужели что-то меняется? Неужели мы выбираемся, выходим, выдираем ноги из этого (более тридцати лет) сдерживающего нас болота невежества и халтуры? И как всё-таки поздно. Но попытки выдраться были и раньше. Я знаю, что сам Президент поздравил его, Михаила Петровича, с девяностолетием. А, прислав поздравительное письмо, сразу после этого – вылетел в Екатеринбург открывать «Ельцин-центр»… Да, ещё и «награда» к этому юбилею (при полном молчании официозных СМИ) – русскому писателю, фронтовику-орденоносцу – казённый чайный сервиз с гербами. И это при том, что орденами «За заслуги перед Отечеством» награждали гитаристов, открыто исповедовавших «дзен-буддизм», и атеиста, который собирал барыши в свой карман со сцены опять-таки под гитарку и всё «искал свою синюю птицу удачи», награждали и автора блатняка тем же орденом… Поразительно. А М.П. Лобанов, фронтовик, инвалид войны, преподаватель, профессор, автор многих книг, и каких книг, не достоин правительственной награды? (Знаю, пылился сей дар «данайцев» у него за городом и по сей день не распакован, ожидает решения своей участи, в лучшем случае – отправки в будущий краеведческий музей на родине М.П. Лобанова)…
Из замечаний к последней книге Лобанова «Убеждение»: «Меня, фронтовика, участника битвы на Курской дуге, могли поддержать на склоне лет, как это делают для своих ветеранов-шестидесятников, либералов <…> Ко мне же никакого внимания; написанные мною за последние 9 лет 10 книг (в том числе главные для меня – «Твердыня духа» и «В шесть часов вечера каждый вторник») не были отмечены ни одной премией» (правительственной). – Вот как сказал о. Фёдор, монах Свято-Троицкого Александра-Свирского мужского монастыря, молитвенник Русской Православной Церкви, старец теперь, а в прошлом – выпускник Лобанова писатель Юрий Пономарёв, духовная связь с которым сохранялась десятилетия до самого ухода учителя «в мир иной»: «Горько было слышать, что смерть, уход из земной жизни выдающегося русского писателя и мыслителя, фронтовика-орденоносца была обозначена тенденциозным замалчиванием, глушением бесстыдным его имени официозными СМИ (которые в то же самое время демонстрировали, как президент обнимал, поздравлял с каким-то юбилеем некого комика). Как будто можно вырезать из истории России имя одного из лучших, самых верных её сынов». «Слово об учителе, наставнике, друге», воспоминания монаха о. Феодора о Лобанове дорогого стоят, а переписка-разговор их, верующих православных писателей, двух недюжинных умов и характеров, была опубликована в книгах М.П. и озаглавлена так: «Дорогой отец Феодор!». «Приеду из Екшура, обязательно перечитаю, – думал я, – так тонко о самом насущном, существенном мало кто сказал…»
…Тайна жизни всякого человека «велика есть». А тайна Михаила Петровича Лобанова – втройне. Всё пытаюсь найти, объяснить себе, в чём кроется тайна его? В тяжкой ли боли от болезней, в последствиях военного ранения? В старчестве ли его… Или в тяжёлых муках и размышлениях о будущем России, развале СССР, который он переживал тяжелее всякой болезни, даже страшнее мучившего его всю жизнь, так и не залеченного до полного выздоровления туберкулёза. Откуда ему этот дар и это наказание – боль русской души за весь род людской, и за свой народ в особенности? Это «Мужество человечности» (по названию одной из первых его книг). Эти мука и благодать, ему посланные несомненно свыше, как они нашли именно его? Что это, избранничество?.. За трудно и тяжело прожитую жизнь, за ту тоску вселенского одиночества – и в молодости, когда «не было сил пройти от стены до стены» в съёмной ростовской квартирке, – дистанция длиною в долгую-долгую жизнь. И – вдруг озарение Благодати, как признавался он: «нестерпимая любовь, жалость и нежность» посетили. Отсюда – и «Твердыня духа», отсюда – и «В сражении и любви», и его «Страницы памятного»…
Добавить хочется, конечно, ещё о «мужестве человечности» его, как я попробовал сказать прежде в этой статье, – о нравственной стойкости, духовной крепости его, без которых боль его всегдашняя русская не стала бы деянием, деятельной жизненной позицией…
Бессребреник, избранник Божий – именно через страдания. Его сила, его корневая система любви и веры помогли ему вынести то, нестерпимое порой, что творилось и со страной, и с отдельными людьми. Выдержать то, чего иные и не поняли, и не приняли, и не смогли бы понести. Или – протерпели бы, как терпит растение или животное… Он «переплавил» в духовное – боль свою и жажду счастья родине. Цель литературы, по его словам, цель писательства и смысл писательства – за бытом отыскать Бытиё. То, ради чего стоит жить.
И вот – четверть века после той пресловутой «перестройки»… Сколько труда, чтобы учеников вытащить и образовать. Не «образованцами» отпустить в жизнь, не «просвещёнными мещанами», а людьми вполне определившимися – «со стержнем». Скольких он вывел словно из-под огня, как из фронтового окружения, сохранив и знамя, славу и честь. Сколько их было, спасённых им душ, за пятьдесят один год его преподавания в Литинституте. Из того страшного времени «озверения», из кольца воинствующей пошлости, из кольца кричащего материализма он вывел нас за плечи, под руки. Никто не сел «на ки́чу», не попал на зону (даже в то время), никто не опозорился как бессовестный рвач (по крайней мере, я не знаю таких примеров). А кто не научился писать – и тот не пропал, получил от него страховку и опору. Порукой тому – одно из последних его интервью с крепким и недвусмысленным названием: «Наш народ попал в талмудистскую западню» (газета «Русский вестник», № 5 за 2015 год – отрывок из большого интервью выдающегося писателя). Поистине, «ума холодные размышления и сердца горестные заметы».
…Иногда живу так, как жил он. Точнее, пробую так жить, чтобы не было бы стыдно и впоследствии никогда за свои поступки. Пытаюсь видеть и слышать его – «за» и «по ту сторону» жизни земной, которая вся (повторю ещё раз слово апостола) – проходит как «сквозь тусклое стекло, гадательно». Пытаюсь отыскивать следы невидимые уже в мире этом и нахожу мир (невидимый, сокровенный, который значительней видимого, если говорить словом Лобанова), как умел видеть только он. Пытаюсь направить взор в даль духовную, чтобы годы радовало содеянное, – чтобы, совершив тот или иной поступок в жизни или в убогом писании своём, противостоять преградам – «внутренним и внешним» (напомню, что именно так и называется одна из его книг: «Внутреннее и внешнее», где он утверждает, что духовное очевиднее внешнего, видимого этого мира «данного нам в ощущении») – пытаюсь жить, сопротивляясь конформизму, плесени бытийной, духовной лени, искусам, через которые суждено пройти каждому из нас, и в большом и в малом. И думается тогда: если здесь и сейчас я поступлю именно так, а не иначе, то – одобрил бы меня Лобанов?
…И как же трудно жить вразрез с компромиссами!.. Тогда и не жизнь мирская уже – а подлинно Предстояние, служение начинается, самая, похоже, окопная, земляная правда под высоким небом, под звёздами озаряет до дрожи, как сигнальные ракеты над минным полем… И нет укрытия ни от одной мысли, ни от одного деяния, ни от одного движения души «вхолостую». Весь ты тогда – на сквозняке, на ветру, на морозе. Очень непросто жить так, даже если – только временами спохватываешься. В этом вечном движении и кружении жизни забываешь и отпускаешь момент (так монах порой забывает о чётках). И сложно, как же архисложно жить не минутными потребностями, а – вечностью, дыханием вечности. Если сравнить – то единственно со стоянием в морозную ночь на камне, когда «молишься, молишься, молишься»… Не отпускают обязанности, привязанности, долги, дела. А как же он? А он?.. А он – жил так всегда.
2020–2021
«Украденный» Чехов, или обещанного двести лет ждут
О Чехове, и не только
Тончайший, чуткий, деликатный, необычайно работоспособный – все эти эпитеты применимы к А.П. Чехову, и, конечно, сопутствуют ему и в жизни, и в литературе. А пошлость – он не переносил органически, ни в какой форме, ни бытийно, ни «книжно». Жёсткая цензура и отбор – присущи Чехову как никакому другому писателю. И при всём при том – какая трудоспособность: более полутысячи коротких рассказов, которые настолько разносторонни, всеохватны и разнотемьем не уступают лучшим образцам классических глубоких романов. Пьесы, очерки и зарисовки, письма и дневники… Быть простым, лаконичным и в то же время и щедрым, и отзывчивым – сложно необыкновенно. Антон Павлович в этом отношении – пример редчайший.
Сколько и иных лестных прилагательных можно подобрать для А.П., присущих именно ему и только ему. Изящество его, чуткость и даже нежность – всё это отмечал особой метой даже наблюдательный, нередко язвительный И.А. Бунин. А.И. Куприн «…к любви и нежной печали» обратил читателя в очерке «Памяти Чехова» (воспоминания). «Неутолимая тоска» об ушедшем писателе редчайших даров, ироничном и сердечном одновременно сквозит в этих воспоминаниях отнюдь не сентиментального жилистого силача.
А начинал А.П. с шуточных заметок, с пустяков, с юмора – того самого юмора, который искромётно редок. Начинал легко и напряжённо, много работая. Кормил семью с гонораров, как мог. И псевдонимы: «Антоша Чехонте», а до того: «Брат моего брата», «Человек без селезёнки» (видимо, по присловию, что-де – так уж смешно, что, читая и смеясь, и селезёнку порвёшь). «Юный старец», «Антип Индейкин» и прочие, и прочие. Да и названия журналов, в которых он начал печататься не менее забористые: «Стрекоза», «Зритель», «Будильник», «Мирской толк». Первая книга его вышла в 1884 году и называлась «Сказки Мельпомены». Удивительно, как из того мелкотемья, на которое он был, казалось бы, обречён, Чехов перерос к прозе с подтекстами. Их домысливаешь не то что часами или днями, а – и годы даже…
Удивляет, когда слышишь, что (будто бы) общеизвестно и стало даже общим местом, что Чехов не состоялся как романист. В вину нельзя ему поставить и этого «не состоялся», а по каким, собственно, меркам он не романист? И весь очерк, начатый с этих строк о творчестве упомянутого писателя, – посвящается обоснованию: можно ли и впрямь на деле согласиться с таким спорным утверждением.
Сам писатель с сожалением неоднократно отмечал этот «недостаток», некую неполноценность свою как художника и драматурга и именно в таком ключе и с грустью даже в беседах с литераторами. У А.П. было, если так можно сказать, «прерывистое дыхание». Он так умел отделывать свои рассказы и повести, пьесы, доводил до совершенства форму так, что если прочитал единожды, вряд ли забудешь «Иону» или «Студента», или «Дуэ́ль» – их невозможно пересказать, и всё же кроме общих замечаний и впечатлений выносишь и многое иное. Они как бы даже вовсе бессюжетны, как (например) многие поздние «Стихотворения в прозе» – у того же И.С. Тургенева. Но влияние этих шедевров на душу читателя невозможно переоценить. И – ещё «одинокость» А.П., – и она тоже только от великого сердца. Не одиночество, а именно одинокость умного и доброго, «погружённого» в страдания, сочувствие ближнему – человека видишь отчётливо прежде всего. Сострадательное начало, самое острое и деятельное, – мешало, скорее всего, «замахнуться на большую форму». Так ли это, мы не знаем и не узнаем теперь никогда. Чахотка, и при ней горькая ирония стоика и трагика, знающего цену жизни, – это ли в добавление ко всему сказанному прежде не позволяло доделать, довершить начатые ранее романы…
В большом по объёму, и это не секрет, произведении – приходится многое додумывать на ходу и по-хорошему, по-писательски «врать». (Правда искусства в романе важнее правды жизни. Писатель в своём романе создаёт свой собственный мир и для того, чтобы книга была интересной, принуждает и даже навязывает своё мировоззрение. Чехов был органически ненавязчив). Романист – образчик романиста всегда противоречив. Например: отяжелевший от постоянной и безвылазной работы Оноре де Бальзак, ценивший своё «де Бальзак» необыкновенно, до болезненности. «Де» – которого добивался и добился только под занавес самой жизни. Он, «Оноре де», вечно и тщательно прятавший свою роскошь от кредиторов и в пятьдесят влюбившийся без памяти в Ганскую, – вот пример истого «романиста». Романист и Гюстав Флобер, страдающий до сердечных болей от …страха облысеть, и мятущийся Горький…
Романист – это (в лучшем случае) страстный игрок «по жизни», даже и такого уровня, как Ф.М. Достоевский, не раз женившийся, всегда тревожный до предела. Романист – и М.А. Шолохов, который всегда был в первых рядах самого существа бытия и происходящего вокруг – и в продразвёрстках, и в агитации, и в собраниях писателей, и по охоте на дроф. И Л.Н. Толстой, и А.Н. Толстой – романисты, без сомнения.
Причуды писателей-романистов связаны с состоянием их душ. Романисты – едва ли не все без исключений жизнелюбы, желавшие жить долго и (главное) много иметь в смысле материальном. Вспомним: таковы и всё тот же А.Н. Толстой («красный граф»), и А.И. Куприн… Романиста отличают величайшие страсти, ёмкие желания и безудержность, ненасытность. Романист – точно конденсатор переменного тока в цепи, он много накапливает энергии и много выбрасывает… Чехов – совсем иное дело. Вот что написал он, тогда ещё двадцатишестилетний, брату Николаю, а по сути – напомнил всем нам, грешным, о вечном. И тут главное увидеть, почувствовать бесстрастие. И даже и нам, а, быть может, и нам особенно: на примере его слов – научиться независимости от страстей, и это ключевое понимание творчества писателя. Читать нам и не перечитать, и помнить бы всегда письмо-завещание…
Вот оно: «Маленький Забелин![5]Мне передавали, что ты оскорблён моими и шехтелевскими насмешками… Способность оскорбляться есть достояние только душ благородных, но, тем не менее, если можно смеяться над Иваненко, надо мной, над Мишкой, над Неллей, то почему же нельзя смеяться над тобой? Это несправедливо… Впрочем, если ты не шутишь и в самом деле чувствуешь себя оскорблённым, то спешу извиниться. Смеются только над тем, что смешно, или чего не понимают… Выбирай любое из двух. Второе, конечно, более лестно, но – увы! – для меня лично ты не составляешь загадки. Нетрудно понять человека, с которым делил сладость татарских шапок, Вучины, латыни и, наконец, московского жития. И к тому же твоя жизнь есть нечто такое психологически несложное, что понятна даже не бывшим в семинарии.
Буду из уважения к тебе откровенен. Ты сердишься, оскорблён… но дело не в насмешках и не в благодушно болтающем Долгове… Дело в том, что ты сам, как порядочный человек, чувствуешь себя на ложной почве; а кто мнит себя виноватым, тот всегда ищет себе оправдание извне: пьяница ссылается на горе, Путята на цензуру, убегающий с Якиманки ради блуда – ссылается на холод в зале, на насмешки и проч. Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканьи и проч. Это естественно и извинительно. Такова уж натура человеческая. А что ты чувствуешь себя на ложной почве, это тоже верно, иначе бы я не называл тебя порядочным человеком. Пропадёт порядочность – ну, тогда другое дело: помиришься и перестанешь чувствовать ложь…
Что ты для меня не составляешь загадки, что бываешь иногда варварски смешон, тоже верно. Ведь ты простой смертный, а все мы, смертные, загадочны только тогда, когда глупы и смешны в течение 48 недель в году… не правда ли?
Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались… Жаловался только Христос, но Тот говорил не о Своём «я», а о Своём учении… Тебя отлично понимают… Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других…
Уверяю тебя, что, как брат и близкий тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую… Все твои хорошие качества я знаю, как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, незлопамятен, доверчив… Ты одарён свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 000 000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается.
Недостаток же у тебя только один. В нём и твоя ложная почва, и твоё горе, и твой катар кишок. Это – твоя крайняя невоспитанность. Извини пожалуйста, но veritas magis amicitiae[6].
Дело в том, что жизнь имеет свои условия… Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным… Талант занёс тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но… тебя тянет от неё, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами vis-a-vis. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах у рейнского погреба, на подачках. Победить её трудно, ужасно трудно.
Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:
1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних…
2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Пётр знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и наплюёт на водку. Они ночей не спят, чтобы помогать Полеваевым, платить за братьев-студентов, одевать мать.
3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.
5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету! Я […]!..», потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво…
6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства со знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако, восторг встречного в Salon’e, известность по портерным… Они смеются над фразой: «Я представитель печати!», которая к лицу только Родзевичам и Левенбергам. Делая на грош, они не носятся с своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили… Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки… Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную…
7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… Они горды своим талантом. Так, они не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы…
8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот, […] не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали… Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не […], а матерью… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только когда свободны, при случае… Ибо им нужен mens sana in corpore sano («в здоровом теле здоровый дух». – В.К.).
И т. д. Таковы воспитанные… Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить монолог из Фауста. Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда… Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час… Поездки на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть… Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать… хотя бы Тургенева, которого ты не читал…
[…] самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький… 30 лет скоро! Пора! Жду… Все мы ждём…»[7].
И здесь, в письме к брату, мы видим прежде всего всяческое «бегание» даже и молодого ещё А.П. Чехова – страстей. Страсти, по святым отцам – суть бесы. Чтобы с увлечением писать 500 страниц (роман) на одну тему, необходима и́стая страстность души. Чехов-писатель – вечный холостяк, и даже женившись, всем бытием своим он уходил от привязанностей, жил в одиночестве в Ялте, ибо видел в привязанности несвободу. Не здесь ли подлинно ключ к пониманию короткого дыхания его – А.П. – эпически такого непростого, сложного и «сла́женного» из коротких рассказов и из небольших повестей: высшая ценность – для него в обуздании себя самого. «Победа из побед – победа над собой», – говорят и повторяют верные Русской православной церкви, и весьма точно. Вот и его, А.П., представление, вернее, одна из важнейших черт его характера, и которые он видел и у людей воспитанных: «Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. …Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» Или: «Я разменялся на мелкую монету!»…, потому что всё это бьёт на дешёвый эффект, пошло, старо, фальшиво. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили».
Сравним эти строки (по внутренней убеждённости) со строками того же Бабеля, Куприна, Гиляровского (хотя бы). И что же мы получим? Тихое пристанище и сокровенную душу.
У него с охотой бывали многие писатели, даже опять-таки саркастичный и «всё ещё ядовитый» (как он сам о себе говорил) И.А. Бунин. Чехов, говоривший «низким грудным голосом», – весь и всегда в себе, в работе, чужд позы и всего показного, внешнего. Он был всю жизнь несчастлив, но не искал ни «счастия», ни «бурь среди лазури». Опасался даже известности, как фальши. О модернистах, о том же «экспрессионисте» Л. Андрееве отзывался со смехом так: «Прочитаю две страницы, нужно час гулять по свежему воздуху» (Бунин И.А. Очерк «Чехов»). И всё же некая недосказанность – мощным подтекстом – чувствуется и в прозе его, и в драматургии (особенно), и в самой жизни, в бытовании его в среде актёров, писателей и читающей публики. Недоговорённость о многом и многом – та самая недосказанность, которая могла бы вылиться в роман… Кажется порой, что и невозможность договорить так, чтобы все услышали, – тоже беспокоила его до конца дней. (И с возрастом, конечно, ещё острее, чем в начале творческого пути). Все пьесы его основаны на этой самой недосказанности, недоговорённости, – все они на полутонах, на «доживании» с автором за пределами сцен.
…Есть пословица: «сто белых кроликов никогда не составят одной белой лошади». Применима ли эта пословица к литературной работе? Составят ли сто рассказов по значимости общей – один роман?
Или всё так же «непоправимо» и здесь, и – сто прекрасных рассказов сами по себе никогда не дотянут до хорошего романа? А между тем известно, что написать рассказ – необходима высшая степень мастерства. Тут писатель весь открыт, мастерство прозрачно. В рассказе – не скроешь своей внутренней сути – и ни за словеса, ни за фразу, ни за мудрование не спрячешься.
Известно, что А.П. несколько раз приступал к форме крупной, предполагал большие формы к написанию, но больной кровохарканием, мучаясь от болезни лёгких, так и не осуществил мечты. Быть может, попросту не успел. Ради «большой формы» – (всё же) он решился на поездку на остров Сахалин (и не отменил путешествие даже накануне рецидива наследственно укоренённой хворо́бы). И всё – единственно только из-за мечты-тоски по роману. Как ни уговаривали его отречься от задуманного и заявленного им «романа о Сахалине», он не отступал. Был уверен, что привезёт из поездки именно произведение большой формы, роман. И не один роман. Сколько собрано было материала, сколько карточек-биографий будущих персонажей скопил он там, на острове, по биографиям каторжников.
«Писателя ставит роман» – известная формулировка. И доро́га редких больших писателей: принято думать – настоящий роман, крупная цель. Рассказать о страданиях и любви, да так убедительно, чтобы изжить эти страдания (хоть частью в себе самом). Таковы Лев Толстой и Достоевский, таковы Куприн и Короленко. Цель их – не только «очеловечить» современников, смягчить их нравы, но прежде всего – попытка победить себя.
Эпическая форма, размах романа, который охватил бы несколько поколений «на срез века девятнадцатого», когда многое зрело в социальной среде, в переменчивых людях было в зародыше, – так, казалось, подходили для написания романа. Надеялся Чехов найти там, на Сахалине, множество характеров, биографий, тщательно оформить наблюдения, которые питали бы в дальнейшем его творчество, – на полвека вперед, по меньшей мере. (И «Записки из Мёртвого дома» были и примером, и порукой тому). И так ясно, и понятно нам теперь, что и тут без влияния Достоевского не обошлось.
То, что «писателя ставит роман», – и сегодня заученно повторяют. Но так ли всё однозначно на деле? Почему так легко приняли, согласились, смирились и с этой спорной «истиной» априори многие литературоведы? У Хемингуэя «Старик и море» – непревзойденная «нобелевская» работа – но не роман. «Жизнь Арсеньева» Бунина – тоже «нобелевская», но роман ли? Конечно, нет. Крепкий рассказ или повесть (скорее уж его повесть «Деревня» – роман). Хороший рассказ порою сто́ит целого романа. Как говаривал царь Пётр своим гренадёрам перед кулачным боем с английскими матросами в портах, когда очередного англичанина-нокаутера, обладавшего хитрым ударом головой, уносили на носилках после встречного удара мощной длани русского гренадёра-панчера (повторял царь-Пётр английским шкиперам): «Русский кулак стои́ т английского лба». То же и в литературе: хороший русский рассказ стоит и английского, и американского романа.
…Считается, что роман как жанр зародился в Англии в 1750-х. Называют создателя романа – Аббата Жакена («Беседа о романах»). Да и то – так ли? Много разногласий. Американцы отстаивают своё первенство. Известно, что за рубежом нет жанровых различий между понятием «повесть», а так: всё, что по объёму более рассказа, – всё «романы». С точки зрения западного критика – Чехов, конечно же, и романист тоже. Но существовал и античный роман, отличие его было не по форме как таковой, а по силе воздействия воплощённого в нём «материала».
Ф.М. Достоевский записки о каторжанах вылил в огромные формы, поражающие воображение. Чехов – нимало. И всё же автор «с коротким дыханием» велик не только как рассказчик и драматург.
…Кровохарканием (чахоткой) он страдал особенно остро в самую плодотворную свою пору – с двадцати шести – двадцати восьми лет. Сохранились рассказы-свидетельства И.С. Шмелёва о том, какие опасные формы принимала болезнь, даже и тёплым летом, на безобидной рыбалке. Выуживая карасей, Чехов, завзятый рыбак, красный от крови платок время от времени подносил ко рту. И вот – Сахалин, да ещё и в пору рецидива хронической чахотки… путешествие через всю Россию – с ящиком-чемоданом с рукописями и писчими приборами, с бумагой и предметами для писаний, – который тиранил его всю дорогу (по его поздним признаниям, «чемодан без ручек»).
Что заставило двинуться в столь дальний путь, какова предтеча поездки? Откуда этакая безрассудная смелость и риск дальнего пути через всю Сибирь больного неизлечимо «наследственной» болезнью врача, знавшего свои горизонты и перспективы? И вот беру самый длинный из неоконченных его романов, и это, конечно, в первую очередь «Степь». «Быть может, найду ответ?» – думается…
…Есть утверждения (А. Турков и другие), что на творчество Чехова огромное влияние имел Л.Н. Толстой. «Счастье», «Огни», «Именины», «Скучная история» и другие рассказы – написаны будто бы прямо под непосредственным влиянием Льва Николаевича. Роман «Степь», переписанный в дальнейшем как «История одной поездки», занимает особое место. Быть может, и здесь дань «простому» в своём размахе таланту Льва Николаевича? Нечто подобное «Холстомеру» хотелось создать Чехову, по аналогии – «…истории одной лошади»?.. Наверное, быть может, и так, даже скорее всего – что так. Но разве «и только»?
Чехов, получив в 1888 году премию Пушкинской Академии наук, отправляется на Сахалин. Результатом этой опасной и труднейшей поездки стала замечательная, не оцененная до сих пор по достоинству книга очерков «Остров Сахалин» (1893–1894 гг.). Он старательно вырезает карточки с описанием внешности, характеров каторжан, плотно и мелким почерком заполняет записные книжки. А романа как не было, так и нет. «Степь» – не о Сахалине. Разнообразие характеров, их столкновения в «Степи», в дальней дороге… Сам Чехов… – а уж и сам он – не тот же ли самый Егорушка, не тот ли подросток что устал немыслимо долго и ехать, и ждать подарка от унылого путешествия (и устал описывать эту поездку); устал восхищаться величием природы – и дивиться мелким, странным потугам своих спутников: стать счастливыми. А подарка ему как не было, так и нет…
Они – все действующие лица повести – то поссорятся, то помирятся, и тем – обозначат себя вдруг в конфликте, неожиданно раскроются. Взять первое место на стогу сена, с самого верху… съесть первую ложку наваристой каши… Что не дописано, не договорено, то – оборвалось на полуслове, на полунамёке – полутон, полутень. И чувствуешь недоговорённость о сути этой дальней поездки по «Степи-России». И недоговорённость, повторяю, – эта недосказанность только усиливает (в образах) восприятие. Чувствуешь в начале «романа» некую притчу, слышишь эзопов язык. Это важно, очень важно: здесь не «дураки и дороги» и не «Мёртвые души» – нечто иное, совсем, совсем другое здесь. И ещё: что заставляет восхищаться и радоваться, в том числе и тончайшему лиризму повести-романа, хвалённого разными авторами от М.Е. Салтыкова-Щедрина до В.М. Гаршина и другими, это – надежда исканий… Надежда… А что изменилось в этой са́мой «степи» сегодня (более чем через сто лет после написания)? И что изменилось вообще в русской жизни с тех времён, когда жил Антон Павлович? Рассудим не только по воспоминаниям пристального наблюдателя И.А. Бунина – по строкам всё того же мастерски написанного им (позднего очерка) «Чехов», а и проследим по судьбам многих «героев» чеховских рассказов. Устами своих действующих лиц в пьесах и в прозе он сам – мечтал: «Какая это будет жизнь! Через сто лет!»…
Трагизм несбывшихся ожиданий… Эхо со многими отголосками повторяет и сегодня: «…а через сто лет…» – ох уж эти радужные и розовые мечты. (Надежды неизлечимо больного чахоткой человека, чувствовавшего свои «срочные сроки»)… И здесь малая форма писателя – как подобие жизни и игры Шопена, который тоже был болен чахоткой и в промежутках выступлений в концертных залах едва-едва переводил дух от приступов удушья: вбегал в зал, гениально играл свою партию и убегал за кулисы с окрашенным кровью платком, задыхаясь и корчась от боли (но всё-таки за кулисами, подальше от зрителя-слушателя). Так он играл, Фредерик Шопен, и так поспешно подхватывался и убегал, чтобы не огорчать публику, чтобы никто ничего не заподозрил. А не то же ли – и А.П. Чехов? (У обоих «короткое дыхание», и обоим не до романа, не до «симфоний»).
…Нынешней зимой, в январе месяце, проходя мимо платформы станции «Клязьма», что в Подмосковье, я присмотрелся к связкам книг, вывезенным на помойку. Я и раньше видел книги и журналы, выкидываемые связками, охапками, а тут не удержался, подошёл – так стало жаль лежащей беззащитно книги, словно подбитой влёт птицы (со смятой обложкой-крылом лежала она, «навзничь», одна из не связанных бечевой, выпавшая из охапки «макулатуры» из классических собраний сочинений). И та книга, что сверху, оказалась как раз… повестью «Степь», и тут же, с ней же – «комедия в четырёх действиях «Вишнёвый сад». Повесть эта принадлежит ко времени издания знаменитых чеховских «Сумерек». А случилась эта моя находка ровно через сто тридцать лет после выхода в свет книги, прижизненного чеховского издания. (Вот тебе и «сто лет», которые с таким волнением прорекли и оптимист Чехов, и скептик и во многом циник, по воспоминаниям современников, И.А. Бунин). Далеко за сто лет прошло, с четвертью даже, а человек – всё тот же, каким был, тем же и остался и ныне, едва ли хуже не стал, чем был. (Да ещё и с андроидом или айфоном в руках теперь, со «жвачкой» в зубах – тот, да и не тот будто бы). Так, видел я однажды (в Мелихово) несколько афиш чеховских спектаклей, того ещё, дореволюционного времени. Одна из них рекламировала миниатюры по рассказам «Злоумышленник», «Хирургия» – одноактные постановки силами заключённых Таганской тюрьмы – и завершала постановку… игра на… виолончели. Можно ли сегодня представить себе нечто подобное? Постановку пьес по классикам для заключённых и… игру для них на виолончели… Немыслимо. Сегодня «актёры» пропагандируют не классику в театре и не музыку, а некоторые сами стали подлинно «детьми Франкенштейна»: бегают неглиже по сцене Большого театра, да не где-нибудь, а в самой Москве Белокаменной. И в Москве же, в Третьяковке на вернисаж вынесли недавно впереди икон… – унитаз – и сообщили всем, что это нечто особенное, – перформанс называется. И это будто бы и есть всё то же хвалёное «актуальное искусство»… Без такого «искусства» (точнее сказать – ядовитого искуса) сегодня точно – и никуда́, и никак! Такой гротеск не снился в самых дурных снах ни Гоголю, ни Булгакову, ни даже нашему жизнелюбу Чехову. Нет, всё-таки Антон Павлович был неисправимым мечтателем. Да и было, верно, было на что опереться его мечте: «игра на виолончели». (Станиславский, Качалов – это и порода, и образование, и культура. Они – не Шнур, не Серебренников с Богомоловым. И казне российской обходились классики не в такую цену, как теперь обходятся названные нынешние «гении» от сцены и эстрады, эти не подсудные отчего-то никому и никак, многие нынешние подмостки театральные, те, что на содержании народа, – сегодня несравнимо дороже. И «режиссёры» такого атриум-пошиба, и актёры, и «чтецы» всяческие). Взглянешь – и уже по фотографии видишь, кто есть кто́: XXI – не золотой уже, не серебряный, а – поистине каменный век настал. Век заточения в казематы русской национальной культуры.
Бытие само, особенно в последнее время, научило относиться внимательно к любому событию, которого касаешься непосредственно, и если не находишь хоть какой-то скрытый смысл, находишь непременно и «второе дно» в происходящем, – то волей-неволей вынужден предполагать потаённые мутные глубины. И понятно, что миновать такой находки – трогательного события, собрания сочинений Чехова, книг, выброшенных в мусорный контейнер, обойти раскиданные книги вокруг помойки каким-то то ли Челкашом, то ли Шариковым, – я конечно не смог. Единственным из возможного показалось – вернуться со связкой томов домой. Так я и сделал. Поехал в Москву на другой поздней электричке, с большим перерывом, но уже со «Степью» Чехова в руках. Словно кто-то «сверху» протянул мне эту книгу, заставил внимательно перечитать – впервые после обязательного «школьного» изучения. Обременённый уже грехами, опытом, годами – по-иному и видишь, по-другому чувствуешь, по-своему читаешь «прочитанное» прежде.
…Подле меня в электричке поместился уверенного вида детина: он широко и важно из несессера, будто энциклопедию, достал планшет и открыл плеер, установил игру в «Доту», вставил штекер, пристроил наушники – и был таков из мира Божьего. В его движениях увиделся некий вызов окружающей действительности, протест всему сущему, – и прежде всего мне самому, и этому веку, и Чехову, книгу которого я держал в руках. Попробовал было я тогда потеснить геймера, «переквалифицировать» этого акселерата, как сказал бы Василий Макарович Шукшин, «потянуть одеяло на себя», то есть сесть повольнее – да махнул рукой: «не до него», – и сам углубился в чтение.
…До обидных морщин на лице – поражает «плоскоэкранное мышление» сегодняшних «не-читателей», а «игрателей», этих «смотрителей» «теле» и «дивиди», видео, ютуб-компьютерных игр и всевозможных приставок. «В поле бес нас, видно, водит и кружит по сторонам», – вспоминалось мне. «Книга и экран… Бес и ангел» – нет, мне уж точно не к вам, ребята, мне – к Чехову, пожалуйста. И именно к книге бумажной, а не в электронный балаган ширпотреба. Не случайно же телеящик ставят зачастую в «красный угол» – туда, где место иконам, фотографиям ушедших родителей, по старинному русскому не минувшему пока ещё обычаю. Нет, уж точно «не моё», эти игры… Всё-таки Дух правит миром, а не TV с рогатой антенной, не премудрый экран и цифра «от Лейбница». С «двоичным кодом» её, который и лёг в основу программ всех компьютеров.
…Сосед мой засопел, словно услышал мысли мои, набычился вдруг, распустил локти пошире – этак «раскрылился» по-вороньи. Пойманные в игре «стринги счастья» его и «кольцо нибелунгов», видимо, не обрадовали его. И вот уже нахрапом своим – он тут же напомнил мне одного из первых «бомбистов», небезызвестного убийцу Кравчинского-Степняка, взявшего псевдоним именно «Степняк». И почему «Степняк»? Откуда такой интерес к степи от «народовольцев»? Столько написано уже об этой степи и былин, и песен, и повестей, и рассказов. Поистине, «все дороги ведут» если не в Рим, то к Чехову. И донецкие степи известны сегодня. Известия оттуда приходят с трагическим постоянством. Горькие новости – ежедневно: и стрельба, и разрывы фугасов, и выжженные хлеба… Убийцы-революционеры, даже и те, которые видели и в самом приволье степном нечто своё, созвучное себе, это пространство распростёртое, где сокрыться возможно после террора, – и сегодня они не «остранены»́, не переосмыслены, малопонятны. Отчего же такой интерес многочисленных характеров и прототипов – от писателей до убийц – к этой русской обширной степной равнине? Впрочем, теперь – конечно наверняка уж был бы и не «Степняк» вовсе, а «Бэтман прерий» или «Человек-Суслик», наверное. Или «Аватар», или «Рокки Бальбоа»: своё мы уже не в силах продуцировать, способны лишь повторять постыдно других. А ведь в Японии, например, именно Чехов занимает первое место по востребованности среди зарубежных писателей. Оно и понятно: тот, кто с юности читатель, тот, взрослея, становится мыслителем, изобретателем, руководителем. Япония, надо признать, шагнула далеко вперёд и благодаря чтению, тоже. Миром по-прежнему правит книга, «кодекс» по латыни. С древних – времён главное – остаётся незыблемо, несокрушимо, не меняется. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана…»
…Откуда пришли, откуда явились они, эти «Скитальцы», «Горькие», «Бедные», «Весёлые» – все эти дивные «экземпляры», и писатели тоже… Эти эксцентричные авторы двадцатых годов двадцатого века, те, которые пытались потрясти классику? «Неќ то в помятой шляпе» – называл одного из них, самого известного, И.А. Бунин – того, который за словом в карман не лез (назвал он так «Пешкова-Горького»). Все те́, коим имя, данное Богом и при крещении, заменили или клички, или прилагательное-определение, те, которые казались ему, дворянину, получившему хорошее воспитание, – непостижимо вульгарными, смешными, и подело́м. Прилагательное – к несуществующему существительному – кличка, зачем эта дикость, эти приставки вместо имени (псевдонимы, не похожие на фамилии)? Часто – и вовсе нелепые бродяжьи прозвища, плохо придуманные не псевдонимы даже, а амплуа… И – как точно разглядел великий Ф.М. Достоевский – не благостное житие через сто лет в России, как мечталось Чехову, – а «бесов» и бесенят: верховенских, смердяковых, любящих, по их собственному признанию, не Россию, а… «остроумие». Разглядел классик зорко их отвязанность, способность на поступок самый дерзкий, неожиданный – откусить палец, взорвать бомбу – такое действо, на которое, по совести, мало кто мог решиться в чеховские времена. В те времена, когда именно в тюрьмах (не напоказ), а для собственного утешения и смягчения нравов, играли (всё-таки) под занавес спектаклей… напомню ещё раз: «на виолончели». А до него, до Достоевского, разглядел их, нигилистов (хотя и вывел в сочувственном повествовании) – Тургенев и ещё – конечно, Лесков. И стало мне вдруг обидно за А.П. Чехова, что и сам я как бы спасова́л перед широко рассевшимся на лавке толстяком с планшетом, тоже «степняком» по виду: показалось, до обидного часто живописатели русской жизни явно проигрывали в знании действительности, приукрашивали её, жалели всех этих игроков и таких вот жуирующих пижонов, как мой сосед. Я опёрся попрочней, собрался, напрягся, да и так двинул плечом моего «толстого вор́ она», что – тот от удивления едва не выронил планшет из рук и уставился на меня, будто только что меня увидел. Молча открыл я тогда книгу, «отжал» ещё раз обомлевшего от удивления толстяка поплотнее к окну, чтобы не зас́ тил он свет, и принялся читать.
…Итак, повесть «Степь» впервые появилась в мартовской книжке журнала «Северный вестник» в 1888 году. До этой повести Чеховым были написаны сборники коротких рассказов: «Пёстрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди». Чехова-новеллиста ценили и Н.С. Лесков, и Д.В. Григорович, и Я.П. Полонский. К 1888 году относится и первое знакомство его с Львом Толстым: «Что за человек! Застенчивый как девушка!» – признавался Лев Николаевич Софье Андреевне. Быть может, от Толстого и услышал «Антоша Чехонте» впервые о том что погряз он, Чехов, будто бы в мелкотемье, пессимизме, о «холодной крови» будто бы своей. О том, что писательство дело серьёзное… И другие претензии и нравоучения, с которыми часто впоследствии приступали к нему зоилы-критики. «А какой же я пессимист, «холодная кровь?!» – обижался А. Чехов. (Он считал лучшим из написанного рассказ «Студент», светлый и чистый рассказ, который описывает, как студент в Страстную пятницу Великим Постом отправился в лес стрелять птичек да зверушек. Никого не убил, повстречал крестьянок, которые напомнили ему сюжет Евангелия и о том ещё, что́ совершалось на Страстной неделе в самом начале истории христианской веры, с начала летоисчисления. И к первой звезде безбожник-студент уже плакал от умиления и жалости к миру Божьему, от ощущения явного присутствия в нём Бога взыскующего).
Не исключено, что именно такой совет: писать широко, поднимать пласты – Чехов мог услышать именно от Л. Толстого, на ту пору не написавшего ещё «В чём моя вера» и «Пятое Евангелие». Толстой же с его пожеланиями, пожалуй, – и вывел его, А.П., на Сахалин. Пласты поднимать, призывать к решению мировых вопросов, а точнее – романы ваять.
Жизнь… Каторжане. Кровохаркание… Дорога на перекладных туда и обратно, и в снег, и в дождь, с ногами, укрытыми медвежьей полостью. Эта отчаянная смелость скромного, умного человека кажется необъяснимой теперь. По нынешним временам – сущее безрассудство: проехать на лошадях под пологом вдоль и наискосок всю Россию-матушку, до самого океана… Четыре тысячи миль. Во имя чего?
Чехов-врач не обманывался на счёт своего здоровья. Он, по свидетельству Ольги Книппер-Чеховой, и в последние часы своей жизни признавался: предугадывал, чем грозило ему это многомесячное путешествие. Геройство? Характер. Личность. В последние минуты жизни попросил шампанского: «Давно я не пил шампанского». И на немецком: «Ich sterbe…» – так и молвил он лечащему врачу-немцу. Предупредил ещё, что не нужно лишних хлопот, ведь и сам он врач практикующий, и ясны ему перспективы его здоровья вполне… Фрегат вернулся в гавань из хождения по морям-океанам. По-библейски: остановился ворот у колодца, и развязался узел сердца. Звезда Чехова вспыхнула на небосклоне вечно живых классиков.
И всё же писать роман, события которого начинаются не на острове в Охотском море и океане, а в степи, и водить (по этой степи) мальчика Егорушку и отправлять в большую жизнь, в гимназию, а затем – в кадетский корпус, в офицерство – эта идея была ёмкая, непростая, сходная по размаху с «Мёртвыми душами», и оказалась ближе. Начать же было решено просто с описания характера ребёнка, всего того, что его окружает. Даже и целая степная энциклопедия, так удавшаяся автору, не исчерпывала таланта, редкого по сердечности, по умению наблюдать – детским проницательным взглядом. Способность и дивное наитие, интуиция при отборе деталей… Чехов нашёл верную дорогу, вполне достойную, чутким даром своим, одарённостью. О долгой-долгой дороге своего предшественника Н.В. Гоголя он сказал так: «В нашей литературе он степной царь, – записал Чехов. И далее: – Чувствовал всю сложность работы после «Мёртвых душ»».
Над рукописью Чехов работал тщательно и позволил себе редкое признание: «Удалась она или нет, не знаю. Но, во всяком случае – она мой шедевр, лучше сделать не умею» (письмо А.С. Лазареву (Грузинскому) 4 февраля 1888 года). Слово «шедевр» Чехов употребил со свойственным ему юмором, не впадая в самовосхваление, имея в виду кропотливый труд, вложенный в прозаическую и такую прозрачную «вещь» (как принято называть новый труд у писателей).
Мастера слова, крупные писатели того времени – Лев Толстой, Короленко, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Полонский и Плещеев – все высказывались о «Степи» с одобрением, даже с восхищением, и многие по самой заявке: на обобщениях, на эпику – угадывали в ней начало большой книги. В.М. Гаршин произнёс: «В России появился новый первоклассный писатель!» Таким образом, этот переход творчества Чехова от коротких рассказов с живыми диалогами и анекдотичными концовками к внушительной повести (в перспективе задуманной как роман) условно можно назвать переломным в лучшем смысле этого слова.
Критики по-разному отнеслись к повести «Степь». И теперь среди литераторов даже и средней руки чего только не услышишь: растянутость в описаниях, рыхлость композиции, незавершённость, безсобытийность, отсутствие единого смыслового стержня, выпадающая, недосказанная концовка… И некоторые из упрёков верны (отчасти), но если принять «Степь» как часть задуманного общего плана, всё становится на свои места, и тотчас ясно, что ни один из упрёков не применим, и все они мимо цели, – если «Степь» и впрямь – начало большого романа.
Чехов, удивительный мастер лаконичных заглавий, так и назвал свой труд: «Степь». Всем пишущим известно, как трудно найти и дать удачное заглавие любой своей «вещи», а Чехов, если не ошибаюсь, как бы сказал нам: смотрите на степь на протяжении «истории одной поездки» и увидите всю Россию. Вот степь, только степь и люди, и человеческие отношения – и всё… Серая, «скучная», однообразная степь – и как радуга над действующими лицами повести-романа ангельской чистоты чувство Егорушки, – и эта бескрайняя равнинность, и солнце, и хмарь над ней – олицетворяет не состояние только персонажей, а все характеры и «типы» во всей «повести русской жизни», в пору «безвременья», а и – саму даже Россию, предгрозовую, притихшую… перед грозой. До великих потрясений всего-то два десятка лет. «Северный вестник» – «трибуна русского критического модернизма», а повесть традиционна настолько, что дальше некуда… И вот – малыш Егорушка, единственный цветочек, надежда и опора матери Ольги Ивановны, девятилетний ребёнок – и тот не просыхал от слёз. Степь у Чехова – всего лишь аллегория, долина слёз, юдоль печали, то есть она и есть само бытиё наше. Вглядимся в неё не только глазами Егорушки, а и самого Антона Павловича.
Начиная с мамаши Егорушки и кончая Дениской – действующие персонажи – всё люди недалёкие, на первый взгляд, равнодушные к судьбе мальчика, и когда читаешь, всё-то думается: «Зачем же отправлять Егорушку так далеко? Неужто в уездном городе не было гимназий?»… Ольга Ивановна, мамаша Егорушки, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичёва, «любившая образованных людей и благородное общество», умоляла своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собой Егорушку, отдать в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем едет, «сидел на облучке рядом с Дениской», «чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать».
Да и заплачешь. Прямо за городом начинаются эти «окаянные», хотя и знакомые Егорушке места: «За острогом промелькнули чёрные, закопчённые ку́зницы, за ними уютное зелёное кладбище, обнесённое оградой из булыжника…» Начиная с первой главы и кончая последней фразой, Чехов показал бестолковщину суетной жизни. И заканчивает «Степь» такой фразой: «Какова-то будет эта жизнь?» (то есть – чем она закончится, каков конец-венец человека, прожившего так же неприкаянно и скоро, как миновали они эту самую степь). Вопрос важнейший, «конец- всему делу венец», и, что называется, «не в бровь, а в глаз».
Серость, «сумерки» жизни – всё это в замкнутых, ограниченных пространствах. А тут – даже в широкой, раздольной, «безграничной», как поётся в песнях, обширной, обильной степи – то же самое. Тяжко смотреть на пыльную дорогу, на перекати-поле. Трудно всё-таки было жить и в «той» России, это только теперь кажется, что всё было тогда, при Чехове-то, – как в глянцевой сказке. Сытно, мило… И «хруст французской булки», и «гимназистки румяные»; и милые, очень добрые купцы и столбовые дворяне, «закаты, переулки». А на деле – лошадь на пять-шесть крестьянских дворов и – одна соха на всю деревню (нередко). «Хрустобулочники» не верят, что так оно подлинно-то и было, и напрасно не верят. И того мало: даже в советское время не всё поменялось. В деревне рязанской, под Сасово, и на моей памяти, в 1975 году на пятьдесят дворов было две лошади и три сохи. Трудно было жить, едва ли не так же трудно, как дышать в знойный полдень путникам чеховской повести, – жить душно и было, и есть…
Безалаберность решений и амбиции Ольги Ивановны сродни и всем необдуманным, стихийно принятым решениям, скоропалительным делам многих из нас: когда читаешь – всё думается, как Егорушке: «Зачем были все эти революции в России, и в девятьсот пятом, и в семнадцатом, и в девяносто третьем, зачем и чего ради столько жертв?» Наивно, а размышляешь ещё и так: «…А зачем была «перестройка»?» Если людей невозможно изменить простым «внешним» усилием, нужна не революция, а эволюция. Внутренне переделай самого себя, каждый, тогда и мир изменится. А и сегодня – туда ли, верно ли мы идём, в ту ли сторону – взгляните, остановитесь: «в ту ли степь» движемся все мы, если книги Чехова и Астафьева, Белова и Распутина (да, кстати, и в первую голову – «апрелевцев»-перестройщиков тоже, тех же «прорабов» перестроек, этих, как понятно стало хоть немногим и нескоро, узурпаторов с их придуманными «плюралистическими свободами» на горбачёвский манер, и особенно даже в литературе: книги и Приставкина, и Евтушенко, и Рождественского, и Вознесенского оказались в мусорных контейнерах)… Пачками летят на помойку в кузова «великие» произведения этих орат́ аев. «Напрасный труд удить без крючка и умнеть без книги». «За что боролись», как говорится. При таком положении вещей даже самые радикальные перемены, политические и социальные, никогда и ничего не изменят. Повторю общеизвестное, но важнейшее: окружающая обстановка меняется, но человек остаётся таким же, как был, а часто – и хуже прежнего, – хуже, чем во времена поездки того же бедного Егорушки. Это не сожжение даже, не аутодафе (много чести этим «творцам» перестройки), а – «великое выбрасывание», которое состоялось именно через сто лет после смерти Чехова (по Бунину, которого не чаял ни тот, ни другой!), – в годы, о которых так вдохновенно грезил и создатель грядущих «Окаянных дней». А вот в 1905 году и не снились им наши распрекрасные времена, о которых так самозабвенно (по воспоминаниям всё того же Ивана Бунина, статья «Чехов») – они мечтали вдвоём. И что же видим мы сегодня? Даже и не через сто, а через девяносто лет – бодрый, разбитной, повсеместно разэкраненный поэт, пишущий бойкие фельетоны в стихах на потребу дня, – всё тот же Е. Евтушенко (при рождении фамилия Гангнус)… (Уж он-то прямое отношение имел к «перестройке», смог и он настаивать и принудить префекта Москвы оставить в осадном положении Дом писателей России, при помощи даже горилл из ОМОНа с чиновничьей поддержкой их сверху, – мог он так удумать: морить голодом коллег по литературному цеху, чтобы отнять здание, принадлежащее по закону Союзу Писателей СССР. И, вспомним теперь, кстати, по теме потрясений в России, – как в осаждённом доме Союза Писателей на Комсомольском, 13, – по указке этих горе-степнячко́в – тиранили коллеги коллег. Да так, что – аж на трое суток оставили без хлеба и без воды в осаждённом ОМОНом здании. Ну чем не монголы двадцатого века, чем не степняки?).
Сегодня, пожалуй, и не поверят сказанному, так же, как – не верят теперь в далёкий палеоли́т, как не верят в каннибали́зм, – но было именно так! Такая вот «эволюция» «через сто лет». И до сих пор писатели в междоусобной вражде рассеяны по миру и часто в голоде и в холоде прозябают покинутые, а труд писателя, который для Чехова (и не только для него) был не чем иным, а таинством, не в почёте. Труд этот тяжкий, праведный – поставлен сегодня вне закона. Даже профессии такой нет теперь, не стало: «писатель, литератор» – не палеолит ли, не «Бронзовое» ли тысячелетие вернулось?.. Была профессия, а теперь нет её, не стало. Сколько ещё лет, сорок ли, или семьдесят – нам «голодать-холодать» по пустыне жизни – и писателям, и поэтам. И всё – по вине «кучки» противленцев-монголов, возомнивших вдруг себя «народом привилегированным» среди русской степи, точно и очно знающим, что хорошо, что плохо, и принудивших и многих других думать так же, как им заблагорассудилось. Не грустно ли, что вместо игры на виолончели и душеспасительных спектаклей прошлого века – в наши расчудесные «через сто лет» – книгу низвели ниже шаурмы, чебуреков в лавках приезжих в Москву южан, ниже пирожков с ливером. И непонятно, явится ли теперь тот старшуй, который соберёт людей, как собирают отары в степи мечущиеся ради прибытка варламовы? Примирит ли он всех, и объяснит ли, и объединит ли общей достойной мечтой-идеей. Неизвестно…
Но вернёмся к персонажам «Степи», они объяснят многое в русском и нерусском характере. С самого начала Чехов даёт понять, что слёзы Егорушки – на совести его мамаши, и всё же – может быть, хотя бы дядя его Кузьмичёв знает, зачем он везёт Егорушку? Судя по диалогу, и Кузьмичёв не знает. Везёт не к себе, а к чужим людям, в примаки́ мальчика с решением отдать его «нахлебником», как тогда говорили.
«Хочешь вернуться? – спросил Кузьмичёв. – Хо… хочу, – ответил Егорушка, всхлипывая. – И вернулся бы. Всё равно попусту едешь, за семь вёрст киселя хлебать». Даже отец Христофор – и тот равнодушен, кажется, к судьбе мальчишки – недалёкий, успевший забыть все науки, которые изучал. Он тоже пространно объясняет, сравнивая поездку Егорушки с Ломоносовым: «Так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу». Не понимает Егорушка смысла фраз отца Христофора: «Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу, так-то…» И Христофор этот – насквозь знакомый, теперешний: слова красивые, с глубоким смыслом и вроде бы на места правильные расставлены, а – всё пустые они и равнодушные. Сколько нынче знающих-поучающих, все программы забиты их выступлениями и на TV, и в интернете, а вслушаешься – едва ли не сплошь и везде всё одно: безразличные к человеческой боли, всё-то одни «христофоры», словеса их проходные. И будто бы правильно вещают, и значительно, и веско, а вот – как в жизни… – как быть и что делать с нею, с жизнью этой самой и с судьбой простому человеку, – не ясно. Учат как-то всё «не туда», оттого что не сердечно учат. Нет, пожалуй, Христофор был честней, бескорыстен был, а эти – просто ко́рмятся.
Так сложилось вослед за постсоветским строем в «капиталистическом» нашем мирке теперешнем: кто больше обещает, увлекательнее врёт – к тому народ и склоняется… Смотришь, «слуга народа» или богач, и что-то от нескудных доходов на храм пожертвовал – но так, чтоб непременно – с именем его, жертвователя этого. Да так ещё, чтобы вспоминали и чтобы золотыми буквами на кирпичиках его имя начертано было на века… Храм дело хорошее, а сколько людей бездомных год за годом замерзают на глазах у прохожих без всякой помощи, без сострадания, прямо на улицах и при входе в метро, в самой Москве «Златоглавой». Вот вам и счастье, вот и довольство «через сто лет», чаемые нашими классиками… Около пяти миллионов беспризорных детей в стране – только по официальным сводкам, большая часть – при живых родителях. Так что же это: и сегодняшняя Москва, такая желанная даже и автору повести «Степь» в лице Егорушки: «Посмотреть бы, увидеть её…» – а эта наша Москва сегодня, даже и она – не есть ли всё та же «степь», которую видел и описывал Чехов: никто и никому не нужен и не интересен. Ни дети, ни старики, ни нищие. Только вместо великолепных облаков да звёзд, да туч, угрожающих ливнем на огромных открытых пространствах, в Москве – дома громадные, огни казино да едва ли не всё те же лживые плакаты в духе перестроек и реклам. «Москва слезам не верит», даже слезам и то не верит… Та же «степь», конечно, только строже, безжалостней, пусть и с фонарями, с живой подсветкой, играющей переливами неоновых ламп, пусть и с новостройками… Они лишь для «имущих»…
…И вот везут беднягу Егорушку. Главная цель поездки – шерсть продать подороже, а мальчик – так, попутный груз, обуза. Смотрит Егорушка на степь – и на сердце всё тяжелее, оттого что непонятно: зачем везут? Чехов нашёл бы радостные краски при восходе солнца в степи, но перед глазами Егорушки ведренное утро – нарисованная автором картина, совсем другими мазками: «Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – всё побуревшее от зноя, рыжее и полумёртвое…». Тут и у читателя вместе с Егорушкой падает настроение: утро, блестит роса, краски живые, и вдруг – «всё побуревшее от зноя, рыжее, полумёртвое». Одним словом, прямо как в начале поездки – и вновь заревет́ ь хочется, выжимает слезу чеховское горькое слово, не писательское мастерство даже, а навык точного вид́ ения. И тут уместно упомянуть оценку особенности чеховского таланта от Льва Толстого: «У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов. Смотришь: человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются под руку, и как будто отношения эти мазки между собою не имеют. Но отойдёшь на некоторое расстояние посмотреть – и, в общем, получается целое впечатление. Перед вами яркая, неотразимая картина»[8].
Мазки, краски… Сто тридцать лет и три года, как написано. Ушёл и Чехов, и Л. Толстой, а о мазках и красках лучше Толстого не скажешь. А вот о жизни (да и не только в «степи» – в Москве и в Питере), о бестолковщине и безалаберщине её, об умирающих в столице стариках, детях без родителей, о пьянстве и вырождении народа – как сказать об этом? Где сегодняшние писатели, хоть отчасти похожие на Чехова? И суета: хватать, метаться, перепродавать подороже, искать по безграничным просторам «степи» некоего купца Варламова. Шерсть продавать!.. Как будто ни Кузьмичёв, ни о. Христофор, ни Варламов, ни мы, теперешние, им подобные, ни на что большее и не способны. Потерялись на больших пространствах, одиноки в огромном мире. И сами мы – те же «Егорушки»: едем, куда везут, разве не так? Вот «старик-чабан оборванный и босой, в тёплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке – совсем ветхозаветная фигура…» – да по́лно, ветхозаветная ли? У любого вокзала Москвы оглядитесь – и найдёте сегодня с десяток таких «ветхозаветных чабанов».
Надо продавать шерсть, а Варламова всё не видно – тоже носится по степи, «как угорелый»: скупает шерсть, норовит обмануть, сбить цену. И это знакомо: «Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет? – Никак нет. Приказчик ихний проезжали, это точно… – Трогай!». И понеслись-покатили дальше. Оборванные чабаны и злые собаки остались позади. А что впереди? Да всё то же: серость, скука, тоска, сумерки жизни… Чехова в чём только ни упрекали: «нытик», «хмурый человек», «пессимист». «И слово-то противное: пессимист, – говорит Чехов Бунину. – Нет, критики ещё хуже, чем актёры»[9]. А русская жизнь была такова, что не мог Чехов её писать в оптимистических красках, врать не мог органич́ ески. «Литературное правдоподобие состоит в выборе фактов и характеров и в таком их изображении, чтобы каждый признал их правдивыми»[10]. «Секрет всемирного вечного успеха – в правдивости»[11].
Краски, мазки природы в «Степи» Чехова могли быть и другие – весёлые, жизнерадостные, подающие надежды на довольство. И читать бы, кажется, весёлое – любо-дорого, но кто вправе упрекнуть писателя в выборе средств изображения? Много можно привести примеров и выводов, основанных на контрастах. Скажем, богатая, весёлая картина: дыни, арбузы, помидоры, сады – и нищенское существование чабанов, суета Кузьмичёвых, Варламовых… Люди, их нравы и обычаи, загубленные таланты – всего этого, однако, не затушевать, не приукрасить, если конечно быть неподдельно верным и правдивым. Вот перед нами загубленный талант о. Христофора, вспоминает он: «Усов не было, а я уж, брат, читал по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию и математику, гражданскую философию и все науки». И на что пригодилась умная голова? «Родителей не ослушался», не поехал «в Киев науки продолжать», поскольку «послушание паче поста и молитвы». И незачем плакать Егорушке, надо и ему быть в традиции «послушания» – таков вывод.
Все эти разговоры отца Христофора с его молитвами да беседами «о науках» раздражают. «Науки науками, – вздохнул Кузьмичёв, – а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука». И тут Чехов настолько современен, что чудится, все его герои прямо-таки перешагнули в наше время. Сейчас «купи-продай» вытеснило все науки начисто. Торгаши, их офисы, «маржа́» да «рите́йлеры» кругом, куда ни повернись – «мерчанда́йзер», «суперва́йзер», «ме́неджер» (т. е. приказчик) и – торгашество, всё-то одно лишь торгашество; «мильён меняют по рублю». И – сей «бизнес» сожрал и науки, и искусство. Вытеснил и писателя на обочину. Чистоганный рубль – ладно, но нет, ещё и того хуже – доллар, евро, гонка за прибылью, за сверхприбылью – без конца и без начала А смысл? «Вытесним культуру на панель», – так слово в слово объявляет не кто-нибудь, а сам министр культуры. Кажется, эта погоня за призрачной мошной́, продажа шерсти – как самоцель и самой даже жизни – тоже пришла к нам из чеховской, из той же дичайшей «степи» бессмысленной. Ну, нажились, мол́ одцы, а дальше-то что?
Егорушка смотрит на мир с детской непосредственностью и учится жить; он не всегда и не во всём понимает взрослых. Учится видеть прекрасное и ненавидеть несправедливость – вон как храбро вступился мальчишка за старика Емельяна. В будущем ему суждено пережить предательство друзей, почувствовать равнодушие или тягостное сознание несовершенства своей жизни, личности. Но всё это только замысел автора, он так и остался неосуществлённым. Кажется, Чехову и самому тяжело было продолжать эту безнадёгу, но всё можно додумать, досказать. А пока Егорушка едет по степи, где простора так много, что маленькому человечку нет уже и интереса ориентироваться даже ради спасения собственной жизни.
Пол́ день, путники расположились у ручья, стали закусывать. И тут тоже как-то безрадостно: осока, жаркое солнце, слепни, мухи. И Дениска – жених по возрасту, умом – мальчик… Вся эта прошлая жизнь как будто из сегодняшнего дня, за исключением брички и пары лошадей. «Закусивши, Кузьмичёв достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: – Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили». В мешке была шерсть и большая сумма денег. Егорушка об этом узнал только на постоялом дворе Мойсея Мойсеича.
Отца Христофора заботят лошади: «Поглядывай, чтоб никто коней не увёл! – сказал он Егорушке и тотчас заснул». Как говорится на святой Руси: «Спишь – беду наспишь». Во сне храпят Кузьмичёв, о. Христофор, и помимо того мальчику только слышно, как кликал чибис, «мягко картавя, журчал ручеёк». Степь как бы затушевала оригинальность русской души. Скучно Егорушке. Все улеглись, Дениска, наевшись огурцов с хозяйского стола, тоже лёг на припёке «животом вверх и тоже закрыл глаза». В лиловой дали холмы, небольшой посёлок из пяти-шести дворов. «Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно посёлок задохнулся в горячем воздухе и высох». Нет, не вымер поселок. Песня послышалась Егорушке. А песня – душа народа. О чём пела женщина? «Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли. Точно над степью носился невидимый дух и пел… В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце сожгло её понапрасну; уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если б не зной и не засуха… Ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…»
Это степь поёт невидимо, едва слышно – и это, несомненно, и сама Россия: голая, выжатая и выжженная, но совершенно не виновная, и покорная, и тихо жалуется-молится она. Кому – небу, солнцу, Богу?.. Россия… С безнациональными теперь «россиянцами» молитва не та,́ что прежде. И без главных ценностей и традиций, отнятых двумя революциями с интервалом в семьдесят лет, войнами, неумными и безответственными правителями, жуликоватыми чиновниками, и всё с тем же нищим, при громадных богатствах страны, – народом. Всё это впереди у мальчишки, обо всём он узнает в свою очередь, а пока – Егорушке всё интересно. Он нашёл того, кто пел: «Около крайней избы посёлка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под её решета вниз по бугру лениво шла белая пыль». Пошёл Егорушка к бричке – и вновь «послышалась тягучая песня». И отчего-то «…к Егорушке вдруг вернулась скука», и само время как будто застыло и остановилось, и показалось, «что с утра прошло уже сто лет».
Пока Егорушка с кучером Дениской скакали, ловили мух и кузнечиков, о. Христофор и Кузьмичёв спали. Это тоже – спать после сытного обеда – русская черта характера. «Отец Христофор, вставайте, пора! – заговорил Кузьмичёв встревоженно. – Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!». Когда ехали, видели то же самое: воздух застывал от зноя и тишины, «покорная природа цепенела в молчании». Когда же солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух «не выдержали гнёта и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго».
Читатель и герои в каком-то тревожном предчувствии: вот-вот настанет гроза. Прогремел гром за холмами, подуло свежестью. «Хорошо, если бы брызнул дождь!» «Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль – и опять, как будто ничего не было, наступила тишина». Нет, ничего не изменилось, и «одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу». Наступил вечер, как в «Книге Бытия»: и был вечер, и было утро, день пятый… «Сумерки». Сумерки русской жизни. Сумерки и в степи. А и в сумерках всё то же: постоялый двор, даже и не двор, а дом неогороженный, «жалкий вишнёвый садик с плетнём» – словом, степь, чего там, степь и степь…
Комический Мойсей Мойсеич – себе на уме, как говорят, всё с той же заботой: «урвать»; «бедная, жалкая, вонючая комната, широкий диван с дырявой клеёнкой да три стула». Серые стены, потолок и карнизы закопчены. Гравюра на стене с загадочной надписью: «Равнодушие человеков». И вопросы всё те же: «Проезжал тут Варламов или нет?» Разговоры о деньгах всё не сходили с языка. «Ах, деньги, деньги, – вздыхал отец Христофор, улыбаясь. – Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу». Вот смысл существования «человеков»: обеспечить себя и потомство, и тут о. Христофор не ушёл от «суеты сует». А Егорушке спать хотелось. И лишь толстая еврейка не обошла вниманием Егорушку. Она «поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный мёдом», а потом «полезла в комод, развернула там какую-то зелёную тряпку и достала большой пряник в виде сердца», хотя у самой шестеро детей, и «если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра». В комнате, где под сальным одеялом лежали дети, хозяин говорил с хозяйкой по-еврейски. О чём же? Легко только догадаться: нужда, суета, деньги. Даже не зная еврейского языка, можно понять этот разговор: «Галл-гал-гал-гал, – говорил Мойсей Мойсеич. – Ту-ту-ту-ту», – отвечала ему еврейка». Между тем в комнате для приезжих Кузьмичёв считал деньги. Их было много, куча…
Самым интересным персонажем я вижу прислуживающего приезжим Соломона. Соломон – не русский тип, фигура эксцентричная, с одной стороны, – и он тоже ведь – дитё Божье. С другой стороны – «дитя антихриста», «дитя ехидны». Кто он для Чехова – так и осталось загадкой. Не должен ли был встретиться в будущем романе «Степь» с этим самым Соломоном в кожаной куртке и с маузером юнкер или поручик Егорушка после окончания учёбы в Корпусе, как знать. Странный этот тип, как бы и не чеховский, выпадает из общего описания «жизни-степи» русской. Выпадает и до сего даже дня. Об этом Соломоне стоит поразмыслить: тип – не тип, словом, он и сам отвечает на заданные вопросы. Отвечает уклончиво, как отвечал на первом допросе в полицейском участке, взятый за убийство упомянутый прежде бомбист «Степняк» (Кравчинский).
«Что я поделываю? – переспросил Соломон и пожал плечами. – То же, что и все. Вы видите: я лакей. Я – лакей у брата, брат – лакей у проезжающих, проезжающие – лакеи у Варламова, а если б я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем». Что ж, весьма красноречиво сказано, и многое обещает. Этот Соломон по глубинному смыслу своего эзоповского языка, по подтексту, может соперничать со Смердяковым. Это – если не родны́е братья, то двоюродные. Верно, что и у Соломона была нелёгкая судьба и интриги, да какие – и уже едва ли не при его рождении. Странно: в степи, и именно в степи (что же он там поделывал, уж не скрывался ли?), в скуке, в сером однообразии, в этих сумерках – и вдруг такая личность! Ни Отец Христофор, ни Кузьмичёв не поняли Соломона: «Как же ты, дурак этакий, равняешь себя с Варламовым? – Я ещё не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, – ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. – Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке». И вот тут-то сегодняшний читатель окончательно понимает, с кем он имеет дело. Нет, это не Смердяков. Смердякова рядом с Соломоном не поставишь: «мелко плавает». Деньги он спалил в печке, вера ему не нравится, плохо отзывается о Варламове, о котором иные-прочие говорят чуть не шёпотом из уважения к нему, к Варламову; на гостей смотрит с усмешкой. Никто не понял Соломона, а в глазах Егорушки он был похожим «на что-то такое, что иногда снится, – вероятно, на нечистого духа». Блюститель веры христианской так и сказал о Соломоне: «На человека не похож»… «Забывается, – говорил Кузьмичев. – Губитель, и много о себе понимает». Мойсей Мойсеич говорил, вздыхая, про своего брата Соломона: «Ночью он не спит и всё думает, думает, а о чём он думает, Бог его знает. Подойдёшь к нему ночью, а он сердится и смеётся. Он и меня не любит… Ничего он не хочет!» Хочет, и известно чего – теперь известно, необходимо поправиться. И напомнить: экий тип дан Чеховым в 1888 году, да ещё и до поездки на Сахалин. Где же Антон Павлович видел такого, или выдумал? Вряд ли. Уж не с каторжан ли списан, не с социалистов ли? И как он отделил заранее Мойсей Мойсеичей от Соломонов? Тут нечто даже пророческое. Хоть на деле и до, и после «Степи» Чехов сторонился этаких предреволюционных героев. Не в пример, скажем, Куприну, Грину, Горькому или Л. Андрееву. И это странно. Тема и персонаж одними из первых найденные им, Чеховым, оставлена впоследствии. Занимавшие и увлекавшие читателей идеи того времени, выигрышные для писателя и вызывавшие всё больший интерес в прессе, в разговорах, и в русле течения общественной мысли многое меняющий тип этот – едва прорисован, «этюдно» намечен – и брошен. Вброшен… А какой популярности на этой теме добились иные! Что же тут, не чеховский ли такт и деликатность? Можно, пожалуй, понять, сравнивая рассказ «Скрипка Ротшильда» Чехова с «Гамбринусом» Куприна. Но и опять – разница в написании, в датах выхода в свет этих рассказов даёт сто очков в пользу Чехова.
Движение сюжета «Степи» происходит вместе с меняющимися картинами природы. Проблема «человек и природа» в повести возникает из реального содержания, воплощённого в заглавии. Донецкая степь всё же прекрасна: в степи рассветы, закаты, июльские вечера, когда небо, всё небо крест-накрест волшебно осеняют, освежают звёзды, у Егорушки возникают наивные мысли о смерти и о душе умершей бабушки. «Когда долго, не открывая глаз, смотреть на голубое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознании одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далёким и не имеющим цены». Настроению этого момента соответствуют поэтические образы, рассеянные по разным главам повести, но объединённые повторяющимся определением: «одинокий». Одинока степь, тополь на холме, коршун в небе и могила у дороги («а в ней – одинокая душа»). Одиночество, думы – и чем глубже печаль, тем дальше уходит то, что составляло главную цель в жизни. В душе Егорушки как бы происходит переоценка ценностей. Он уже не плачет, сидя на передке, – думает о Варламове – неуловимом, таинственном человеке, которого все ищут, которого презирает Соломон и который необходим даже красивой графине Драницкой. «А какая она красивая!» – думал Егорушка, вспоминая её лицо и улыбку. Егорушке хотелось думать о Варламове и графине. Больше – о графине. В мозгу возникали самые фантастические образы. Собиралась восходить луна»… «Даль была видна, как днём, но уже её нежная лиловая окраска, затушёванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсей Мойсеича под одеялом».
С самого начала в чеховской «Степи» поражает общение людей, даже тоньше: человеческих душ. В обозе, в дороге люди общаются, и это общение в пути, как нигде, быть может, раскрывает их; а Егорушка, сидя на тюке шерсти, видит не только одинокую степь, но и людей, идущих за возами, слышит, о чём говорят возчики. Портреты возчиков показаны яркими, запоминающимися. «Сила писателя, – говорил Лабрюйер, – заключается в умении хорошо определять и хорошо описывать». Определения точные, сжатые. И, когда читаешь описания, смотришь глазами Егорушки или автора, видятся картины степи – и не отпускает странное, загадочное, труднообъяснимое чувство, какое-то грустное и, в то же время, радостное: как будто и сам ты посреди этой степи в обозе. И что – и «простору много», и хочется «призывать: певца, певца!» – это чудо чеховского стиля.
И тоскливо, и оторопь берёт. И если смотреть на жизнь и степь глазами любого из персонажей, кроме Егорушки, – деталей не увидишь, многое пропустишь. Не случайно автор выбрал такого острого наблюдателя с «остранённым» взглядом: удивлённым, изумлённым – и с детским сердцем восприимчивым, отзывчивым каждому движению извне. Восходы солнца, дневной зной, закаты и ночное бдение у Егорушки совсем иные, нежели у взрослого: нет и не может быть повседневной суеты в детском мировидении, нет привычки к обыденке, убивающей душу. Нет и любви к деньгам – всего того, что присуще взрослому. Ему, ребёнку, не нужен купец Варламов – ни к чему продавать шерсть. Душа его свободна до самых звёзд. Созерцание Егорушки носит сказочный характер. «Непонятно и странно, – размышлял Егорушка. – Можно, в самом деле, подумать, что на Руси ещё не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские кони». Он способен воспринять чудесное, значит – способен и верить. Так и таскают его за собой на возу грешные, каменные люди – его, плачущего ангела… То ли будет спустя сто тридцать лет! Те ли страсти заполыхают! Разрывами бомб и фугасов начнут приветствовать взрослые люди рассветы и провожать закаты…
В обрисовке характеров, портретов, людей в степи и в русской жизни Чехов достиг небывалых высот и больших философских обобщений: через экономию красок и сдержанность характеров, выразительность диалогов (то есть мастерство драматурга) и колоритный подтекст. Он намеренно чурается выводов, избегает прямолинейности – только подсказывает нечто… В сцене обеда за кашей «шёл обычный разговор, и Егорушке все эти люди казались с прекрасным прошлым и очень нехорошим настоящим» – и в этом тоже сказывается ангельски-детская душа Егорушки. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка ещё не знал этого и, прежде чем каша была съедена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорблённые и обиженные судьбой». О каше, разговорах за едой писали и до Чехова, и после него. Но кто из пишущих поднял разговор за этой самой кашей до философских высот? Кто наметил эти самые высоты – так, таким способом: взглядом ангела на тень? И когда читаешь подобные сцены, всегда что-то вспоминается и из нашей теперешней жизни, примешивается и что-то своё. И хочется такие эпизоды записать или переписать на наш, сегодняшний, лад. Отдельно додумать, переварить – и размышлять над ними.
О чеховских деталях, о редкостном умении автора определять и называть – писали много. Многому можно научиться у Чехова. Вот хотя бы начало грозы в степи: «Налево как будто кто чиркнул спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска – и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше» и т. д. Егорушка видит, слышит, чувствует и понимает, что вот-вот пойдёт дождь: «Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо». Не забыть Егорушке этого дождя, грозы и всех чувств в ночной степи. На минуту он как будто оказался один на один с Богом, с первыми каплями дождя, ударами грома, вспышками молний. Страшно! На всю жизнь запомнится ему эта ночь: «Егорушка быстро обернулся вперёд и, дрожа всем телом, закричал: – Пантелей! Дед! – Трах! Тах! Тах! – ответило ему небо».
Золотники тонкого юмора, шутки, реплики – как бы мимоходом – рассыпаны во всех чеховских рассказах и повестях. И тут его, автора множества ёмких рассказов не́ с кем сравнить. Тут нет насилия над шуткой, нет подделок языковых и диалога – под ложную народность или просто «смеха ради», нет деланного напоказ «юродства», которым запестрела впоследствии проза постреволюционного соцреализма. «Печальное нужно услащать шутками»[12]. Шутки, впрочем, не так уж часто встречаются у Чехова, но – они оригинальны, их не спутаешь с анекдотами, в них не найдёшь ни пошлости, ни яда.
Егорушка и старик Пантелей, старый да малый – сквозные персонажи в чеховской «Степи». При всех различиях эти два героя повести сходны в доброте, искренней сути русского национального характера. И здесь писатель Чехов стоит особняком во всей русской литературе: крепкий и добрый талант. И не оттого ли так страшно именно у него звучит признание Мойсея о брате Соломоне: «Он и меня, брата, не любит. Ничего он не хочет!».
…А электричка наша свистела и летела вперёд, к Москве, стремительно, точно стрела, пущенная из арбалета. И так же стремительно, знакомым сюжетом повести открылся мне «новый» Чехов – знающий многое и многое скрывающий. И не отпускало чувство, сходное с чувством чудесного «узнавания» Егорушки, – чувство насторожённости и, вместе с тем, какой-то милой и редкой радостной грусти, будто возвратился в своё детство.
Егорушка плакал, когда его отправляли в ученье. С плачем приходит человек в этот мир, зачастую с плачем и покидает его. Конец повести – тоже весь в слезах: «Он опустился в изнеможении на лавку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь началась для него… Какова-то будет, эта жизнь?».
Последняя фраза стоит особняком. И надо быть Чеховым, чтобы закончить лирическую повесть-роман глубокой философской фразой. Можно только додумать, досказать продолжение повести. Ну, конечно же, не самая радужная будет жизнь в кадетских корпусах. Эта житуха ярко дана и у Лескова, и, быть может, ещё острее и полнее – у Куприна: в «Юнкерах», в «Колесе времени». А пока – жизнь в «нахлебниках» среди чужих людей, в чужом углу. И что же! Удивительно, но вопрос этот не печалит. Все мы задаём себе постоянно на переломах судеб один и тот же вопрос. Он, Антон Павлович, взывает и к нам, читателям, едва ли не всеми своими писаниями. Удивительный вопрос мы задаём себе: «Какова-то она будет, эта жизнь?»
Надежда на лучшее – всегда присуща автору. Захватывает она, обнадёживает. А пока ничего, по сути, не изменилось за «эти сто лет», разве вот Соломоны Соломоновичи добивались – и добились своего, стали нужнее варламовых. «Нуж́ ники» эти превзошли все видимые и невидимые запреты, самим Богом установленные, попирают эти законы… Некоторые Мойсей Мойсеичи съездили на Землю Обетованную – и вернулись обратно «в эту страну», окунулись в ту же нынешнюю бедность, и безнадёгу степную, общую, от которой и уезжали, бежали, которая им обрыдла перед отъездом за кордон и вскорости стала даже и мила, когда вернулись в страну проживания, – всё познаётся в сравнении. А так – что изменилось в нашей жизни московских «степняков́», столичных «кочевников»? Ничего. Но там, в «земле обетованной», никто их не ждал и не ждёт, и не удивительно, так не раз бывало, и не только с ними. И в литературе тоже, так же – по сути, ничего не изменилось. Разве вот привили народу отвращение к книге, оглупил́ и интернетом, оглушили рекламой – и стригут человечье стадо. «Шерсть» бросают они с усмешкой варламовым продавать, мотаться по мировым просторам… Разве вот – то, что даже и Чехов, и Астафьев – связками своих книг стали появляться в мусорном контейнере, – не показатель ли того, что мы превращаемся в стадо? И Куприн́, и Горький, и Скиталец – неинтересны нам, перестали интересовать… И – всё так же гремит гроза, ссорятся не на живот за обедом из-за ложки каши ущербные обозники. А, быть может, если бы читали хорошие книги, если бы верный взят был тон всевластным Варламовым, степным главарём всемогущим, если б не гонялся он так за прибытком… Может статься… и счастливее стали бы, и жизнь надёжнее бы… или нет?
…Перечитал «Степь» – и показалось, что Чехов стал ещё понятней и ещё ближе. Хоть ничего, впрочем, и не случилось особенного. Сосед мой в полосатых шортах удалился едва заметно, я остался один. Вагон электрички мотну́ло, состав затормозил, встал. В Москве шёл дождь и пятнил асфальт. В тот же день узнал я, что большой, очень большой чин из Роспечати выкупил и вернул в Россию письмо А.П. Чехова (из Великобритании, где оно оказалось). Письмо написано было в Ялте и отправлено 2 марта 1901 года специалисту по иконописи Никодиму Кондакову. В те далёкие девяностые, когда так ратовали за свободу и демократию, некто N.N. увёл из архива Российской Академии наук и продал письма Чехова на аукционе «Кристис» за 7000 долларов. Этого инкогнито Лопахина новоявленного будто бы так и не нашли – не искали. А вот письмо выкуплено, возвращено теперь. Выкуплены назад и возвращены изделия от Фаберже, вернулись и некоторые картины. И такой возврат должен утешать и радовать – но отчего-то не радует и не утешает. Много-много писем предстоит ещё выкупать нам. Профукали, проторговали – и разворовать позволили, вырубить цветущий прекрасный сад вишнёвый. Оттого и настроение – как в известной одноимённой чеховской драме, где под занавес старый мудрый служака, весь отдавшийся на волю господам, жизнь положивший двум от них произведённым поколениям, подходит к двери, трогает её за ручку, восклицает: «Заперто, уехали…». А его забыли, – человека забыли. Быть может, единственного во всей этой драме-комедии человека. И далее: «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».
Пьеса «Вишнёвый сад», последний акт, последнее слово: «Человека забыли». И по прошествии ста тридцати лет так и не вспомнили о простом Человеке, которым только и стои́т, и держится – мiр.
1993–2011
Чехов и Мопассан
Перечитывал А.П. Чехова, в том числе и рассказ «Архиерей». Удивительное мастерство. Рассказ был написан в 1902 году – вершина творчества. Когда читаешь рассказ, невольно охватываешь взором русскую жизнь: луна, тени за окном, старая мать с племянниками, окружающие архиерея люди с думами «себе на уме», хмурое небо, снеговая грязная каша…
Вербное воскресенье выбрал А.П. Чехов для рассказа «Архиерей». Не могу назвать рассказа лучше, удивительный шедевр, исключительное умение дать явное через тайное. А какое совершенство формы. Скажут: не велика заслуга хвалить хвалёных, и всё же… Чехова сравнивают с Ги де Мопассаном, такие разные таланты. Под пером Мопассана жизнь нередко убога и вульгарна. Мопассан смеялся, плакал со своими персонажами, но никогда не задавался вопросом: «Что же будет?» И скорее всего не верил, что жизнь будет лучше, что вообще возможна «хорошая» «французская жизнь». Главная задача Мопассана – открыть общее через единичный, казалось бы, факт. Чехову – гораздо важнее движение человеческой души.
Открытия Мопассана радуют, но не поражают. «Нормандец», «Туан» («Антуан», «Туан – моя марка»), «Пышка», «Лунный свет», «Плетельщица стульев» – заставляют и улыбнуться, и погрустить… и посмеяться. Ранний Чехов тоже смешит, но он не насмешлив (в противоположность Мопассану, этому «выученику Гюстава Флобера». Мопассан, как предполагают иные исследователи, был внебрачным отпрыском непревзойдённого мастера слова – Флобера. Он и обучил «сына» искусству тонкой иронии на французский манер). И всё же «Мопассан холоден, как лёд. Порой – как леденец», – так сказал о нём классик японской литературы Акутагава Рюноске. И попал в десятку.
А.П. Чехов не холоден нигде. Наш классик тоже высоко ценил талант Мопассана именно за отчётливое чувство личной свободы. Это «чувство свободы» нелегко далось французам. Они прошли через суды, и не однажды. Флобер – по обвинению в публикации «безнравственного» романа «Мадам Бовари», который признали аморальным. Роман не запретили, но «рекомендовали писателю соблюдать приличия». Мопассан – за некоторые стихотворения, за поэму «На берегу» – тоже осуждался. Флобер поддерживал «сына»-«выученика» (выражение по П.В. Боборыкину) во всём. Иронично писал о том, как представлял себе суд над Мопассаном «по обвинению в порнографии» (заметим, они привлекались к суду за несравнимо меньшие вольности, чем те «публикации», которые позволяют себе сегодняшние «литераторы» у нас). Известные книги Бальзака, Стендаля, Гюго и др. – запрещал Ватикан… И Золя преследовали, и удушили дымом то ли «за убеждения», то ли за защиту Дрейфуса. Настолько свободны были писатели Франции при всём принуждении «господ сочинителей» к соблюдению моральных норм… Теперь, в нынешней Европе, это кажется невероятным.
…«Чувство личной свободы» все названные и признанные писатели и у нас отвоёвывали непросто. Старый профессор в «Скучной истории» Чехова говорит: «Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы...»
И.А. Бунин в очерке о Чехове тоже говорил о чувстве личной свободы – и своей, и писателя Чехова. Определил Иван Алексеевич важнейший вопрос так: «Эта свобода не прошла ему даром»…
…В рассказе-шедевре «Архиерей» много того, что никак не назовёшь сродством чувству личной свободы. Этот кусок жизни так подан, что волнует и сейчас – и беллетристов, и тех, кто ориентирован на классиков. Удивительно: рассказ по памяти, если начинаешь пересказывать, – то и пересказать-то (как будто) нечего, всё происходит внутри самого Архиерея, с его душой случается. А точнее – с душами каждого из нас и с нашими судьбами: повышения, понижения по службе «по карьерной лестнице», учёба, служение… И главное – то именно чувство одиночества, когда с кем-нибудь хочется поговорить, и… не с кем. Единственно, надежда увидеться и перемолвиться с матерью. Но и она отделена от сына его высоким саном.
А.Н. Толстой говорил: «Чехов выцвел, как акварель». Чехов – удивительно современный художник. Всё это: кухарки, сумерки, мужики, овраги и сейчас можно найти без труда. То, что называют «мраком» и «унынием» в его писаниях, – всё решительно от жалости, сочувствия и необычайной любви к людям. Этого не видят, не желают понимать и принимать. Но и сам А.П. Чехов, к сожалению, не обладал властью освободить и ближних, и себя самого от власти греха, «рабства» (которое он «выдавливал по капле»). Он мечтал о личной свободе, о свободе для всех людей, не только для литераторов. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице…» (И. Бунин).
И всё же непонятно отчего умер Архиерей? От несвежей рыбы? От брюшного тифа? От отравления? От тягот нашей жизни? Оправдан ли такой конец рассказа?
Архиерей заболел от одиночества, от неустроенности. Ни одна душа не понимала его, сло́вом не с кем перекинуться было: отец Сисой, келейники, Вербные воскресенья… О том же (в другом рассказе) трогательный разговор Ионы с лошадью. О том же «Дама с собачкой» и ставшее нарицательным, символом одиночества: «а осетринка-то была с душком»… Болезненные, с усталости, серые, «безнадёжные» рисунки жизни?.. Так ли? Но от изображения реальной жизни, от меланхолии и картин, как бы написанных от уныния и серости многих чеховских героев, – жизнь не стала ни лучше и ни хуже.
Чеховские герои – «маленькие люди» – «с охотой» показывают сами себя – нам самим – показывают (через свои потаённые черты) нас же, все наши или многие наши недостатки и достоинства. Мужчины в произведениях Чехова безвольны, бездельники, лгуны, мечтатели… Женщины у Чехова – глупы, слезливы, нечистоплотны, нахальны… Прелюбодеяние и женщины, и мужчины – все считают грехом, но сожительствуют со всяким и со всякой… Одна из важных черт жизни – расхождение слова и дела. Так было до Чехова, было при нём и – позже, и теперь. Писатель словно говорит нам, упрекает, что люди, как бараны, долго соображают: что делать перед новыми воротами. И если им сотворяют-делают иную «жизнь», обрушивают им на головы «реформы» – то обязательно таких дел наворочают, что только держись. Суть же проста, как говорят в народе: «Всяк за себя, оди́н Бог за всех».
Чеховские архиереи, учительницы, мужики – в себе носят именно национальный характер. Не лишённые воли к жизни, иные, стремящиеся к высотам архиерейским, – умирают в догадках о сущности бытия, человеческой породы, и вообще – о надобности жизни…
В тоске и «мрачности» А.П. Чехова – такая несказанно бездонная христианская любовь к человеку, что трудно сыскать подобное сострадание у других признанных классиков. И это выгодно отличает Чехова от «свободных», вернее – от отсудивших себе право «личной свободы» французов. Этого почему-то не видят ни критики, ни читатели. Об этом не пишут и не говорят, то ли не понимают, то ли замалчивают. Битва за «свободу» французами, да и всей Европой «выиграна». Но вот только что́ обрела от этого мировая литература…
1993
Возвращение снега
– Поздравляю, – сказал Горышин после объявления результатов по приёму молодых в СП России, – теперь пойдём в одной упряжке…
Семинар по прозе был жёсткий: четверо вновь принятых – на четверых из приёмной комиссии. Я с облегчением вздохнул, только выйдя на снег, на крыльцо. Здесь Горышин и поздравил меня. Здание владимирской администрации возвышалось над городскими кварталами. Панорама была чудесная… Снег, солнце и ветер.
Был апрель в начале, распущенная синька в лужах и схваченные морозцем сугробы. Высотки-дома среди приземистых, как со старой открытки, халуп. И на всё я смотрел по-иному, снизу – вверх, и под другим углом зрения. Быть русским среди русских, среди писателей – не об этом ли мечтала душа? Лобанов, Личутин, Володин и Кожинов, Старшинов, Паламарчук и Куняев…
Глеб Александрович говорил меньше всех – и чаще о том, что ему не нравилось. И о моей повести, и о людях, и о характерах, прописанных в ней. Говорил, пожалуй, даже более резко, чем следовало. Вполне земной, он сам предложил побеседовать нам, четверым, в номере, в гостинице, куда нас определили, «прокатив» по «Золотому туристическому кольцу». Предложил погостить у него час-полтора, – решил он послушать наши молодые души, как я теперь понимаю…
Грязный сахар сугробов время от времени шумно рушился сам собой и рассыпался возле наезженного шоссе, съезжал по скатам крыш, а мы тёплой компанией двигались в гостиницу к Горышину. В то утро на встрече с обладминистрацией я был настроен увидеть настоящего Ю. Власова (штангиста, журналиста, писателя, победителя олимпиады в Риме, в прошлом продемократически настроенного, но позже – спохватился он, одумался). Но оказались мы на пышном фуршете «не у того» Власова, и я сказал об этом Горышину. Тот засмеялся. Он читал «Солёный пот», «Первые радости», высоко отзывался о его книге по запискам П.П. Власова (отца писателя) «Особый район Китая». Я сообщил Горышину о публикуемой книге Ю. Власова «Русь без Вождя», которая вот-вот выйдет в Воронеже.
– В Воронеже много известных и достойных писателей и художников, многие из них уже ушли: Гавриил Троепольский, Владимир Гордейчев, прекрасный художник Василий Криворучко… И вам, молодым, надо знать и помнить об этом…
Посмотрев вверх, помню, сказал ему:
– Глеб Александрович, взгляните: пора прекрасных облаков, – так, кажется, определил Иван Бунин русский апрель…
Облака над Владимиром и впрямь были великолепны. Огненные, они шли-стояли высоко и ослепительно, поминутно менялись самыми причудливыми очертаниями. Горышин, худой, высокий, чуть сутуловатый, с какой-то щеголеватой грациозностью ловко перешагивал через ручьи, сторонясь бокового ветра. Под ногами у нас – ледяная чечевица, необычайно скользкая, над головами – синева с белизной, главы владимирского Кремля, – так и запомнилось навсегда…
По дороге от здания администрации Владимира до гостиницы «Золотое кольцо» поймали попутку. «Жигули» довезли нас: Илью Рябцева и Володю Куковенко, всю дорогу прижимавшего к сердцу свой новый роман «Смута» в 600 страниц (с мал́ ыми добавками на ходу), отрецензированный Семёном Шуртаковым. До этого Куковенко вконец замучил нас чтением глав из этого романа, и было счастьем то, что он замолчал.
Заочно, по книгам, знал я Горышина давно – по «творческому наследию». «Наследие» это было довольно большое – тридцать книг прозы: эссе, критики, рассказов и повестей, сборники стихов (последний он прислал мне под Рождество с посвящением). Повесть «Поют на кладбище дрозды», получившая премию Ивана Бунина СП России, радовала главным – тем, что ищет каждый писатель: той созерцательностью, которую находят и чувствуют немногие. Внушал он:
– В «наших» издательствах смена поколений трудна, трудней, чем у так называемых «правых». Правое крыло по талантливости слабей, гораздо. Зато со сменой поколений там круто: шумну́л – и ты уже на гребне, и ты уже «Букер». А шумну́ть помогают изрядно – редакторов прикрепляют к молодым. Но и пропадают так же: канул в Лету – и нет новоявленного «гения», камнем…
И, глядя на нас, загрустивших, подмигнул, потрепал по плечам: – Так что обиды у вас не должно быть, ребята. Просто надо писать очень много и очень талантливо, а слава сама найдёт вас, приложится. Судя по тому, что представили, вы – из ранних, но даровитые. И всё же перезреть полезней, чем не дозреть: во-первых, биться в издательства науч́ итесь самостоятельно – это закаляет характер. Во-вторых, не будет издано вещей слабых, из-за которых потом стыдно по улицам ходить. По себе знаю.
– А было так и у Вас, Глеб Александрович?
– И не раз!
…Посмеялись, ожили, в номере его налили сухого вина. Дымили и дымили без конца, надавили окурков в пепельницу…
– …Да мы и не в претензиях, Глеб Александрович.
– Ну как же. Вон он (показал на Куковенко) для того, чтобы рекомендовали в СП, экий романище закатал. А скажи ему, что на две третьих сократить надо – ведь непременно обидится. Ведь обидишься, Володя? И радуйся, что ты ещё не нашумел, а значит, тебя не «использовали», у тебя всё впереди. Ты молод, здоров, талантлив. Известность по́ртит, «распросу́ка-слава», как говорит У. Джеймс… Закричат, замусолят, потом издадут всё, что надо и не надо, в том числе и то, что вообще лучше бы не издавать. В итоге выплюнут – и забудут. Навсегда. Впрочем, сейчас такое время, что серьёзная литература никому не нужна.
Слова Горышина были весомы и печальны.
– Но ведь это временно?..
– Нет ничего более постоянного, чем временное…
После обеда на двух автобусах отправились на экскурсии. Посмотреть во Владимире было что – и радостным молодым прозаикам, и печальным, в основном, не принятым в СП поэтам… Любовались из окон «Икаруса» на храмы; вспыхивало и вело вперёд наши взгляды отражение солнца по дорогам, перескакивало по руслам и рукавам Клязьмы и по ручьям, бежало вдаль, словно по рельсам. На стоянках ледок звенел под каблуками. Прямые волосы Горышина, седая короткая бородка, частое курение… Я догадывался, что ему не всё нравилось из того, что происходило в СП (статья в «Литературной России» о пленуме в Санкт-Петербурге впоследствии подтвердила мои догадки), и, когда мы выбрались из автобуса, он шагал особенно размашисто, вбивая каблуки.
Вечером вновь разместились вчетвером в его номере с открытым окном. Было свежо под коротким негреющим солнцем при ветре. Глеб Горышин подписал мне журнал «Бежин Луг» (гл. ред. Апасов) с повестью «Последний раз в Китае». Хотелось быть бесшабашным и бескорыстным, смеяться и пить вино. За Горышиным пришли приглашать на съёмки для ТV, он отказался. В буфете ресторана была хорошая водка, мясо по-татарски, чизбургеры и тёплые чебуреки, огурчики редкого суздальского посола, курочка с «озябшей» корочкой и покрытая желе холодца из холодильника, – всё было в порядке. Оставалось и домашнее…
Не знаю, почему так поразил меня его самодельный ножскладенёк, – этот обвязанный изолентой нож, с которым он любил ходить по грибы за рыжиками и валухами, за темноголовыми боровиками и стройными подосиновиками. Такой бедный, нищенский нож был бы более присущ какому-нибудь пастуху из деревни или конюху, но никак не писателю международной известности. Перечитывая его письма и прозу, вспоминаю этот нож, волей-неволей думаю о «благородной и достойной» судьбе русского писателя, о России…
Глебу Горышину тогда шестьдесят шесть было, соборам владимирского Кремля – около восьмисот лет. Сколько поколений наших пращуров создавало христианскую культуру, мощь и силу государства Российского, а теперь в холле гостиницы иностранцы и соотечественники расплачивались за матрёшки и регалии русского офицерства долларами… Разнузданная пляска доллара по русской земле! Апрель 1996 года.
Широко известны у Глеба Горышина: «Хлеб и соль» (1958), «В тридцать лет» (1961), «Земля с большой буквы» (1963), его воспоминания о былых встречах, о друзьях: Василии Шукшине, Владимире Торопыгине, Дмитрии Острове… О чём думал он, что писалось ему в последнее время, разберут ли черновики его наследия? Седая бородка, судя по тому, как он пощипывал её, – недавняя, непривычная; длинные прямые волосы, высокое чело в глубоких морщинах. Он всё время размышлял о чём-то неизвестном, видел (казалось) что-то, невидимое другим…
Храм Покрова на Нерли, владимирский Успенский собор, рака Александра Невского, Золотые Ворота, мужской монастырь в Суздали – всё это будет и потом, и долго продлится, с восторгом нашим и с нашим молодым задор́ ом… М. Лобанов, Н. Старшинов, Г. Горышин – подарят свои книги с посвящением. Такой приём в СП запомнится надолго, навсегда.
– Завидую, Василий, – по-доброму сказал мне Горышин, прикуривая, – меня принимали гораздо скромней. Кстати, – показал он на домик из окна автобуса в центре Владимира, – видишь это зданьице, как думаешь, чей он? Правильно, Солоухина Владимира.
…Всё это было, а в Суздали мы стали уже совсем своими, друзьями. Почему я сразу выделил его, молчаливого, из всех, красиво, громко говоривших и разудало-задумчивых на камеру, восседавших в президиумах, не знаю. Наверное, долгое и продолжительное размышление о жизни накладывает какой-то особый отпечаток на внешность, на человека: нравственность и серьёзность способны чувствоваться на расстоянии. Может быть.
Мы говорили о Домбровском, о его публикациях в «Новом мире», о последних днях Б. Зайцева и Ю. Казакова и опять, вновь и вновь возвращались к Ивану Бунину, с которым накрепко связаны имена многих русских писателей.
– Глеб Александрович, так что же было на самом деле тогда, в «Авроре», на юбилее Брежнева – просто ли совпадение? Теперь уже можно и рассказать.
– Да, да, именно, совпадение.
«Совпадение» стоило ему в ту пору (он был главным редактором журнала «Аврора») обширного инфаркта…
Нет, и тогда – в спокойные и «застойные» времена – всё было далеко не так просто, как может показаться теперь.
Г.А. Горышин поразительно напоминал мне одного из типажей шукшинского фильма. Там очень яркий колоритный мужик двухметрового роста вышел вдруг выбивать пыль из ковра.
– Вытряхивать… Пашка Колокольников, – подсказал Горышин. – У тебя, Вася, писательская память.
И он стал рассказывать о съёмках известного фильма В.М. Шукшина в Алтае: о том, как водитель такси вёз его километров пятьдесят от трапа самолёта на съёмки, а узнав, кого везёт, да ещё и к Шукшину… «…И денег не взял, – смеялся Горышин. – Я тогда за эти съёмки десятку заработал. И пропил бы, да Шукшин к тому времени не пил уже… Сердце? Нет, сердце у него никогда не болело – нервы… желудок. Голод затевал нас тогда для жизни, Царь-голод. Здоровенные гули вздувались у Шукшина на скулах, скрипел зубами… Он, по его признанию, и спал со сжатыми кулаками. Душой жил…»
Говоря о Шукшине, затронули Анатолия Дмитриевича Заболоцкого. «Он теперь кинооператор на «Мосфильме»… – Горышин рассказывал о его помощи Шукшину на съёмках «Калины красной», о том, какие фотоработы он выставляет, что он – любимец Астафьева. И с горечью добавил: – А сам Астафьев становится всё более одинок. А ведь это – совесть нации: Шукшин, Астафьев, Заболоцкий… Нет, ребята, пожалуй, я на ужин не пойду, тяжёл стал…»
Но кто из нас думал об ужине тогда… И всё же сдвинулись с насиженных мест, потянулись к автобусам, к знакомому владимирскому ресторану. На ужин успели (для опоздавших подали специальный дополнительный «Икарус»). Ехали в разных автобусах, молодёжь шумела:
– Александр Проханов должен был быть там, в октябре 1993 года, в Белом доме…
– Зачем? Тогда сейчас мы были бы совсем обескровлены…
– А я не верю им никому, – бубнил один из нас. – Я сам был там в 1993 году, нас предали свои же…
– Володя, – шепнули ему, – надо смотреть и слушать, а ты всё кричишь…
Был концерт, выступали М. Ножкин и Н. Старшино́в, пели песни Мельникова «Поле Куликово», «Поставьте памятник деревне»… Потом стояли «на горе́», у здания администрации, и было странно мне, как я из деревни рязанской – а вот вышел сюда, «в люди», стал писателем. Панорама Владимира, ночного города поража́ла воображение. Огни россыпью… Здание администрации Владимира выстроено давно, и – странным образом оказалось выше церквей. Полагалось бы и вместо здания администрации – отстроить на такой высоте кафедральный Владимирский храм, дождёмся ли…
…Моя последняя встреча с Горышиным случилась в середине мая 1997 года в СП на Комсомольском проспекте, 13, у дверей в секретариат. Поговорив, мы сердечно расстались. Я долго смотрел ему вслед, и отчего-то щемило сердце. Это была наша последняя с ним встреча. Запомнил и разговор:
– Вася, ты как здесь?
– Да вот, раздумываю: премию «Традиция» «прижюрили» за публикации в столичных журналах.
– В чём вопрос, обязательно зайди, спроси. Ты же не выпрашивал премию, сами дали…
Премия была в шестьсот рублей, и тогда уже – невелики были деньги, но совет Горышина был дельным, как всегда…
…Перечитываю сборники его стихов «Виденья» (1990), «Возвращение снега» (1996) – стихи небесно хороши. И удивительно: даже почти голода́я, в возрасте шестидесяти лет он от прозы перерос к стихам! Его преданность русской литературе, всему русскому – восхищает!
В день его ухода из жизни, в апреле, в ночь с 10 апреля 1998 года, – на Москву и на Санкт-Петербург опустился, обрушился свежий, необычный снег, такой волшебный буран «забелил» Москву, закружил в белом вихре! Какой-то целебной, удивительной чистоты и силы. Снег… «Возвращение снега», – так называется последний сборник стихов Глеба Горышина. Это его прекрасное сердце, душа его, уходя, этим большим снегом в небеса – «оглянулась и на нас, грешных», как говорят в народе.
Необходимо отметить, что не только проза и поэзия Г.А. Горышина – и интересны, и несомненно останутся в нашей литературе навсегда. Не только личность его и воспоминания. Эпистолярное наследие – тоже всегда вызывало у читателя интерес едва ли не больший, чем самые яркие произведения известных писателей. Письма Горышина прямы и точны, «натуралистичны». Не по лекалам выверены. Натурализм их семантичен честности. Из своего опыта знаю: когда умный поживший человек «натуралистичен» – тут уж и смотри, и слушай в оба.
…Говорил и писал Глеб Александрович всегда глубоко и ярко. Подмечал точно, с юмором – иногда с сарказмом тонкого, знающего человека. Ирония никогда не покидала его и не мешала глубокодумью. Вообще Горышин был прозаичен не для всякого. С редкими друзьями откровенен, много записывал в дневники, запоминал и вспоминал необычайно легко и подробно, был необыкновенным рассказчиком. Знал несколько языков. Неутомимый путешественник, он бывал в Африке и Америке, не раз в Китае и Владивостоке.
Он всё принимал и всё разделял: что влево, что вправо – и с виду легко, но только с виду… Сокровенным был человеком. К сожалению, когда мы встретились, сердце его уже болело…
Горько, что даже самая высокая философия оканчивается трагедией. Оглядываюсь назад, в прошлое, и не ведаю: то ли мы все потеряли его, то ли он ушёл в своё время и освободился от нас, путаников, и во время о́но так часто и так много досаждавших ему даже просто демонстрацией своего уважения. Он многое пережил и простил, написал более тридцати книг прозы и две – стихотворений. Публикации «Последний раз в Китае» (его путевые заметки, последние) – оказались пророческими. Там сказано так о девяностых на их излёте: «… Но в здоровом развивающемся организме китайской нации, даже при коммунистическом руководстве, нашёлся здравый смысл поворотиться к другому опыту, каким располагает человечество. Китайцев отпустили на волю, не совсем, не как у нас в перестройку, без этого шелудивого плюрализма, а дали крестьянам поработать на своей земле, горожанам – поторговать по собственным ценам. При сохранении партийной дисциплины сверху донизу. Что из этого получилось, хорошо бы нам присмотреться…».
Так записал он уже в 95-м году…
2008
Птица небесная
Памяти Глеба Горышина
30 апреля 2007 года. Вот уже десять лет нет с нами незаурядного писателя (до сих пор не оцененного по достоинству). Ушёл из жизни человек, с чьим именем крепко связана целая эпоха в литературе. Автор 32 книг, поэт, переводчик, лауреат Пушкинской, Бунинской премий – вся жизнь его была горением, освещающим путь идущим рядом.
Перечитывая Глеба Александровича Горышина, с радостью чувствуешь, как основательно и чисто в его русском доме, словно в уютной горнице рядом с протопленной русской печью: как бы ни пуржи́ло за окном, как бы ни морозило – тут надёжно, тепло, уютно.
…Целая плеяда новых имён в литературе связана с его, Горышина, поддержкой и заботой. Долгое время, будучи завотделом прозы журнала «Аврора», он открыл многих (в том числе, например, Анатолия Кима), – многих из тех, которым пришёл свой срок – прорасти в русскую прозу, а через неё – в мировую культуру, оживить завещанный предками талант – в вольном парении мысли, в музыке русской изящной словесности. Первые рассказы Василия Шукшина – обязаны своим появлением ему же, Глебу Горышину. Перечень имён можно продолжать, и все они будут удивлять своей значимостью, неожиданностью, засверкают разными гранями, так непохожими друг на друга… Но главное, чему учил он, – жить в поисках истины, помнить, что ежедневно угрожает опасность: спутать средства и цель, опасность опереться на мёртвую «букву» вместо того, чтобы почувствовать животворящий дух.
Перед Рождеством 1997 года Глеб Александрович выслал для меня книгу стихов – как впоследствии оказалось, последнюю, «Возвращение снега», с посвящением: «Василию Килякову. Сердечно». Смотрю на фотографию: мудрое лицо пожившего и много повидавшего, успевшего многое понять человека, с «омегой» вен на виске, с неизменной сигаретой (курить он так и не бросил, несмотря на запреты врачей).
Талантливые люди тяжелее, сердечнее воспринимают окружающую несправедливость. Израненное несколькими инфарктами, сердце не выдержало нынешней «дерьмократической» «либеральной» действительности. Теперь только Бог ведает – что, как и о чём думал он в последние годы, собирая грибы по осени, копая картошку с того участка земли, с которого кормился, и никогда не роптал… Он предостерегал от ненависти – как от эпидемии.
И всё следующее десятилетие от 1997-го – потери в стане воинов-витязей русской литературы, были одна страшнее другой: Н. Старшинов, П. Паламарчук, Э. Володин, В. Кожинов, Ю. Кузнецов… А то, вдруг – и Сергей Лыкошин («Артамонович» – не выговаривает язык отчество, настолько он был ещё молод, полон сил и всегда чужд официоза, прост, доступен). Все мы шли тогда, по словам Сергея Лыкошина, «цуѓ ом», помогая один другому. Година испытаний не миновала и теперь.
…Сегодня годовщина ухода Горышина – повод перечитать его прозу и поэзию, перечитать его письма, сдержанные, мудрые строки знавшего цену нашей жизни писателя. Скрытая ирония в игре слов, за которыми тотчас видишь его улыбку в горьком табачном дыму (единственное, в чём не был он патриотом – предпочитал импортный «чужой табачок»). Вижу необыкновенно ясно (ушёл… – как этому поверить?) – его, жившего, бывшего: высокого, седеющего, уверенного в себе, с аккуратной прибалтийской бородкой, всё схватывающего на лету, развивающего мысль в чисто русском надёжном стиле. Его, убедительного во всём, с которым часто хотелось спорить…
…Впервые, вслед за чтением его книг – воспоминаний о Василии Шукшине и Фёдоре Абрамове, я увидел его весной 1996 года во Владимире, где проходило Всероссийское совещание молодых литераторов под эгидой Союза писателей России. Он был немногословен, жёстко, даже безжалостно критиковал мою книгу… Реплики и упрёки его были так не поверхностны и незаурядны, что я тотчас понял, что судьба послала мне встречу с редким, непростым человеком. Впоследствии я узнал, что он одним из первых (за руководителем моего Литинститутского семинара М.П. Лобанова) рекомендовал меня в СП России, а затем разослал мои новые рассказы по журналам, где они и были опубликованы.
Уходит поколение людей, для которых ответственность и обязательность – главные черты, поколение красивых людей, испытанных войной, бессонным трудом. Это мастера подлинно «старой» школы в литературе. Они наработали тот богатый опыт и жизненный материал, из которого только бы черпать. Нынешние «нью»-модернисты, постмодернисты, куртуазные маньеристы, андеграунд – все те, кто манипулирует и выдаёт выхваченное и перевёрнутое за собственные изыски, пусть смолкнут. Уходит школа и традиции. Возвращение к основам случится нескоро и очень болезненно.
Глеб Горышин, «Глебушка», как называл его В.М. Шукшин, его товарищи по перу был заядлым любителем «тихой охоты», грибных мест. Раздумчивый бродяга и странник с самодельным ножичком-складеньком с деревянной ручкой и плетёной корзиночкой на плече, часто ходил он по лесу в совершенном одиночестве, обдумывая новую повесть или впечатление от поездки, что-то записывая на ходу, даже в рощице или присаживаясь на упавшее дерево. Он знал три языка, бывал не раз в Китае, Америке и ещё где-то, куда по тем временам долго не пускали даже его. (О ту пору пускали за кордон не всех).
Высокий, с печальным взглядом – мудрец. Он многое смог стерпеть, вынес многое с молчаливым достоинством. Подозреваю, что саднящие бол́ и и воспоминания он носил в себе глубоко спрятанные, – да так и не сказал, не написал о наболевшем, не успел. Никогда не забыть мне, как глядел он, с каким выражением лица, с каким сердцем – на церковь Спаса на Нерли, проездом из Владимира в 96-м… Да, вот ещё: не терпел он дурных пророчеств о России – он, объездивший полмира, которому было что и с чем сравнить, в том числе и своё житьё, и «свои обстоятельства». В моей жизни он был одним из тех немногих, рядом с которыми хотелось быть часто или быть возможно дольше. Смотреть, впитывать и учиться. Он даже и молчал по-своему, казалось: не молчал, а ума́лчивал… И вот, на Страстной, постом – покинул нас навсегда.
…Умер Глеб Горышин 10 апреля 1998 года. Точнее – не умер, ушёл от нас, «у́был», как случалось не раз ему убывать-уезжать надолго в странствия. Ушёл тихо Великим постом – и в день его смерти, в этот день, в разгар весны вдруг понесло таким буйным снегом по Москве, по Подмосковью лёгкими, белыми, необычайно крупными хлопьями. Снег шёл и шёл, когда мне позвонил из редакции «Литературной России» Илья Рябцев: «Умер, ушёл из жизни…» Снег в поздний апрель – редкость. Перемолвившись, всё ещё не доверяя горькому известию, я слушал гудки в трубке и всё никак не мог понять, смириться с таким сообщением. Впереди была Светлая седмица. Утешало ещё и то, что можно было помянуть его на Пасху, можно было перечитывать его вновь и вновь, и продолжать его дело.
…А снег шёл и шёл, устилал сад за окном и не успевал таять. Я взял в руки его книгу, которая так и называлась: «Возвращение снега». Снег вернулся в апреле. Было в этом нечто нереальное – такое неожиданное, но предусмотренное свыше совпадение, какая-то тайна: название его последней книги и – ошеломительная правда действительности. Он вернулся к нам вихрем снежных кружащихся хлопьев, которым не было конца…
Последние страницы его: «Картинки на бегу» – «Бежин луг» № 4 1997, «Подъём» № 5–6, отрывки из повести, публикации в «Нашем современнике»… И бесценный сборник последних стихов, особенно доро́гой для меня – как завещание, назидание другу: «Возвращение снега», издательство «Дума», стихи. Тираж 500 (!) экземпляров – как самиздат, унизительный для него, масштабного, знавшего тиражи своих книг и в полмиллиона экземпляров.
Он жил творчеством, вёл переписку до последнего дня. Сохранял верность литературе, дружбе.
Смерть в глаза не смотрит. Перед Новым годом Глеб Александрович лёг в больницу: болело сердце. Письмо от него было грустное: «За тот незримый окоём, где мир не изменил обличья…» – писал он в стихотворении. Туда теперь ушла и душа его. Туда взирал он, сличая жизнь свою – с рекой небесной, как в тот памятный день закрытия Всесоюзного съезда-совещания во Владимире, когда взирал на храм на Нерли (как показалось мне, со слезой, что надуло в глаза ветрами открытых просторов). И на храм смотрел, и в будущие снега, которые он не застанет уже на этой грешной и прекрасной земле. За облака смотрел, за дожди и за горизонты…
Горько, что всё реже на нашей творческой дороге встречаются такие, цельные и вдохновенные люди – попутчики и однодумцы.
- О, наши порывы благие!
- О, неба безгласная твердь!
- Как трепет свечи – литургия,
- Как птица небесная – смерть…
…Так писал он, Глеб Горышин, в своей последней книге стихотворений, подаренной мне, словно ведая уже, что недолго осталось ему… до вечности. У Бога живы все.
2008
Фактура, Шукшин и модерн
Размышления над рассказами В.М. Шукшина
Сегодня говорят ещё о постмодернизме, не замечая того, что само это явление – умерло, а где не умерло и подпитывается искусственно, – то отходит все дальше, даже не на второй, а уже и на третий, четвертый план. Постмодернизм, взявший начало от «дионисийской» догадки Ницше и ницшеанствующих (у Камю, и продлившийся у Борхеса, и в «Улиссе» Дж. Джойса «потоками сознания» и дальше – и у Кафки)… имеет суть отрицание Бога. Постмодернизм, по своей сути, – есть крамола на мир Божий и человека как подобие Бога. Он – «хуже афеизма», по слову Пушкина, – т. е. атеизма (и тем одним даже – хуж́ е, что в каждой поделке постмодерна сокрыт обман читателя и обман намеренный). Диалог игровой и подмена неминуема оттого, что опора этих поделок, основа их – не сама жизнь, а книги, когда-то и кем-то написанные. Читать «постмодернового» автора – всё равно как если бы предлагали блюдо, бывшее уже однажды в употреблении. Он, «постмодернизм», смотрит не на мир во всей его полноте и целостности, – но на деталь. Причём на деталь, намеренно неудобную или вымышленную, придуманную кем-то, когда-то. Причём, не брезгует ничем: ни подтасовкой-соединением времен и событий, а также склонен к одномоментной перемене мест. К примеру: доисторический Египет вдруг принимает среди своих пирамид… командира Красной Армии, и прочее, и прочее…
На двор, залитый солнцем, смотрит модернист, – но видит не голубое бездонное небо, а выщербину в подоконнике или трещину на стекле окна – не дальше собственного носа. Из этих пустяковин и вы-щербин он развивает «поток сознания», а то и пытается выстроить мировые догадки, или, напротив, суживает очевидные, ясные проблемы до простой телесности. Упоение этой телесностью составляет суть «новаторства» постмодерниста, и если при этом «красавица» принимает крещение, то она отходит от страсти и начинает «дурно пахнуть»… Кончилось время «андеграунда», «маньеристов», «куртуазных маньеристов», «постмодернистов» и проч., и проч. – всех тех, которые кичились своим подражательством и которые не только не стыдились, а даже и за честь почитали пустить и матерком, – чего не сделаешь ради разрушения (часто – под заказ) установленных правил и традиций или – ради того, чтобы заметили: «распросука» слава требует жертв, как языческий божок или идол. Но такая слава не вселяет надежд, она не правдива и не эстетична. Дождевые черви после ливня тоже охотно весьма выползают на мокрый асфальт. Но они не имеют возможности предугадать, чем это для них закончится. Человеку дана возможность предвидеть свою судьбу на Божиих путях. И вот, пожалуй, в том и состоит главная причина, почему «постмодернизм» на русской почве не прижился (хоть его и прививали – хвалебными статьями, гонорарами, тиражами и грантами), но он всего лишь некое фокусничество – «от идеи» – повторяю, запашок мертвечинки и явно уже побитого опарышем явления.
Сергей Есенин писал в письмах из-за Атлантического океана, что здесь нет людей, есть черви. Здесь невозможна подлинная поэзия, «ибо черви мыслить не могут». И далее слова, за суть изложения которых ручаюсь: он пишет, что ему милее русская лошаденка в поле, мотающая хвостом по ветру, чем сто тысяч чикагских улиц, в которых можно загонять только свиней, «на то там, вероятно, и лучшая бойня в мире». Единственное, на первый взгляд, явное влияние (и позорное) ушедшего постмодерна – то, что в русской литературе он нарушил временно корневую преемственность, последовательность передачи опыта и чистого русского слова от поколения к поколению. Теперь очевидно и то, что «клиповое» мышление или «игровое» восприятие мира, совмещение времен, переворачивание фактов, извращение традиционных ценностей – всё это надо выводить на верную дорогу. Мутный пахучий ручей должен иссякнуть и раствориться в широкой реке – Волге русского языка и русского мышления. Хорошо бы еще судить и привлекать по статье к ответственности неких успевших заработать на такого рода «литературе» «художников», в том числе и сценаристов, и режиссёров (точнее – тех, кто выдают себя за таковых, не имея по сути отношения к русскому театру) – за разложение нравов. Издававших словари с матерной бранью и уголовной «феней» – подсадить их в камеру к «Пуси-Райет» или хотя бы рядом. Ведь вот посидели девушки в СИЗО – и стали извиняться, одна за другой. Значит, помогает неширокая камера – умерить аппетиты, но… – как говорил Шукшин в своих рассказах: «но – к делу».
Итак, рука читателя, изрядно пожившего, изучавшего историю, литературу, а ещё того лучше – и старославянский, и древнерусский языки, – рука такого читателя среди корешков многих и многих рыночных или библиотечных книг выберет, конечно, близкого себе писателя. Писателя-почвенника. Я всё чаще снимаю с полки и перечитываю Василия Макаровича Шукшина.
Меня убеждают, и вполне серьезно, что компьютер, тот компьютер, что выигрывал партии у шахматиста Карпова, если переставить программу, – начнёт вышвыривать готовые книги, сотнями и тысячами, наподобие тех, коими завалены сегодня прилавки. Вводишь лексикон уличной девки (благо типажей – не сосчитать), нажимаешь кнопку, и – «они, как дохлые мухи, оттэда, из компьютера, сыплются» (говорил мне знакомый библиотекарь из Подмосковья). Сегодняшний читатель, за редким исключением, не признаёт, отказывается признавать «школу языка». Её так и называли некогда с давних времён: «школой» – от той «деревенской прозы», вернее – от честной прозы о людях и о земле.
Творящих и работающих на земле-матушке много. «Почвенная» проза и поэзия – верна, преданна, как добрая старая мать. Существует, вернее, существовала она изначально. Даже Дмитрий Сергеевич Лихачев, изучая её, любовался её чистыми истоками. В 1990-х пошло такое поветрие, что надо изучить все стили, особенно, те, что числятся как «стили заумного толка», «навороченные»; овладеть ими – и таким образом выработать свою технику письма. И вот, будто бы, путь к известности, к читателю и к славе – он откроется тогда мистически, сам собой. И примеры многие ведают: от Ю. Кима с его «Вкусом тёрна на рассвете» до Фандорина, совсем уж неудобоваримого с его языковыми подделками ваятеля, до – всё того же пресловутого с птичьей сорочьей фамилией мастера словесных монтажей…
И всё же, как ни дуйся лягушка, бегемотом не станет она. Бабочки-подёнки живут одну ночь или один день. И всё. К тому же, кто пытается влезть в окно, а не входит в овчарню через дверь, тот – вор и разбойник, как сказано в Писании. Даже крестослов́ ицу Андрея Вознесенского – и ту уже забыли. Забыли и «…на Васильевский остров я приду умирать»: громко, но оказалось – ложь. И забыли, а ведь автор сих громких словес – не пришёл… Ну, а если ложный крест, то и венец – ложный. Реализм Пушкина и Гоголя жив, потому что правдив и светел.
«Печально я гляжу на наше поколенье!», – сказано великим поэтом. Но всё то, что печалило его, повторяется и сегодня, причем с особенным поворо́том, словно с усиленным «гидрорулём». Этот поворот руля так крут и резок, что – механистической силой своей на всей скорости виража современности – заставляет нас прикрыть глаза и поверить, что уже последние дни доживает «иная школа», корни её – не в представлении, не в традиции: оттого и не читают. Не́когда (будто бы) читать, надо спешить, рулить рулем с усилителем, успевать всё, накапливать, в том числе и сущую белиберду – а «культуру повышать» современным способом: на биеннале, в Сахаровском центре или Винзаводе, «центре Гоголя»… Вот уж где спектр!
Влияние чистого русского слова на душу огро́мно, даже сегодня, в век «зрителей», «рули́телей», а вовсе не читателей. Для того чтобы читать, нужно хотя бы уметь держать внимание. Смотреть фильмы, диски, клипы – гораздо проще. И вот, изобретено «3-D», на подходе «4-D»… Тоже изделия, осколки постмодерна, но только – в образе, в кино, этакие «матрицы», рассчитанные на эффектную прямолинейность. Но ведь и «Матрица» – кино, так прельстившее многих, – было написано сценаристом, от руки, и – очень похоже, что «идейно» списано с изысканий и доду́мок русского философа Федорова Н.Ф. с его «космизмом».
И всё-таки необходимым кажется разговор о том, чего не даст и не может дать никакой, даже самый мастеровитый клип, никакой эффект голографии или 3-D (голографическим называют физический и химический состав, сохраняющий целое рисунка в любом случае, на сколько бы частей его ни делили). Итак, никакой эффект не даст ни при каких условиях, сколько бы денег ни заплатили и в какой бы новейший кинотеатр ни завернули, какого бы тисненого переплета, хоть золотом, диск «DVD» или книгу ни выбрали, – не даст он того наслаждения, которое дает сло́во. Важен не антураж, пусть и самый удивительный, – важна суть или, как её еще называют, «внутренний мир». Фильм ли, холст, книга, скульптура или поэзия – знания не должны быть накапливаемы только лишь разумом, как копилкой, важно всегда в искусстве, как нигде, целомудрие. Разум должен быть возожжён сердцем, вот и весь секрет подлинного, предметного ви́дения. Никакой калейдоскоп никакого тысячелетия не смог бы дать того «прогресса», который дал Человек-Слово, Богочеловек по причине Его горения, сердечности. Вот почему, язык, сказки и притчи, которые человек слушал с колыбели, младенцем, тот язык, с которым возрастал, – никаких фокусов не предполагает, а предполагает чувство, сочувствие. «Упало яичко и разбилось…» – и кажется, всё просто. Прост «Пророк» и «Анчар», «Памятник», пусть и переложенный Державиным или Пушкиным; но поменяй в этой поэзии «архаизмы» – те, что от сердца, и гениальные творения на века́ – увянут мгновенно. Отчего? Да попросту – оттого, что корни глубоки. Они – в недрах народного мыслечувствования. Так глубоки, что отсечение любого из них невозможно, как в лексическом строе, так и в нравственном, и в эстетическом. Отруби,́ искази́ модерном – и вырастет гибрид, «не то сын, не то дочь» – а подлинно, «невед́ ома зверушка». Или – только попробуй измени,́ рискни,́ высокий церковно-славянский языковой строй в исповедальной речи святых отцов на уличный, заурядный – и вот уже не будет той глубины даже и в поразительной чистоты и си́лы покаянном каноне Ефрема Сирина, высоким стилем, языком написанном…
А Василий Макарович Шукшин – это и есть Школа. Школа с большой буквы. И никакими усилиями русскоязычных не погасить величия этой Школы: чтобы принадлежать к ней, – нужно иметь досто́инство.
Для чего же с непонятным упорством, достойным лучшего применения, сокращают в школах часы русского языка и литературы?.. И начинает вериться, что и в Дагестане, по «ЕГЭ», набирают при сдаче экзамена в два раза больше баллов, чем в Москве и Петербурге… Хочется спросить по-милюковски: что это, глупость или измена? Но сегодня не ноябрь 1916-го года… Православной вере наших отцов и дедов – отказано даже в виде факультативного курса. «Светская культура» или «История религий» – пожалуйста. Родителей вызывают для подписи «листа согласия», выбор невелик: «Светская культура», «История религий» и «Православие». Когда я попросил обучать моих детей в школе Вере Православной (которая тоже была в списке), мне ответили: желающих этого «факультатива» настолько мало, что «мы бы не советовали… один-два ученика». Какая странная демократия! Но разве можно понять нашу литературу: Чехова, который выстроил церковь в Мелихово и сестры которого пели на клиросе, Аксакова, Тургенева и Шукшина – без укорененной в сердце веры? Не секрет: даже те, кого признали «гумани́стами», по глубинной сути, на деле, а не по форме в России (писатели и, тем более, философы), – православные, славянофилы. Или тайна и сегодня, что философия и литература – русская классическая литература Серебряного ли (отчасти), Золотого века – две служанки именно Вере Православной?
Я возвращался домой, вспоминая предостережения Астафьева, Курбатова, Шукшина… И даже остановился от воспоминания шукшинского имени! Легко представить себе, как отнесся бы к такой «демократии» Василий Макарович… Вся литература о современной деревне – и Шукшин, Василий Белов, и Валентин Распутин в этом ряду едва ли не первые – честная, бескомпромиссная. Кроме того, она ярче, самобытнее, «кондовее», чем городская. Это тотчас, с первых слов любого рассказа этих авторов бросается в глаза, добирается до сердца. Характеры живее, разнообразнее – у нынешней «новой прозы»? Конечно же, нет. Вот замечательные писатели, взять любого: Ф. Абрамов, В. Личутин, В. Распутин, П. Краснов… – авторы жили в селе, знают не только быт, но и всю подноготную не понаслышке (второй план своих сюжетов они выстрадали) – и знают так, как это могут знать только в деревне.
…Я сегодня живу в городе – и что я знаю о людях, даже в том подъезде, в котором живу? А в соседних домах?.. Могу сказать только нечто общее, то, что знают многие, если не все. И это при том, что «второй» моей натурой стала наблюдательность, которая мучает и, одновременно – отрадна. Чаще – невольная, незаметная для себя, – пристальная наблюдательность, которую часто находишь именно у Шукшина, Бунина, Чехова и которая роднит с ними и сближает со всей русской литературой.
…Время нынешнее – смутное и ненастное – будто предсказано всем творчеством В.М. Шукшина. Он чужд «модерну», прям и (на первый взгляд) прост. Второй план его прозы так и остался невидим, видят лишь эксцентрику. Молодёжь нынешняя и вовсе видит нечто саркастическое или забавное… Вчитаемся глубже в его рассказы, попробуем проследить, понять, что говорит он всем нам, читателям своим, о чём напоминает неким тайным, скрытым – именно скрытой, теневой стороной многих рассказов.
Шукшин задолго до своего ухода предчувствовал, что в недалёком будущем люди станут хол́ одны, «теплохладны», неинтересны друг другу. «Постмодерновый» нелепый взгляд на действительность: словно предвидел он иные, новые времена. Сказка «До третьих петухов» – вся об этом. Неинтересно станет читать, неинтересно слушать – по Евангельскому Слову: «…и охладеет Любовь…». Неинтересно жить – не только оттого, что скучно станут писать, как он предвидел, и о незначительном, о маловажном к тому же – а ещё и многое перевернётся с ног на голову. Сегодня мы видим «придумки», намеренный уход от действительности, замену насущного таким обилием «фэнтэзи», индифферентной беллетристики. Мутит от навязчивого присутствия в нашей «либерратуре» легковесных, причудливых и нелепых пересмешников, каких-то «попаданцев» (во всех веках и временах потешно заблудших)… И всё-то постмодерн идёт сплошной, часто скучнейшей полосой, и оттого что навязчив и беспринципен, списан с западных опусов – он ещё более ничтожен и малозначителен. Часто – дико, даже дичайше, без меры – прихотлив и причудлив. Где же сегодня сама́ литература, предметная, промыслительная, почему она не в чести, – ведь именно такой, «той», подлинной литературой: Достоевским, Толстыми, Шолоховым… и В.М. Шукшиным – ими и славна Россия? Как и когда случилась подмена? Если детектив, то он почему-то – «иронический». Но может ли быть «детектив» «ироничным», не кураж ли и здесь вместо выбора в ту или в другую сторону: или игра, или навык дурить читателя, не смысловая ли подмена в самом даже корне – понятия? Оксюморон: «иронический… детектив» неприятен даже на слух… А если учесть непредставимую даже степень вторичности и плоской наивности нынешнего «вампиризма», идущего от давней (опять-таки, западной) традиции романтизма, который и не скрывает своего богоборчества, не вред ли душе такая забава? Или такое сплошь неудобоваримое «фэнтэзи», которое́ просто за гранью нелепицы, и – за полслова, за ползамысла даже его никто не может поручиться, то есть – глухая непроницаемая чепуха… Но вот – выходят и активно предлагаются читателю тома-кирпичи этих самых «фэнтэзи», и их раскупают, потому что они навязываются. Зачем? Премии же за «Большую книгу» сегодня в основном раздают за измышления или забавные «исследования» биографий, а вовсе не за собственно литературу. Быков о Пастернаке, Варламов о Горьком, или от Басинского «Лев Толстой: «Бегство из Рая», о Ленине Лев Данилкин… Премии-то на демократическом берегу ёмкие, и – были с лютых 90-х, и есть, а где же литература? Неинтересен стал литератору человек, не́ о ком, не о чем стало писать? Но настоящим большим писателям всегда был интересен именно современник. А живая проза и сегодня дышит, она (наперекор всем запруд́ ам) есть! Жаль только, что живёт она теперь всё больше в глубинке России, и это несомненно – а вот кто её оттуда выведет, кто представит её читателю? Критика сегодня задушена, превратилась в заказные ругань и восхваления, литпроцесс заменили голословной блогерской помойкой. Сколько просуществует эта подлая подмена, что вот будто бы «Петровы в гриппе…» или «Русская канарейка» (почему не палестинская, непонятно) – и есть самое нужное, значительное, ибо – объявлена эта мишура в мешанине русофобии, ни много ни мало – аж… «национальным бестселлером»?!
Так что же: человек и впрямь скучен, не нужен – ни «маленький человек», ни большие подвиги народа – не интересны теперь им, обильными грантами отмеченным писателям, не единожды приглашённым «на разговор» к президентам, а только одно и то же: «подвалы НКВД», которые в зубах навязли, от которых скулы ломит, – только это? Или игнорирование подлинного, природного, духовно здорового, сострадательного – от сплошной бесталанности? Или и то, и другое вместе? Да и пришлые всё это люди, душой не русские, являющие нам свою «самодостаточность», рассчитанную на пиар и на аплодисменты прежде всего «своих», своей «тусовки». Им, будто бы «независимым», категорически не «почвенникам», «перевирающим и передирающим» русский язык, саму его суть, нелепо и намеренно, – что́ им с того «человека»-современника, о котором столько и – талантливо – написано, что им с того «народного подвига»? «Перекати-поле», что́ оно знает о корнях даже и своих, ценит ли оно эти отпавшие за ненадобностью корни? Им любая пустыня хороша. Оно, это причудливое растение, «прыгает, как мяч», по слову А. Фета, где-нибудь – да и прибьётся… И премий сорвёт от своих, от лобби своего. И чем дальше прибьётся, тем гуще, там наглей.
Но Россия – сама «корневая система» и есть. Россия – симбиоз наций и культур, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга, не нужно суживать пространство (хотя бы культурное) намеренно. Даже краски на палитре не кладут кое-как, «наобум Лазаря», а тем более – на холсте многонацинального государства. Русская (в противовес русскоязычной) литература всегда была делом совести. Вспомним раскаяние шукшинского Егора (Горе) в «Калине красной»: покаяние его – белая церковь на втором плане… Церковь – утонувшая, заброшенная – и при выходе его, освобождении от уз кутуз́ ки… Да и последние кадры, просьба его: «Воды…» Не крещение ли подразумевалось, а с ним – и отпущение умирающему грехов? (По вере и в уповании – изменить жизнь и измениться – эта исповедь Егора после встречи с матерью именно у стен белоснежного храма). И не это ли тот – «второй план» всего творчества Василия Макаровича, о котором умалчивают, котор́ ый замалчивают?..
Перечитывая В.М. Шукшина и измеряя прошлое как бы его горьким взглядом и его творческим и личностным «аршином» и – сегодняшнее время, ясно видишь, что требования к языку нынешних авторов до смешного невысоки. Книги – пустые, огромные фолианты – по тысяче рублей штука, а прочитать нечего. Ну, а как же не ставить такие ценники, ведь нынешние новые, новоявленные «великие» их лично подписали!.. «Срез́ али» они классиков одним тем уже, что подписанные книги их с лотков продают, и тем потеснили они «соцреалистов» – так им, бедолагам, и надо… Спрос же на подписанное, даже на кизяк отлитературный – искусственно сотворяется через эстраду, подмостками театров сатиры, скандальными «лекциями» и прочей мишурой.
Между тем в корне неверно, будто бы спрос, и только спрос определяет предложение, что раскупаемость и есть – мера всех вещей. И объяснение простое на примере: вот Америка страдает тотальным ожирением и иными страшными болезнями от пользующегося спросом фастфуда, попкорна, к которым так привыкла. Кто формирует этот «вкус» и «спрос»? Кто приучил янки к фастфуду, мусорной пище? Кто подсадил толпу на «бургеры» и кока-колу? С какой целью? То же и в литературе: вовсе не критерий этот самый пресловутый «спрос» и в сфере книжной, издательской в том числе; предложение вовсе не определяет спрос, не формирует читателя, не «культивирует» его взгляды, его пристрастия и воззрения, а навязывает теперь, приучает, растлевает. Литература – вовсе не та, что декларируется, как например, подписанная авторами чародеев «остромовых», козыряющих «интеллектом». «Нахватанность пророчеств не сулит», – мудро заметил однажды по подобному поводу М.П. Лобанов. Последовательные инициативы по внедрению в массы этаких «бестселлеров» от мнимых «интеллектуалов» продуманны и вовсе не бескорыстны. А ведь и то: зачем допускать коренную предметную прозу, к чему оставлять «русскому индейцу» – собственный исконный язык, зачем ему, аборигену, великая, на традициях основанная его литература? Он-де и не заметит подмены. Прямо-таки «Ноль-ноль целых» Шукшина, вживе! И когда я перечитываю шукшинские рассказы, повести, сценарии, каким же далёким и одновременно близким предстаёт он мне – старший товарищ по годам, по чувству, по совести, по умению видеть и сострадать именно современнику! До сердцебиения. Зачем же нам предлагают чуждое (а иные уже и осуществляют, настырно подталкивают: к походу совсем в другую сторону – противоположную той, куда стремился всей жизнью и всем своим талантом Василий Макарович Шукшин)? Нам по дороге с ним.
…И какая «экспрессия», какая живость описаний. Если есть у Василия Макаровича в его прозе «картинка», то она – всегда яркая, играющая, и всё в действии. Роса, луна, солнечный закат в шукшинских текстах – они тоже оригинальны по чувству и языку, а главное – и это особенно присуще таланту писателя – по настроению. Оригинальность, разумеется, но и мера таланта тоже: всё хорошо в меру, по пословице «Душа меру знает». Много я встречал подделок под оригинальность, но подделок всегда плохих: повестей, даже романов. Как метко сказано у Ю. Кузнецова, «Я один, остальные – обман и подделка». Это – об эпигонах, что шли толпой вослед и Шукшину, но где они теперь, кто их помнит? Напоминать фамилии не стану; столько их – все заблудились, а он остался и останется. Его рассказы можно разделить на две группы: городские и деревенские. Деревенские (кажется) понятней и ближе. В деревенских – два типа людей: одни смогли уехать в город, другие не смогли (деление это, конечно, весьма условно). Но всех их, этих городских и уехавших, роднит одно: у них болит душа. И за них, за персонажей – и у читателя тоже – болит душа, не может не болеть. Скажут: сколько их написано, таких рассказов о «простых душах», начиная с француза Гюстава Флобера, повесть которого, предварившая «Госпожу Бовари», так и называется: «Простая душа». Ан нет, нужно было почувствовать, открыть миру именно эту боль, русскую – национальную черту, которой томился Шукшин, именно эти переживания осмыслить. И здесь автор тоже ни на кого не похож, и здесь он – опять-таки первый.
…Бестужев-Марлинский впервые ввёл в обиход само слово «рассказ», поместил его в подзаголовки. Пушкин назвал «Занимательными рассказами» повесть Н.Ф. Павлова. В истории русской литературы – ка́к только ни изображали крестьян: были «богонос́ цы», «сов́ естливые» – Глеб и Николай Успенские описали их… Были мужички-подлиповцы, мужички-странники – и у Н. Слепцова, и у И. Тургенева – те, что «могут и Бога сожрать, дай им только волю», – по словам классика… Был Писарев, утонувший молодым, двадцати восьми лет, – но, несомненно заметный своей «боевитостью», стремлением всё пустить вразнос и отрицавший душу как таковую, гипнотически повлиявший даже на М. Горького.
До Горького мужику-крестьянину всё же сочувствовали, мужика любили. Мужику «мозоль в пятку, точно ладанку, вставляли, – упрекал Сергей Есенин в своих размышлениях в письмах, – и любовались ею»… После Писарева, этого «литературного крёстного» Горького (Максима Пешкова), о мужике стали писать так, что впору стало ненавидеть, презирать мужика. Словно бы мстили – иные притворно, просто потому, что так стало модно, иные по ненависти. И вот уже читаем, как «бомж» – босяк Челкаш, по Горькому, мог украсть мануфактуру – и, с широкого плеча, снизойдя к бесхарактерному крестьянскому парню, – подарить, отдать безвозмездно тому всё добытое им, бося-ком-Челкашом. Горький не знал крестьян. Бродяги и пьяницы у него раскрашены странными яркими, почти флуоресцентными цветами, с пятнами и блёстками, с некоей претензией на исключительность… Прославление волюнтаризма, неприкрытое ницшеанство сквозит и в горьковском романе «Мать» – романе крайне слабом в художественном отношении, но, по Ленину, «своевременном»…
Были и другие, «развенчивавшие» мужика-крестьянина, из тех, которые торопились разбить «становой хребет» России (как в 1990-е очень верно скажет Б. Можаев). Писа́ли, в основном о тех, кого не знали, и Петров-«Скиталец», по-первобытному бродивший с Горьким и с гуслями вдоль Волги, и Л. Андреев. И это видно тотчас по опубликованным им рассказам: «Челкаш», «Море смеялось»… Потом этих самых «челкашей» Иван Бунин выведет в своих дневниках, в «Окаянных днях». Он при первой же встрече назвал Горького «некто в помятой шляпе» – но и он (даже Бунин!..) не представлял, не предполагал, какие настроения созрели уже тогда, в 1905-м!..
И это отношение – брезгливое, от сарказма и гордыни города заразившее литературу ещё тогда, от той давней поры до нынешней, и то настроение – перенято и подражательно используется, и сегодня особенно интенсивно (быть может, и проплачено тоже грантами да стипендиями…). Ибо корни держат, питают, укрепляют в почве. Бес-корневой «демократизм» либералов – космополитичен в плане: «где спать лёг, там и родина». Вообще же русский дух ускоренно изгоняется из общественной жизни, особенно из литературы, кино и театров все три прошедших десятилетия. Такой атаки на национальное, корневое не было даже при Суслове. И дело не только в том, что русской внешности, русского постав́ а актёров, писателей и поэтов всё меньше на наших экранах (не случайно), – то же и на выступлениях в библиотеках, залах для встреч с читателем, зрителем, – а сам образ мышления девальвируется. Сгорбленные, несуразные актёры влезают в образ Корнилова или русского императора даже, пытаются втиснуть себя и своё местечковое мышление в пространства русского родового дворянства, в пределы поистине гигантские, непосильные этим «продюсерам»-насмешникам над русской культурой и по мелочному их воспитанию, и самой сутью мышления их непознаваемые. Знаем, помним: было и в девяностые и такое «зачало» – кто выпишет крестьянина скотиной, да не раз, и не два, а хорошенько опозорит (весь Пьецух, Войнович и прочие гешефт на том себе делали) – те получали годовые стипендию от «своего» СРП, и молодые особенно. Что же мы имеем сегодня – что ни книга о деревне – то зарубил́ и топором предпринимателя или на вилы подняли. Изнасиловали или сожгли в селе – по книгам этих русофобов – дело и вовсе обычное… Они и в деревне-то не жили. Разве наезжали на пикники. А мути подняли – не продохнуть. Почвенники переживали этакую «подачу» материала от супротивников по-своему, по-особому, очень болезненно. Мелкотемье, надуманность, ложь на каждой странице, а в кино – едва ли не в каждом характере, в каждом образе. До сих пор не может смириться с такой подачей русского характера и автор этих строк. Вот как писал мне Валентин Яковлевич Курбатов 20 июля 1999 года об этой «Руси уходящей», о деревенской прозе, тоже, по-видимому, скорбя всем существом: «Дорогой Василий! Я прочитал Ваши рассказы (деревенские. – В.К.) и вполне понимаю Ваше смятение. Так подметают двор, когда уже всё убрано. Это уже собирание остатков, завтра на этой «территории» будет чисто. Как-то В.Г. Распутин очень точно сказал мне: «Я ведь всё время вынужден в своё тесто дрожжец подбрасывать, чтоб всходило. А у Виктора Петровича (Астафьева) оно само из квашни прёт, и ему всё уминать приходится, чтобы через край не валило. Правда, это уж давно сказалось. Теперь и Виктору Петровичу приходится дрожжей прищипывать. Сегодня всем деревенщикам так. Деревня уходит стремительно, вытесняется «хожалыми» (персонаж моего городского рассказа, приехавший из деревни, «вписавшийся» в город. – В.К.), а новые родиться не торопятся. Как и вообще русский человек сегодня. Простор сегодня «интеллектуалам», записным книжкам да мещанам, а здоровому прозаику с чувством живого – труднее всех…» («Мещане» нынешние из грязи в князи угодили совсем неожиданно, но просторно им было всегда).
А писать правду, действительно, труднее всего. И не потому, что напечатай правдивую книгу в «АСТ» или «ЭКСМО», – не станут читать, а потому что разрекламированы совсем иные «писарчуки»́; «запущен» в оборот – и давно работает – совсем сторонний, не русский механизм, другие имена на слуху, раскрученные (балалайки во всей прелести её – за орущим рокером или «диджеем» не услышишь, как бы прекрасно она ни звенела). Потоки эти «подводные» не раз описаны тем же Олегом Павловым и, отчасти, но очень осторожно, с оглядкой – Вячеславом Огрызко. Возьмём шорт-лист премий: это всё те же «премианты» и «стипендиаты», о которых я упоминал выше; они, подражая, выстроились дружно за «писателями» Коэльо, за С. Кингом, год от года одни и те же имена… Фамилии – нерусские, похожие на шуточные, выдуманные или на клички.
Могут возразить, мол, в советской прозе «развитого соцреализма» тоже наговорили много лишнего, написали о горемыках-жуликах, о страдальцах и «босяках» нового типа. А вот у Шукшина – то, да не то, и «болит душа»… А почему болит – ни один мудрец так и не дал ответа. И сам автор не сказал. Но есть прорывы, подлинные открытия, и они – в покаянии героев у автора. Покаяние же по вере православной – одно из главных условий спасения души, следом только смирение и послушание. Читаешь – и чувствуешь, как у него самого, у писателя, у Мужика-Крестьянина с большой буквы – болела душа. А иначе, зачем бы ему и говорить такую фразу: «Что с нами происходит?..» Фраза эта так проста, так часто повторяема была (особенно во времена «перестроек»), что всякий пройдоха норовил ею воспользоваться. И тем очевидней только обострялась проблема человека. «Что с нами происходит?» – повторяли многие всуе; а в душах своих так и не разобрались, даже оставили, бросили эти попытки – «разобра́ться».
Так что же с нами происходит? С душами людей нераскаянных, завистливых. Почему тех воров, что по мелочам тащили, тогда, в 1980-х, называли «несунами», а крупных воров сегодня – «олигархами» величают? Латифундии прикуплены ими и огорожены – с охраной, не подойдёшь. Или мы вернулись в Средние века, вспять потащились? Прелюбодеяние, блуд – называют нынче «гражданским браком»; «прибыль» – профицитом (подразумеваемую здесь с обманом прибыль – «маржой»)… И так во всём. Ничего не изменилось с тех, восьмидесятых, – разве что усугубилось. «Вот она и болит, душа-то, что она, пряник, что ли?» – говорит один из героев рассказа Шукшина супруге. И что же он получает в ответ: «Пузырь… Душа у него болит…», и т. д.
Шукшин с пристрастием и зоркостью увидел наши сегодняшние проблемы – заранее, на расстоянии сорока-пятидесяти лет. В его рассказах много персонажей, ушедших в города, но до города так и не дошедших. Они, эти будто бы простые, на первый взгляд, ущербные натуры, даже «с чудинкой» (один рассказ так и называется: «Чудик»), – ушли «простые» «чудаки» в города, устроились там: кто в бараках с клопами и общими коридорами да туалетами, а кто и того хуже. Жили с драками, с плясками под гармонь, с заёмом «трояка» до получки – но по сути своей так и остались деревенскими, а значит – с душой. Были и другие – те, что заимели квартиры, «отдельные секции», выучили детей в университетах, накупили столько вещей, что страшно показать посторонним (недолго и погореть), ибо ведь не все же «эти, с юридическим образованием – сопляки», которых шукшинский персонаж Николай Гаврилович обводил вокруг пальца (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), – да, были и другие. И жили, и воровали, и квартиры правдами и неправдами приобретали – не для себя же, для детей. И на глазах детей. И по-своему обосновывали им, детям, такие свои устои жизни. А те уроки в свою очередь усвоили. Нацеленность на «отдельные секции», ещё лучше – на квартиру, да чтобы жить да копейку зашибить – это вам не «челкаши», тут смотри дальше, шире смотри, выше бери. Корысть – она воспитывалась, перековывала (и перекова́ла) деревенских, переехавших в города, в трёх поколениях. Шукшин приметил и написал, как менялись сами: цель жизни, смысл существования. Несколько сборников его рассказов (на мой взгляд) сто́ят всей эпопеи «Ругон-Маккары» Эмиля Золя и «Утраченных иллюзий» Бальзака, вместе взятых, потому что по-русски пове́даны, а потому и понятней нам, ближе. И великие истины, которые говорят через слезу, произнесены Василием Макаровичем с горьким юмором.
…Мир кухонь, складов и продмагов – не книжный мир, а самый «настоящий»… Но тем, первым, которые уходили из деревень в города, – им тоже надо было как-то обосновываться. И тут-то герои, подобные Николаю Гавриловичу Кузовникову из названного рассказа, – с виду те же «чу́дики», прищемлённые, ущербные (те же, да не те!..) – давали сто очков вперёд коренным городским жителям. Сегодня читаешь эту прозу – и думаешь, что, не торопись Шукшин с публикациями тогда, сорок лет назад, дотяни он, докопайся до сокровенного тех «чудиков»-героев – то дотянули бы они до незабываемых характеров, до прозрений, и многое было бы понятней и в наш сегодняшний день… Кое-что они, эти недописанные «типы» Шукшина, и впрямь объясняют нам сегодня в нашем «случайном» либеральном мире – многое, но не всё. А так, как написаны – эти кладовщики, бухгалтеры – они не до конца понятны и до сих пор: ни критикам из столиц, ни читателям из деревни. Если и читают о них сегодня, то не с удивлением, а узнавая этих типов в своих дедах, отцах и – для отдыха, с усмешкой, по-простому, с «зубоскальством». Сначала и я так читал.
«Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать её», – это одна из последних записей в книге Фёдора Абрамова, тоже почвенника, в «Траве-мураве». Следуя этому завету мудрого, много повидавшего на свете, травленного критиками архангельского писателя, порой и впрямь хочется «передумать» свои и чужие рассказы, сравнить свои строчки – со строками близких по духу писателей. И тогда – вот тогда! – какой же непростой кажется мне лёгкая, «на прилёг» или «присест», проза Шукшина!
Так «что же с нами происходит?» Или произошло уже, и последствия необратимы? По-разному можно объяснить этот сегодняшний безуспешный кризис-поиск смысла жизни. Кризис понимания долгожданных либеральных свобод – и их результатов. За этой свободой и рвались в большие города – в Москву, в Питер – из деревень: туда, где откроешь кран – и вода горячая! Точно по пророку Иеремии: «Отдам сокровища твои на разграбления… за грехи отцов ваших…» И кто же станет отрицать, что жертвы не были принесены? И вот, вырвавшись (как нам вдалбливали «прогрессисты», лукавые «перестройщики») из восьмидесятилетнего плена вавилонского, народ тотчас попал под другой, едва ли не худший: «отдан на разграбление». Теперь уже – всё, без милости и без возврата. Но Шукшин – писатель «от земли», и он предупреждал: его не услышали.
Творческому пути В.М. Шукшина именно публикации последних лет подводят черту. И теперь уже ясна та сокровенная мысль его, та настойчивость, с которой пробивал писатель и сценарист своего «Степана Разина». Монтаж коротких сцен ужасал даже видавших виды критиков и режиссёров: разрубание икон, плоты из трупов казаков… «Если изъять жестокость и кровь, то, учитывая происходящее, характер действующих лиц, ситуацию, мгновенный прорыв (что и случилось, видимо), нельзя решить эту тему. Её лучше и не решать, потому что тогда потеряем представление о цене свободы. Эту цену знает всё человечество. Русский народ знает, чем это явление оплачивается», – писал Шукшин в ответ на отрицательное решение о судьбе фильма на худсовете 16 февраля 1971 года. Похоже на роковое предупреждение: он будто бы знал, видел, чувствовал то, что назревало, что уже назрело… И совсем «не так просто», как это писалось и объяснялось «соцреализмом», – видел во всём близком ужасе и глубине. А соцреализм показывал по телевизору «Юркины рассветы» или твердил о преемственности сталеваров в городах Электростали и Магнитогорске. Уже тогда он, Шукшин, видел, что жизнь, действительность как бы распадалась на сиюминутные дела, на истину явную – и некую другую, скрытую, непонятную. И странно было (и тогда казалось странным!..): по советским меркам материально обеспеченные люди, не стесняясь в средствах, заимели не только «отдельные секции» в городах, а и в самой Москве – трёхкомнатные квартиры, с прислугой, выучили детей, сыновей (в том числе и собственным примером жизни) в вузах… А что-то от прибыли денежной у них ни счастья, ни радости, и какое-то странное чувство пустоты мешает им жить дальше. И хочется выговориться, чтобы хоть кто-нибудь в этом чужом и чуждом мире им сострадал, кивал бы головой, сочувствовал… Какой-то не материальный, а душевный, даже духовный, уже тогда назревший кризис… Он и лечиться мог только духовно. «Вы́говориться» значило: исповедоваться, разделить страдание, очистить душу. Но церкви нет – зато есть вместо церкви упорствующий «крепкий мужик», разваливший единственный храм двумя тракторами, есть «изящный чёрт», рвущийся мимо всех к алтарю (и прорвавшийся!..) вместе со всей силой бесовской (сказка «До третьих петухов»). И вот – изгнаны монахи из храма, но и этого мало. Изящный чёрт «изящно» же требует переписать и иконы в храме. Вот вам уже – и не храм, а сахаровский центр с выставкой «Осторожно, религия». Или я ошибаюсь?
И тут Шукшину нет равных, тут – целое открытие в литературе – эти циклы рассказов о страдающих нераскаянных душах (и в сказке, и в недописанном романе «Любавины»), которым и каяться-то негде – только друг другу да самим себе. «Каются» они так: выпьют стакан водки без закуски и идут для беседы на вокзал (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), или прямо к «Николаю Угоднику» – тестю (рассказ «Билет на второй сеанс»), или – к старухе-сторожихе Марии… Или просто плачут у могилы («Случай на кладбище»), излагают грех свой и боль – кресту на могиле да земле под вечерним равнодушным небом и луной («Счастье ли, горе ли здесь, на земле – сияет»)…
Три очень похожих рассказа условно объединены мной в один цикл. О нём, об этом цикле, и поведу речь. Таких рассказов у Шукшина – не три и не четыре, их много. Более того, один сюжет рассказа как бы дополняется вторым и третьим (сборник «Беседы при ясной луне»). Сборник называется по наиболее яркому одноимённому рассказу. Вступление, зачин его – не броский, не «триллерский», естественный: тихое повествование, краткая предыстория. Зачин, очень характерный для автора: «Марья Селезнёва работала в детсадике, но у неё нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась». И тут два абзаца не для главного персонажа: зачем писать, да ещё в зачине, вступлении, как попала в сторожа Марья? А не лучше ли начать прямо и броско: «И стала она сторожить сельмаг». Но и тут Шукшин идёт от правды, «от жизни» – или, вернее, «к правде жизни». «Нашли па́лочки», – и вот уже верится, что была и впрямь такая Марья, и всё, что с ней происходит впоследствии, тоже было. Подробность – великая сила, а у Шукшина особенно: она жизненна. Это не модерн, тем более – не постмодерн, пусть и западный, где, перегревшись на солнце, какой-нибудь француз-ницшеанец может пристрелить араба, просто от странно упавшей тени на глаза, «во всём виновато солнце!»… Итак, вернёмся к жизни Марьи: «И повадился к ней ночами ходить старик Баев». Главное: интерес читателя мгновенно перекидывается с Марьи на Баева, – метод, знакомый литературе.
Тип этот, Баев, узнаваемый – и всё же чисто шукшинский. Автор насмотрелся на них вдосталь, видел он этих «умников», натерпелся от них. Они не давали ему покоя, верно, пока не были им «выписаны» на бумагу. Мальчишкой, потеряв отца, он пошёл работать. Жил трудно, голодно, а эти – вот они: посиживают вокруг складов, тихие, сытые, незаметные в своих бухгалтериях и кладовых, «умники» – и сами при деле, и детишки устроены: «тепло, светло, и мухи не кусают». И тут кульминация начинает высвечиваться и играть внутренний характер – через внешнее.
Баеву очень хочется выговориться, рассказать, вот хотя бы и этой самой Марье при всей ма́лой величине её для Баева: какой он умный, прозорливый, удачливый, а ведь никто до сих пор так и не заметил, не оценил его!.. Да теперь уже, пожалуй, и не заметит никогда. Сам он жил невидимкой, не спорил, на глаза не лез, «не залупа́лся», как сказал автор про такого же – в другом своём рассказе.
Что же он делал, этот Баев? Тут следует послушать автора: «Баев всю свою жизнь проторчал в конторе: то в сельсовете, то в заготпушни́не, то в колхозном правлении – всё кидал и кидал эти кругляшки на счётах, – наверное, с целый дом накидал», – не без намёка шутит Шукшин (дом себе отстроил этак, кидая и откидывая в сторону для себя). А сколько честных работяг в жизни маялись, трудно жили «без угла», без дома, по общежитиям да в примака́х – хоть и работали, «пахали», уж верно, почище этого Баева. И где же правда?.. «Он любил спокойных мужиков», – пишет Шукшин об одном из своих героев, любил их – это тотчас видно – и сам автор, вот баевых не жаловал.
«Баевская» же обида на весь белый свет говорит о многом. А «простецкая» исповедь Баева – и того больше. И, если знать жизнь деревни того времени (от чего бросает в дрожь), – то и вовсе о многом сокрытом расскажет, что за «фрукт» этот тихоня-бухгалтер. Бабушка моя по матери, Пелагея Тимофеевна, с двумя детьми на руках одна, как раз об это самое время баевского бухгалтерства, вдовствовала. Умирала с голоду – но вынуждена была сдавать молоко государству. Да и собеседница Баева Марья – и она знает тяжкий труд в колхозе не понаслышке, говорит прямо и просто: «Да оно бы и все-то так посиживали – в тепле да в почёте». – «Садись! – воскликнул с сердцем Баев. – Что ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай».
И тут рассказ «Беседы при ясной луне» начинает (тень и свет по-шукшински) распадаться как бы на два плана: Баеву, «тепло» прожившему жизнь, надо рассказать, какой он значительный – уже потому, что жить старался он всегда незаметно и – не зря повторяет автор – «не высовывался». Людям свойственно говорить о себе. Почему бы вот и ему, Баеву, заимевшему (накидавшему этакие хоромы на счётах-круглешах) хороший дом, вырастившему двух дочерей, сына – и это в трудное-то, совсем голодное время – отчего ж ему и не погордиться? Вот он и ходит к Марье выговориться, благо есть – вот он, его, Баева, «состоявшегося» – пример неоспори́мый. Да и читатели многие знают таких учителей по жизни. А Марья – слушает, даже кивает и поддакивает. И тогда Баев «раскручивает» себя сам (как теперь модно говорить теперь, «пиарится»). В самом деле, когда всё уже позади, можно и «высунуться». Все его «умные» поступки, конторские дела говорят о том, как он заискивал перед начальством, как обманывал сельчан с одной-единственной целью: устроиться самому, устроить детей – это один план, рассчитанный, если не ошибаюсь, на известного рода читателей (свет?). Тут и все подробности: советовал начальству, как объегорить сельских жителей с госпоставками молока, занижая жи́рность и требуя поднять объём этого самого сдаваемого крестьянами для государства «мле́ка» в ущерб собственным детям. И кому, как не ему, Баеву, было не знать, что сдают жители его деревни последнее, порой отнимая у голодных ребятишек. Ясно, что от выполненных госпоставок хорошо было не только колхозному начальству, но и умному Баеву. Он учил Марью, как «надо от работы отталкиваться»; словом, среди умных умник, «он редкого ума человек». Никто даже из колхозного начальства до этого не додумался!..
В рассказе, по этому первому его плану, собрано, кажется, всё, чтобы читателя заинтересовать, задержать: и старые анекдоты про сбор пота идут в ход (пробирку под мышку – и накрыться матрацами), и «анализы», и упрощённое отношение к молодёжи: «дрыгать научились»… И, в конце концов, мелкая трусливая душонка отчётливо – вот она! – открылась. И – весь Баев перед нами, и уже недвусмысленно понятен. Спрятавшись за спину старухи (тень?) (как он и прожил, скрываясь за бабьими, да вдовьими, да сиротскими спинами всю свою жизнь): «Стреляй! – тихо крикнул Баев Марье. – Стреляй! Через окно прямо!» А сам, мужик, в стороне: «Стреляй, Марья!» И ведь выстрели старуха по его подсказке в парня-алкоголика, пришедшего с похмелья и перепутавшего день с ночью, убей она или рань его – старуху засудили бы. Засудили бы её – а Баев, конечно, давал бы показания. И опять он наверху, ни при чём. Такой умник!.. И мог бы после процесса над старухой отряхнуться и сказать себе, повторить вновь, как и говорил не раз мысленно: «Молодец, и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили». Тут надо ещё и то понимать, как подбирает автор фамилии, неспроста или по случаю. Вот и «Баев» – от слова «баять», «заговаривать», забалтывать. Кот такой, «баюн»… Или – Неверов. В другом рассказе – Ненароков, Бронька Пупков, Сразов, или Сураз (от старого «суразный»), или вот – Ванька Тепляшин…
«Ночи стояли дивные», – пишет Шукшин, – как и всё дивно в этом мире Божьем, в его Промысле о нас, грешных, но мы-то каковы? «Мы – баевы…», «Эх, мы… Это в таком-то мире…» И этот укор отчётливо слышен читателю. И тут сама профессия актёра-Шукшина озаряет строчки, играет в повествовании: всё видишь, как в кино: жесты, мимику, движенье – и это тоже одна из редких особенностей его прозы. Хочется и смеяться, и не думать о главном. Но главное всё равно находит читателя, западает в душу, не даёт покоя – и долго потом прорастает, оживает, не отпускает: «Как же мы живём!..»
Смею утверждать, что именно для этого, для второго плана и написаны рассказы и сценарии Шукшина. Морализаторством, прямым показом и резонёрством «высоколобого» советского читателя, «физика и лирика» и тогда было не пронять. Но у Василия Макаровича почему-то увидели только «развлеку́ху», «чу́диков» – главного не увидели. Или не хотели увидеть. Не уютно было тогда видеть – всё это «по существу», саму суть свою, – да и сегодня, по большей части – некому и незачем. Читают прозу, вообще любую, в наше время (по статистике) только четыре процента населения, а тогда читали – едва ли девять десятых. Михаил Шолохов сказал о нём, о Шукшине: «Он появился удивительно вовремя».
Какова же скрытая идея многих его рассказов – и разбираемых, и существующих, но не затронутых здесь в качестве примера? В них всегда есть нечто главное – по сути человеческого бытия, по смыслу человеческого существования. Василий Макарович Шукшин, его «лирический герой», как принято называть повествование «от автора» – он не «Баев», скорее «антибаев». Рассказать нам, повеселить или удивить своим талантом, знанием народа и народца, покрасоваться – словом, «просиять», как сиял, когда поведал, передоверяя рассказ о своих «подвигах» Марье старик Баев – это не всё, не сама цель. Цель автора – не удивить (и тем подняться в наших глазах), а показать сокровенное – через внешнее… Но все ли видели, чувствовали «второй план», сокрытый – при жизни Шукшина? Обидно, что тогда его ценили до горечи мало, притом что писали о нём нередко (чаще – равнодушно, скучно или с укором и осуждением за «приземлённость», «мелкотемье», «поверхностность»…).
Марья знала Баева и до этих бесед. И далее узнаём, что умного, хитрого ловкача Баева отчего-то мучила бессонница: «Последнее время, – читаем мы, – Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать». И вот тут «сверхзадача»: все эти «почему» поставлены едва ли не во всей прозе В.М. Шукшина.
Я выбрал три рассказа. Можно бы разобрать и другие: и «На кладбище», и «Страдания молодого Ваганова», и «Как помирал старик». Везде присутствует этот второй план, это «почему». Надо сказать, ни одна философия мира не разгадала причины той самой тревоги и бессонницы вроде бы беспричинных, этого вечного вопроса о муках уже при жизни, мытарствах мятущейся души человеческой. Сам автор находил этот религиозный вопрос в весьма заурядном – и тот же вопрос, о смысле жизни, нравственности, совести – терзал его даже накануне его собственной гибели (рассказ «Кляуза»). Немногие пытаются касаться «вопроса» больного, «решать» хотя бы по-своему, для себя эту головоломку особенно даже сегодня. Вместо этого, важнейшего: «постмодерн», развлекуха, «время убить чтивом». А ведь его, времени, и так немного.
В рассказе «Выбираю деревню на жительство» некто «Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил»… «Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче.
И он пошёл по складскому делу – стал кладовщиком, и всю жизнь кладовщиком был, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию». И тут тип уже знакомый, родственный Баеву, со схожим характером. Философия жизни его не идёт дальше обывательского мировоззрения: «ушёл из деревни и понял…». Канва первого плана в общих чертах уже ясна: воровал, «ни разу не поймали его, ни один из этих, с университетским значком». Тоже, как и Баев, устроился сам: квартира, дети живут отдельно, он – со старухой. Но рассказчик не был бы так талантлив и самобытен, если б не ставил исподволь всё тот же вечный вопрос, (тени и света) разрешения которому нет ни у главного героя, ни у автора пока ещё – ни у кого. «Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить». И всё же пытался. Как же? А вот как: выпивал стаканчик – и ехал на вокзал. Почему именно на вокзал, и с кем он там разговаривал? С мужиками, как ему казалось, проще говорить, лучше поймут. Надо выговориться, выкинуть из сердца всё, что волнует. В конце концов, и узнать жизнь современной ему деревни: что изменилось? – мысленно сравнить её с той, прежней, которую помнил, цену которой знал на свой лад. Много надо было узнать хорошо пристроившемуся в городе кладовщику… а для того нужно было завязать живой разговор – всё об одном, всё о том же: кругом в городе хамство, воровство, ложь. Пива не доливают, и прочее.
И тут надо бы Николаю Григорьевичу переоценить все ценности и в себе самом: «Сам тоже ругался вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это всё как-то вдруг забылось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют». И вновь канва рассказа не сверкает – её надо разглядеть, увидеть. Пьющий в одиночку человек настораживает. Мы их редко видим. Не у всех у них, но у многих, чаще всего, есть некая боль и желание выговориться. У этих пьющих в одиночку, часто и благополучных внешне – внутренне всё не так уж хорошо: что-то происходит в душе человека, разлад какой-то, противоречие. «Никуда Николай Григорьевич не собирался уезжать». То, как он жил, живёт, и будет жить дальше – ясно по прочтении рассказа. Ну, сходил и сходил к проезжавшим мужикам на вокзал, чего уж там, чего не бывает. Поговорил раз, другой, третий, потрепался в этом закуренном и заплёванном туалете – и будет уже!.. А он всё ходил и ходил, и это стало потребностью: «Он теперь не мог без этого». Тайна души… И здесь неясность: зачем?
Попытка выявить тайну души человеческой через его, человека, поступки (повторю ещё раз, отмечая важным) – вот второй план – суть многих замыслов Шукшина, своеобразие его таланта. Много ли сегодня таких находок, которые ставили бы вопросы?.. Задача писателя – ставить вопросы. Отвечать или не отвечать на них – каждый решает по-своему. Возможен ли сегодня Николай Григорьевич? Станет ли кто-нибудь бить себя в грудь, разговаривать с этаким Николаем Григорьевичем? Нет! И не только в туалете, а и вообще где бы то ни было. Есть ли сегодня, остались ли такие вот разговорчивые мужики? Не знаю, весьма сомневаюсь. Время, то́ время – ушло безвозвратно, народ стал ещё жёстче, ещё недоверчивей, непримиримей, что ли. Хоть кажется порой, что вот – и церкви пооткрывали… Но не хватает церквей. И вопрос вопросов опять-таки: почему с ним, с Николаем Григорьевичем, нынче не станут говорить незнакомые люди, объяснять, сочувствовать и понимать?.. Не прошло и сорока лет со дня написания рассказа, а ведь тогда и говорили, и понимали.
…Рассказ «Билетик на второй сеанс» своим заглавием говорит о многом. Жизнь прожита не так, как хотелось бы главному герою рассказа, Тимофею Худякову. Ему «…опостылело всё на свете. Так бы вот встал на четвереньки и закричал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы». Как, знакомо?! Сколько сегодня тех, у которых «всё есть» – и не только «отдельные секции», а и яхты, и «БМВ», и «Инфинити»… – их тысячи, у них полный достаток. И не сравнить их по достатку с этим самым времён «развитого социализма» Худяковым – а жизни нет: «Пил со сторожем, у себя на складе…» Пил и изливал всю боль сторожу Ермолаю, жаловался – да так, как понял и смог сказать только Шукшин: «Судьба – сучка, – и дальше сложно: – Чтоб у ней голова не качалась… Чтоб сухари в сумке не мялись…» Этот эксклюзивный, как сказали бы сегодня, чисто авторский стиль Шукшина – неподража́ем. И сегодня пьют с «излиянием души». Не только на складах, а – пьют и плачут. Даже и сильные мира сего. Даже на борту роскошной яхты, как говорят журналисты, – эти «сильные мира сего», взявшие много на себя, себе – пили и плакали порой, даже прыгали с борта неглиже, чтобы охладиться отвлечься «от причин души», – не помогло. Лучше, легче не становится. Почему? И вот здесь – тайна. И Тимофеев таких немало. Удивляет не персонаж – он в общих чертах уже знаком. Монолог случился, а не диалог. Почему? А что глупому сторожу Ермолаю скажешь? Поймёт ли он, как накипело, как она, жизнь, внешне одарив – обидела! Беспощадно! Как она не состоялась! А могла бы состояться. Но в каком случае? Вот откуда начинаются догадки.
Дело, кажется, даже не в подлинности чувства, выраженного в забористом монологе – дело в средствах раскрытия характера, подлинно русского, мятущегося… А с чего ему беспокойно, невыносимо так – и сам не поймёт он, этот Худяков. Вот краешек-частица русской души – и где, в какой литературе какой страны найдёшь этакое страдание без видимой причины? И тут Шукшин – продолжатель национальных традиций: в рассказах-открытиях характеров, судеб, со всеми их изъянами-ошибками. Оттого и получила такой резонанс его «Калина красная», этот «зов души», зов к со-чувствию, что отмечал в «той ещё, дореволюционной литературе» и Лев Толстой. Боль эта, повторяю, характерна, пожалуй, только для русского, и понятна одному только русскому. Голос этот не заставляет, не обрекает – только будит, мучает и требует проснуться. Откуда эта тоска? «А что, Антоныч, – вдруг спросил весёлый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно?» – «Какая же скука?» – неохотно отвечал Панов. – «А мне другой раз так скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». – «Вишь ты!.. – сказал Панов. – Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня, думаю: дай, пьян нарежусь» (Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). Но дело не только и не столько в скуке, понятно.
У Шукшина сторож Ермолай притворялся, что не понимал кладовщика Худякова – но, верно, знал, думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал. И не попался ни разу, паразит!»
«Разлад, Ермоха… Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего». – «Пройдёт». – «Не проходило».
И все эти разные «кающиеся» – ищут слушателя, совершают поступки непредсказуемые: таково их внутреннее состояние. Домой ему, кладовщику, идти не хочется, «там тоже тоска, ещё хуже: жена начнет нудить». Погода тоже под стать настроению. Автор даёт броские, яркие, краткие и оригинальные детали: «Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным жёлтым огнём. Холодно, тоскливо. И как-то противно-ясно…» Всё ясно и читателю. Без обиняков, горько и ясно. Тимофей шёл и раздумывал. О чём? Всё о том же: «Вот – жил, подошёл к концу». «А Ермоха, – сравнивал Тимофей, – например, всю жизнь прожил ва́ликом – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы». Ермолай завидует нищему по сравнению с ним. Странно? Завидует спокойствию, с которым тот прожил, возможности его, Ермолая, собой заниматься, своей душой, любимыми делами, не размениваться на… И пошёл он к Поле Тепля-шиной, с которой «крутили» когда-то преступную любовь. Но там, как говорят, от ворот поворот. По́ля даже удивилась: «Вона! Вот так гость. Зачем это?» И пить отказалась с ним она, давняя приятельница, и разговор получился нехороший: укоряли друг друга, сва́ра… Тимофей заключил: «Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак всё в жизни – и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе – ему с кривинкой сойдёт, с гнильцой…» Вот что он говорит в лицо ей, бывшей возлюбленной, – так жмёт и жжёт в груди его восставшая, мучающая душа. И откуда эта боль, не понять никак. А боль духовная, не душевная даже, а духовная. Как её руганью с людьми да водкой унять – нет, никак невозможно…
Всё это характерно для рассказов и вообще для творчества Шукшина. Читателю кажется, что эта боль его персонажей – от их ненасытности, от зависти, от многих неисполненных запросов и ожиданий, от жизни. Так нет, ясно и вот что: имей герой в сто, в тысячи раз больше, чем он имеет, – боль не ушла бы, даже возросла бы с удвоенной, утроенной силой. Вот, сегодня гремят на курортах грандиозные попойки детей этих кладовщиков, плоть от плоти, и чиновников, бывших «парте́йных», их пляски нагишом на яхтах и даже крейсерах (на знаменитой «Авроре»)… И – новый кризис, и выкупы ими, детьми кладовщиков, знаменитых изделий Фаберже и икон («чёрных досок», как они называют иконы), а толку – пшик. Деньги сберегли, «вложили», а душа всё равно болит, требует чего-то иного, кроме скандала и славы денежной. Неясно, глухо болит – как вылечить?
И опять удивляешься, как понята, найдена, определена им, Шукшиным, эта боль, которая в наши дни, спустя полвека, уже начнёт так выворачивать, так чистить непокорные и неверные души, что им «и в церкви всё не так, всё не так, как надо». От этого, быть может, и взрываются метро и аэропорты – всё от той же несмолкающей боли души: «И охладеет любовь…» И если б речь шла только о непонятном, не понятом, как «о крашеном яичке на Пасху»! А и любовь-то сама ему, Тимофею, представляется «убогой», «ублюдочной», словами автора. «По Сеньке и шапка», как говорят. Или ещё так: «Какой идёт, такая и встречается». Но он – и это тоже общее правило – ищет ответа только во внешнем, не в себе. Искать ответ на свои вопросы в себе самом – об этом нет и мысли.
В развязке рассказа характер раскрывается и вовсе в интересном ракурсе. С пьяных глаз Тимофей будто бы принял тестя за Николая Угодника: «Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок». «Угодник», как ему и положено всё знать – знает, и сразу «берёт быка за рога»: «С чего тоска-то?» – «Тоска-то? А Бог её знает! Не верим больше, вот и тоска».
Тимофей не сразу открывается «Угоднику», призраку, весь разговор идёт вокруг да около: «Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим… Вот она и тоска». Разговор с «Угодником» напоминает ссору с Полиной: «спаскудился народ», «пьют, воруют»… «Я и то приворовываю на складе», «родиться бы мне ишо разок! А?».
Как же видит Тимофей своё второе рождение и «второй сеанс»? До самого «превращения» Николая Угодника в тестя идёт перечисление всех желаний Тимофея, вперемежку с жалобами: «любовь, что чирей на одном месте», «мне бы в начальстве походить». И тут – после осуждения общей жизни и мнимого сокрушения о закрытии церквей – ни капли покаяния.
«Желания» Тимофея в этой сценке с Николаем Угодником не взлетают до понимания истинных причин своей тоски. Ясно, что, если б и пожаловал ему Угодник «второй сеанс», и в этой новой жизни всё бы у Тимофея пошло по тем же рельсам, всё то́ же, что и на «сеансе первом». Ходит Тимофей в прокурорах, берёт взятки; жена, хоть и «с сахарными зубами», а счастья нет, и он похаживает к другой. Не было бы, разве, битья окон: всё же прокурор. Да и то – как сказать…
Но вот происходит превращение «Угодника» в тестя. Чудесным образом совершило это превращение желание Тимофея «законопатить» тестя за язычи́ну его, и вот он обернулся – а перед ним тесть!.. «Во́т тебе, а не другую жись! Вот тебе билетик на второй сеанс!» Всё выглядело бы поспешным, и наивным, и смешным – но читатель готов принять и это: боль ведь у человека. Другой писатель, не Шукшин, тут бы и окончил рассказ.
У Шукшина же ради другого, на́большего написан рассказ – а они в самом конце, последние слова-то и скрывают этот кураж, притворство. Вот эти последние слова: «Прости великодушно…» И тотчас ясно, что за Угодника он тестя и не принимал, и что всё это было то же: при́дурь, шутка от бо́ли, притворство – от сомнений и угрызений совести. Вот где подлинная исповедь: «В том-то и дело, что не знаю. Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б всё честно сказал, только не знаю, что такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Уката́ли сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно». Лишь здесь безысходность закончена и заменена истиной: «Прости́» (так же «ваньку валял» и Егор Прокудин, в его, Шукшина, «Калине красной»).
В один ряд с рассмотренными тремя шукшинскими рассказами можно поставить и другие. В некоторых персонаж с зачина становится в строй «тоскующих», «мучимых» совестью и терзаниями собственной души.
«По воскресениям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал её, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжёлым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.
– Опять!.. Навалилась.
– О!.. Господи… Пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина: она не знала, что́ такое тоска. – С чего тоска-то?».
Кажется иногда, что помимо воли самого автора вметаются в кощунство его персонажи. И всё от одного и того же – от поиска выхода из обыденки тусклого и мертвящего существования. Автор, как в цирке, возводит такую неприступную стену – тяжело смотреть, потом на глазах у зрителей не перепрыгивает эту стену, как ожидали, не перелетает её на крыльях, а перелезает под смех и рукоплескания довольной публики. Тут и персонаж, и автор – актёры.
Присутствие автора ощущается во всех рассказах Шукшина. Дистанция «автор – герой» порой совершенно стёрта, неприметна. Местами автор спешит: пишет и пишет, словно слыша биение собственного сердца, которое с каждым ударом отмеряет ему время жизни. И от этой спешки (по прозе его) создаётся впечатление, что и в жизни автор равен герою: всё то же – неустроенность быта, рытьё котлованов, поиски радости, поздняя семья и больная душа… Потому что – то, отчего так она «свербит», отчего так «наваливается», эта самая тоска (чего никак не понимают ни жена, ни тёща, ни друзья) – нам, пожалуй, никто так и не объяснил, не смог объяснить – ни до Шукшина, ни после его ухода.
Оттого так трогают его произведения, что они выстраданы. С ним самим – даже и не с автором, а с человеком – случилось то же, что и с его героями: тяжёлые годы учёбы, медные деньги, метания между писательством (по ночам, на кухне, с пепельницей, полной окурков, и крепким кофе) и – семьёй; между литературой – и актёрством, режиссурой с долгими отлучками… Высокие требования к себе, поспешное самообразование (на недостаток времени для образования более предметного, системного он так часто сетовал!..), первый успех – и вновь непонимание. Всё это сожгло́ жизнь замечательного, оригинального писателя, убило его на взлёте, в самом начале успеха. И тогда кинулись писать о нём: и Александр Чаковский, и не известный никому тогда молодой Владимир Коробов. Но более всего – за его русскость, за черты, дорогие нам в С. Есенине, А. Пушкине, Ф. Тютчеве – мстили ему. И особенно «сладостно» и безнаказанно – после его гибели. Некто Фридрих Горенштейн в статейке «Алтайский воспитанник московской интеллигенции (Вместо некролога)» написал, что называется, «срезал»: «Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея (курсив мой. – В. К.) – только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужи́чья, и – сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массового явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему не знакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна…»
За что же такая мстительность? И почему сегодня никто не напишет о Шукшине «толстую книгу» на премию за многие миллионы, этакий «гроссбух», «большую книгу», на общеизвестную премию? Или в библиотеку «ЖЗЛ»? Или заказа нет? А почему его, собственно, нет? Не из-за того ли, что точно известно, что́ именно, без предположения, сегодня Василий Макарович Шукшин сказал бы и написал бы о нашем, нынешнем времени (сахаровских «центрах», о «болотных» улицах и площадях, о гнусных треках, отрежиссированных в Храме Христа Спасителя для «Pussy Riot» – название, которое и произнести, и на русский-то язык перевести и прочитать, – немыслимо, дико!..); написал бы о совести, о душе, о «владельцах заводов, дворцов, пароходов»? И известно, на чьей он был бы сегодня стороне со своей всеотзывчивостью подлинно русской души.
Не простят Шукшину и того, что он предпочитал говорить со своим народом на равных (дистанция «читатель – художник» у него тоже, повторяю, равная): «Художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных» (статья «Нравственность есть правда»). И ещё: «Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман – места мало, времени мало, читают на ходу» («Как я понимаю рассказ»).
В.М. Шукшин прожил недолго, сама его жизнь была коротка́ и вся на виду, как и его рассказы – любимый им, признанный им как «неисчерпаемый» жанр. В ошибки Шукшину можно вменить лишь внешнее: разброс деталей, нанизывание необязательных сцен, «подмигивание» читателям, а главное – пренебрежительное отношение к форме. «Форма?.. – пишет он в книге «Нравственность есть правда», – форма она и есть форма: можно отлить золотую штуку, а можно в ней остудить холодец. Не в форме дело». По Шукшину, главное в ино́м: «нравственность – есть правда!».
Кто сегодня скажет, что стремление к нравственности – и есть задача задач? Вспомним, совсем недавно в России стеснялись признаться вслух: «Я – патриот», многим стыдно было – так слово это оплевали, осмеяли, унизили. Пытались унизить – таков был заказ, в такое вот поставили положение. А Шукшин не устрашился бы признать, заявить, утвердить себя патриотом, в этом нет ни малейших сомнений. И этой родовой, кровной бесстрашной черты ему не простил, не мог простить исходящий глумливой злобой всё тот же вышеназванный русскоязычный зои́л – не простил русскому того, что он – русский.
«Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным. Также и в искусстве, и в литературе: сознаёшь свою долю честно – будет толк» (Василий Шукшин).
И сам я, когда «накатывает» тоска, когда тревожит что-то душу, – не пристраиваюсь к толпе таких же грешных, как и я, «козлищ и овец», не иду к Абаю – казахскому пииту, которого удостоили памятника не где-нибудь, а в самой Белокаменной даже, на Чистопрудном. А иду в храм Божий. Или, если не складывается, – беру с полки Шукшина Василия Макаровича. Беру и перечитываю…
2013
Тайны творчества
Музыка неба
Определение из пресловутой «Википедии» о гении: «…высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности, который проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании художественных произведений, имеющих отдалённые последствия во многих областях культуры. О гениальности говорят, когда достижения расцениваются как новый этап в определённой сфере деятельности, считаются опережающими своё время, формируя зону ближайшего развития культуры. Традиционно (начиная с И. Канта) термин «гениальность» связывают с представлениями о таланте, однако многие <…> систематически различают эти понятия».
А вот что говорит толковый словарь великорусского живого языка В. Даля, и здесь кардинальное расхождение с «Википедией». Отметим: «Гений – лат. незримый, бесплотный дух, добрый или злой; дух-покровитель человека, добрый и злой. Самобытный, творческий дар в человеке; высший творческий ум; созидательная способность; высокий природный дар, дарования; самобытность изобретательного ума. Человек этих свойств или качеств. Гениальный, исполненный гения; самобытный, творческий, самодарный. Гениальность – качество, свойство гениального».
…Слава земная предполагает или всеобщую любовь и восхищение избранником судьбы – гением, или любовь многих, пусть, на первый взгляд, и не заслуженную, неоправданную (казалось бы) при жизни гения. Восхищение достоинствами или дарованиями, уважение. «И уважать себя заставил…» – у А.С. Пушкина, по насмешливому слову приме́тливого поэта, означает одно: дядюшка почи́л, ушёл в мир иной. Это не́что другое, к понятию «гений» отношения не имеющее, а – стал недоступен, отде́лен, «неотми́рен»… То же самое (по иронии А.С. Пушкина) – и все (внешние) почести почившему высокопоставленному чиновнику или богачу, не заслужившему на деле никакого почтения. Вниманием и уважением следует одаривать за достоинства более соответствующие, но они, эти дарования-заслуги (по внутреннему содержанию человека), недоступны большинству. Более того, часто непонятны, неразличимы для людей. Есть у немногих поэтов, например, у С.А. Есенина строки о наивных его, о «мальчишьих мечтах в дым» о славе, известности и обо всём, что с этим связано. Изречение мудрое не по годам: «И мечтал по-мальчишески, в дым, / что я буду бога́т и известен, / и что всеми я буду любим…» Но: «богат и известен» и «всеми… любим» – совместимо ли это, бывает ли так вообще на этом свете, в мире сём? И в этом контексте читается и весь поздний Есенин. Да разве только Есенин? А – тот же А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, а Лев Толстой?..
И вообще верно ли так категорично судить, что то́т или иной художник, в одиночку и именно он, и только он один – создал полотно́, роман, скульптуру, поэму?.. Сам, без примера, без образца, не имея предшественников, со-творил (то или иное) произведение. Поразмыслим: а возможно ли тому́ быть, например, чтобы «спикером» или «президентом» человек стал «сам», исключительно благодаря своим качествам, уму, смекалке, а не своей партии, течениям, сговорам… Сам, «и только?» – спросит дотошный читатель, и ответит: «Нет, конечно». Много случайностей должно «сойтись» и многих подводных камней избежать придётся.
Ну, с властью – тут, пожалуй, многое понятно. Властитель едва ли не весь на виду по его способностям, а как быть с художником? Сколько ничтожных вроде бы при жизни людей оказались впоследствии великими. Великий Иоганн Себастьян Бах ушёл непонятым, «прочитан» по шедеврам, случайно найденным на чердаке дома, где он жил… Винсент Ван Гог, Эдгар Аллан По, Галилео Галилей… А с гениями неназванными, в неизвестности оставшимися «иного пошиба» – как быть с ними?
…«Книги пишутся из книг», – не утаивая сарказма, ядовито повторял Гюстав Флобер, известнейший французский писатель-прозаик, величайший стилист, философ, анахоре́т и мыслитель. Сказал он так поистине с нескрываемым цинизмом завзятого афори́ста и насмешника, – бравируя колкой язвительностью характера, чертами, которые, быть может, присущи более всего именно галлам. Но и в шутке – лишь доля шутки, как известно, большая часть и в самоиронии – правда. И всё же, если человек ни разу не видел того же кино, скажем, то – снимет ли он «полнометражную ленту» в той форме и в тех традициях, которые устоялись за последний век, таких понятных нам и привычных? Вдобавок, чтобы это было именно – кино и искусство кино? Даже и лавка, и стол, стул, и повозка в новом дизайнерском исполнении с какими угодно конструктивными находками опираются на прошлые изделия. Так не участвовали ли и в самом деле все живущие с нами и до нас – в нашем новом создании, в сотворении того или иного «артефакта»? Но как участвовали, «метафорически», опытно? «Архетипически» – да, участвовали, без всякого сомнения.
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель», – изрёк А.К. Толстой в минуту откровенья и пояснил: «Вечно носились они над землёю, незримые оку». Несомненно, что и гекзаметр гомеровской «Одиссеи», и он тоже – предосуществил догадку того же А.К. Толстого. Но и Гомер не изначален, и это тоже понятно. Великий Гомер – слепой гигант, «родоначальник» эпоса, как принято считать, – тоже вовсе не интуитивно уловил тончайшую нить интонации. Мы знаем и помним Гомера, Софокла, Платона… А сколько имён не менее значительных «канули в Лету», остались неизвестны нам.
Творцы умеют настраивать некие часы и минуты и «работать на приём», обдумывая и вынашивая идеи годами, десятилетиями. И Гомер – пристально вглядываясь именно в себя (не только по слепоте своей), всматриваясь и вслушиваясь в потаённое, никому не доступное, не понятное никакому досужему взгляду, во внутреннее своё пространство, – сподобился вдруг проникнуться незримыми веяниями и почувствовал озарение (тоже не на «пустом месте»). И Гомера, несомненно, тоже предваряли великие предшественники, которые нам неизвестны за давностью времён. И он, конечно же, на них опирался. Стал высок, «встав на плечи гигантов»…
…Создатель у всех один, а прее́мники же (они же чувствительнейшие «приёмники» – гении) – сложно настроены на одну волну с самим Демиургом, не так ли? Но таковые «приёмники» редки, хоть в профессиях, хоть и в науках они и многоразличны. И в этом сокрыта тайна великая, едва ли не одна из самых значительных на земле тайн славы по́длинной, не купленной и не внушённой молвой, – и славы не от рекламной свистопляски, не от пустой шумихи, а самой достойной, оцененной и проросшей к небу самому. Той, что от опыта и от настоящей внутренней работы…
Так слепой всё тот же Гомер услышал «Илиаду», глухой Бетховен – «Лунную сонату». Моцарт, почти уже сумасшедший – свой «Ре́квием» (по себе самому – мессу, как оказалось впоследствии). Несомненно, что «Реквием» услышал живой «приёмник»-Моцарт, и – именно только «свой» реквием, а не зака́занный ему таинственным посетителем.
С.А. Есенин, по его словам, тоже «услышал» своего «Чёрного человека» почти готовым. Мопассан, страдая от спинной сухотки, – полубезумный от последствий опухоли, почти ослепший, – и он слушал (по его признанию) «двойника» – и наскоро записывал, по выражению знаменитого француза: «под диктовку», десятки страниц, едва успевая строчить карандашом на листе бумаги. В этом же перечне и «Ворон» Эдгара По. И Данте – с его главами «Ада», что позже отразила и Анна Ахматова: «Ты ль Данту диктовала страницы Ада»? Отвечает: «Я»!».
Уверен, что и А.А. Ахматова, невзирая на все её странности и противоречивые извивы её характера, – тоже была «человеком-приёмником». И она сама понимала своё исключительное (но не самодостаточное во многом) существование и понимала литературу, особенно поэзию – именно как служение, тонкое и настороженное. И сбор, и трансформацию упомянутого ею «сора» для своих стихов – музыкой свыше. Откуда? Никто не знает. И мы помним и по сей день (по слову Ахматовой) – «…из какого сора растут стихи, не ведая стыда». И не забыли острое и противоречивое «Шестое чувство» Н. Гумилёва – стихотворение, которое, собственно, о том же.
…Д.И. Менделеев так будто бы «прикорнул» однажды, что увидел воочию (во сне?) таблицу элементов. Вот оно, подлинное достоинство и таланта, и гения: уметь слышать – и услышать голос Творца всего сущего – именно через «озарение». Только и всего, кажется. Как просто. Но этому их «угадыванию», обострённому слуху и зрению (даже во сне) – предшествовали напряжённейшие годы изощрённых поисков и активного творческого труда. А главное: требовалась настройка камертона внутреннего на едва-едва уловимую Музыку Неба, на вечное её звучание – только для избранных этого мира.
Сама жизнь – одновременно и художественное полотно, и симфония. И все люди (иные неосознанно даже) в той или иной мере принимают участие и в композиции, и в созидании этого «симфонического полотна». Человек – со-творец, помощник, со-трапезник и со-исполнитель Демиурга. Участвуя в общем труде, он создаёт (и это главное) прежде всего себя самого. И вот именно это-то, и только это прежде всего – и есть самый главный момент. Осознание того, что люди, и деяния их на этой земле, и их отношения – всего лишь краски на полотне Демиурга, а Он, подлинно Творец – смешивает их на своей палитре, – и это осознание своей ничтожности перед Создателем, подчинённости Ему, – вот что самое важное. Солнечные, радостные цвета смешиваются на его палитре, а затем и на холсте мольберта. Нередко – с трагическими, иногда – с кровавыми «натюрмортами» и пейзажами. Не олифой с маслом, не взбитым белком из куриных яиц – а страданиями и молитвами истинно верующих, избранных пишется «Картина Мира». Не отсюда ли: «Быть знаменитым некрасиво» Б.Л. Пастернака? «Бог диктовал, а я писал», – сказал блаженный Августин. «Я не сам думаю, но мысли мои думают за меня…», «…И всё уж не моё, а наше, и с миром утвердилась связь…» – восхитился однажды А. Блок.
И так, человек-художник твори́т, принимая жизнь как великолепный холст и сознавая, что он и сам-то – не более, чем единственная краска Божья. Осознавая себя акварелью или маслом на палитре, всего-то – следом от удара по холсту кисти Художника… Нотой в симфонии, написанной Композитором, и только… Человек недостоин славы, и не сто́ит он никаких похвал. Но как велика самонадеянность человеческая: а, между тем, едва ли не каждый из тех, кто пишет, сочиняет – ищет именно музыку и слова́, будто бы сам, полагаясь на себя самого, и только. Не на Небо, не на Опыт…
Нынче сам я сажусь за стол, порой зная наверняка, ка́к и что́ ляжет в строку. Но – я ли это знаю?.. Или и я и сам тоже – всего лишь приёмник-копирайтер, исполняющий некий заказ?
Как, когда, где поворачивалось и «выпекалось» задуманное? Пишешь то, что впоследствии оказывается сто́ящим, – почти всегда помимо собственной воли; неприметными путями, неизречёнными, незримыми тропами – выходишь к какой-то вершине, к «финалу»… И лишь пото́м, часто через годы, а, быть может, и через десятилетия – оказывалось, что да, эту «вещь» непременно сто́ило писать. Время её пришло.
И вот что ещё странно: в процессе письма сами́м замыслом движимый, иногда вдруг приходишь к мысли совсем иной, противоположной той, которую имел в виду первоначально своей целью, итогом. И по-иному работается тогда, иногда и вовсе не логично. И неизвестно, какой «розой ветров», какими рассуждениями и суждениями, какими вехами – наша доро́га вынуждена поворачивать не вперёд и вверх, а – даже вспять поро́й.
Сам А.С. Пушкин однажды сказал своему приятелю: «Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна. Она вышла замуж! Этого я от неё не ожидал».
…Как уйти от красивого образа, как миновать «высокий» слог, когда речь заходит о мире го́рнем? Свет падает на алмаз или на линзу воображения, но только лишь один луч света – вот и всё, что видят окружающие. И только постоянная смена граней этого незримого «алмаза» – даёт вечную свежесть ощущений. Ежемгновенно, ежесекундно изменяемую и играющую удивительной гаммой цветов, разноцветьем воображенья…
Едва ли не все гении – мятущиеся, много и глубоко страдающие люди. Большинство отмечено болезнями и ранней смертью. «Гениальность и помешательство» – не только тема книги Ч. Ламброзо… Это вечная тема. Верующие или неверующие… страдают одинаково, но чаще – именно верующие люди гениальны: просто оттого, что они ближе к «первопричине всего в мире», ближе к Богу. И верующие же, от Фомы Аквинского до Игнатия Лойолы, от Ньютона до Льва Толстого – всяк по-своему, но даже и они принимали и воспринимали и слышали, способны были уловить Музыку Неба…
…Действительность – этот калейдоскоп причудливой и случайной мозаики – вздрагивает от пересыпания и «перекручивания» кристаллов, заложенных в «линзу обозрения», – так различны трактовки от Самого Создателя всего сущего, а нам кажется – и от подводных течений. А если удаётся направить и обратить к солнцу калейдоскоп – к Свету мира, – он тотчас засияет и ослепит радостью несказанного многоцветья… Всё зависит от того, куда именно направлен «алмаз», вложенный Богом в названный калейдоскоп жизни: в Небо ли или в помойную яму.
В этом изменении угла зрения – полёт тени самой Тайны. Назови как угодно «прибор» применяемый: от астролябии до теодолита, нивелира. Но точнее всё-таки – калейдоскоп. И сама сущность человека-«приёмника», слушателя Гласа Самого́ – непонятна и тоже таинственна. Ценность или ничтожность человека – именно и только в «угле зрения», в направлении его взгляда. Здесь он и есть, сам человек, и весь состав его, и значимость, и цельность (или обесцененность). И это тоже одна из главных загадок, среди множества загадок от тех, кого интересовали «глубины» души человеческой. От Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева… до А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
…И вот неведомый художник поворачивает алмазы в калейдоскопе с замиранием сердца – и не устаёт следить за игрой граней. Но и за нами самими, и за поворотами этих алмазов (и в нём самом тоже, потому что и он небезразличен) – всегда наблюдает неусыпное Око. И оно даёт и сове́т ему, и даёт и Свет. И освещает и освящает или, напротив, – лишает его и сна, и покоя…
Человек разглядел некую необычную грань и записал её, изобразил – вот, кажется, и всё. И поостынет сердце его на время, и уже неважно ему даже и то, ка́к именно воспримут изобретённое или напис́ анное им. Понято ли будет сказанное самому «широкому читателю», усвоено ли будет большинством или отвергнуто, кажется ему – всё равно. Кроме того, художник оставляет за собой право возвращаться и отделывать. Вернее, даже так: сотворённое художником и – Небом (мы говорим здесь о созданиях мастеров, а не «любителей»). Поэтому странно, что многие писатели, художники так трепетно чутки к похвалам и к порицаниям, и – так самолюбивы, так горделивы порой и тщеславны даже до болезненности. Они как бы охраняют «своё» (как им кажется: то́ именно, что принадлежит будто бы только им и никому больше: охраняют их дар, их самобытность, их преимущества). Но это – иллюзия. Подрамники, кисти, палитра, перо и бумага – вот что единственно наше. Крик первый рождения и боли – наш. Первые радости – при входе в мир Божий и скорбь при исходе из него (при русстанях души, тела) – наши. Несомненно, повторю утверждая, – наши – лишь кисти да перо, и только.
…Восхищённый взгляд в калейдоскоп, обращённый к Небу, – не может возгордиться. Это только взгляд. А как иначе: или, быть может, это ты и только ты и создал изделие для витража или алмазной мозаики, а – свет? А храм для мозаики? А облака над ними тоже тобою созданы?
…Но бывают минуты озарения, когда, устав от долгого кропотливого труда, отбросив ворох исписанной бумаги, подойдёшь к чёрному ночному окну, где за стеклом дрожит и ещё дважды в ночном стекле-зеркале отражается, повторяется таинственная глубина Бытия. И, опустив занемевшую руку, застынешь перед чёрной звёздной бездной – и забудешь тогда и о мире, и о себе самом. И вдруг – вдруг!.. – поймёшь тогда и почувствуешь на себе эту мощь, услышишь вдруг издалека едва различимую «симфонию жизни». Так ясно почувствуешь тогда прелесть и влекущую бездну этого страшного состояния – и мгновенность, эфемерность своего бытия: ты один в бездне, между землёй и Небом…
И тотчас обомлеешь – от единства с этим миром, с этими зелёно-белыми, отливающими разноцветьем звёздами. Ощутишь всю эту тяжесть бездонной глубины небесной, способной вмиг раздавить тебя – а в то же время и благословить – бесконечной, не заслуженной тобой Любовью.
Почувствуешь тогда и родство с этим воздухом и этими деревьями – чуткими, как трепет невидимых крыл. И тогда услышишь томительными созвучиями и сам рассвет, и то, как растёт в сердце великая благодарность… Кому и за что? Бездонному, чёрному в далёком рдяно́м пожарище зари, пугающему ужасным величием своим Небу? Лёгкому близкому рассвету, засинившему окно? Людям ли, для которых пишешь и о которых думаешь, о существе и существовании коих помнишь всегда, – обо всём и обо всех – с кем можешь и хочешь поделиться и горем своим, и счастьем на этой земле. Горьким счастьем своим… И глядит в наши оќ на великое Небо. Вечное. И тогда понимаешь: отдельная слав́ а, любая, смешна и ничтожна. Важно и бесконечно лишь Небо и величайшая вечно звучащая симфония орган́ а Небесного…
1984–1986, 2020
О душе
Какое несчастье для человека недалёкого – собственная его душа… Эта субстанция – удивительнейшая сущность, сколок Бога, Божественного зеркала, нечто вживлённое в плоть. Но вживлён этот «сколок» необработанным осколком, колючим, стеклянным, острым, колющим, не дающим покоя и постоянно напоминающим о себе и болью, и присутствием, и укором совести, неудобствами размышлений: сравнениями, рефлексией.
Невероятно это смешение в человеке – Божественного начала и – начала животного. Не случайно изображение кентавра у древних греков: животная стать, сросшаяся с человеческой, – и вот едва ли не каждый из нас, в той или иной мере постоянно мучится сомнениями и поисками высшего порядка и – в то же время страдает от самых примитивных и низких плотских желаний, страстей.
Какие сомнения по поводу Любви Божественной, как сложносоставны этой боли «посланники». Какие страсти терзают «человеков» по системе координат: «свой-чужой», и по их «животной» жизни… Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле – в виде терзающего самого себя великана, наносящего себе увечья. Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!..) терзает себя, пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок из своей плоти, вживлённый как необходимое условие существования человека в двух ипостасях: в мире насущном, плоском – и надмирном (и часто неосознанным), редчайшем взлёте и паре́нии.
Необычное, неодинаковое влияние творчества, творческого процесса – на людей, обладающих настоящим даром, – людей, носящих в себе искру Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, убивает человека (Ван Гог, Моцарт…) или, напротив, способствует долгожительству, придаёт смысл, стать и даже вкус и восторг бытию творческого человека (тоже, конечно, не без срывов и терзаний). Охраняет и поддерживает существование творца и художника в этом бренном мире: Толстой, Леонардо да Винчи, Тициан…
1992
Роковой отъезд
В последний год жизни Мопассан, смертельно больной, работал над романом «Чужеземная душа». Сохранились собранные материалы для этого романа, опубликованы фрагменты. В набросках, если пристально читать их – поражаешься, зримо видишь, с особой яркостью отмечаешь, какие высокие требования ставил перед собой писатель Ги де Мопассан. Он весь, даже в ранних работах, в юности, когда – то́ писал, то́ грёб на лодке до смертельной усталости в перерывах между сном и творчеством, – воспринимается читателем как бы в тяжёлом предчувствии скорой своей гибели…
Слуга Мопассана Тассар написал и издал занимательную книгу о «великом поэте», своём «господине». Если только имеет право один из живущих (пусть и подневольный) – называть «господином» кого-то другого (разве только Бога Самого). Отношения «слуга-господин» и в случае с Мопассаном и Тассаром тоже весьма условны. В книге о Мопассане много субъективного, спорного, но есть и редкие яркие находки, и оригинальные наблюдения. Для «Чужеземной души» Мопассан собирал «особый» материал – например пейзажи вокруг курорта Экс-ле-Бен. Вместе со слугой он наблюдал закат, осматривал горы вокруг курорта.
…Солнце пряталось в долине, лучи освещали озеро, воды которого горели пожаром заходящего солнца, и сквозь расщелины – лучи, пронзая тучи, освещали необозримую широкую долину с великолепным ландшафтом. Вершины гор, близких к полыхающему озеру, уже чернели, погружались во мрак умирающего дня. Небо меняло краски, и глубокая тишина опускалась в окрестностях Экс-ле-Бена. Наступала ночь. Звёзд ещё не было видно. Пожар озера умирал на глазах, и величайший прозаик и поэт Франции вместе с Тассаром взглядов не спускали с озера, расщелин и гор, меняющих очертания в свете закатного дня… Тассар следил за своим «господином», чувствуя восторженную душу поэта: «Допишет ли мой господин «Чужеземную душу»», – думалось ему в эти минуты – так утверждает он сам впоследствии.
…Тассар служил верой и правдой, и если согласиться с книгой, написанной им о Мопассане, то получается, что будучи сам и слугой, и поэтом, – он чувствовал, понимал одинокую душу Мопассана как никто до их встречи и дружбы; знал наверняка, что этот закат, этот пожар большого озера, и чернеющие склоны гор, и дикие заросли окрестностей будут показаны в «Чужеземной душе». Тассар пытался узнать, предугадать: что именно волнует Мопассана в эти тревожные минуты заходящего солнца, среди еле уловимых красок свечеревшего дня, засинённого тучами мутного неба… Солнце пряталось, краски померкли, ночь овладела окрестностями курорта Экс-ле-Бен, и мало-помалу всё погрузилось во мрак…
Вдвоём они спускались тропинкой с гор, – и каждый дорисовывал картины мысленным взором, и тогда Мопассан восторженным тоном говорил слуге Тассару: «Вы хорошо это видели? Ну, так всё это вы найдёте в новом моём романе. Экс и его окрестности дадут мне превосходную рамку для действий моих персонажей».
Для «Чужеземной души» было собрано Мопассаном много исходного материала: казалось, едва ли не все краски земли, едва ли не все еле уловимые ощущения и мгновения озарения – стремился вырвать из жизни для своего полотна и выразить в романе талантливый француз.
В «Чужеземной душе» основным стержнем романа была бы критика светского общества, пороков термального курорта Экс-ле-Бен, с его казино, дешёвой любовью, деньгами – словом, вся мерзость и нравственное падение «избранных» – закисание «сливок» общества на фоне величайшей земной красоты, созданной Всевышним для трудов праведных и призванной к высокой жизни человеческой души. Мир денег и мир духовности, сходное и различное между мужем и женой… Мучительное «двуединство» и в первом, и во втором примере. Этот роман должен был продолжить и развить начатое в «Монт Ориоле» (1887 г.).
…Прототипом одной из героинь была выбрана Кармен Сильва, румынская королева и писательница. Но, как известно, «Чужеземную душу» Мопассан не успел закончить, не прекращая работы над романом до самого рокового отъезда в Париж к доктору Бланш… Впереди ждали: и рана на шее от попытки самоубийства, и мучительная изматывающая бессонница, и болезненное и одновременно желанное одиночество, и страшные муки от головной боли, которые причинял яркий свет изношенным нервам, и отчаяние, и потеря памяти, и непереносимая ломота в темени и висках, которая стихала лишь на время, да и то, лишь когда вдыхал писатель с жадной надеждой хоть немного передохнуть – ядовитые пары́ из склянки с эфиром; частые компрессы и уколы сульфата ртути, и, наконец, полная слепота как следствие спинной сухотки, прогрессирующего паралича мозга…
По смерти Гийома и слуга его Франсуа напишет книгу воспоминаний о «господине». Напишет единственно ради денег – ради того, что так презирал и к чему так стремился сам Ги де Мопассан, терзаемый непомерными запросами матери, ненасытной её гордостью, поощряемый похвалами за его успехи, за славу. Она будет требовать от сына деньги – для себя, для трат огромных, и для того ещё, чтобы чаще бывать в «свете» французских салонов, блеском и модой которых она не могла налюбоваться, – и как им обоим казалось, «света» неотрывного от его мировой славы – той, что так и не наградила его самого́ ни любовью преданной женщины, ни… хотя бы счастьем одиночества…
1986
Моя путеводная звезда
Передо мной всегда стоял вопрос: как правильно использовать имеющийся арсенал художественных средств или, как его ещё называют, «деталей»?
А.П. Чехов имел истинное дарование не злоупотреблять красками: он весь – так кажется, врождённые и воплощённые чувство меры и вкус. И.А. Бунин поражает красками, «выпуклостью», густотой письма: весь «Господин из Сан-Франциско», «Генрих», «Жизнь Арсеньева» состоят исключительно из красок и декораций, – и этими щедрыми красками всё: и проза, и поэзия его пылают. (Океанская волна идёт за кормой парохода при ярком солнце, точно «павлинье перо»…)
К. Паустовский (хоть это, конечно, пример из другого писательского ряда) – лишь чуть-чуть подкрашивает пейзажи вокруг героев, создаёт некий ореол, знаменитый «контур чувств» и настроений. Н.В. Гоголь – певец красок и мастер «оживших бутафорий», которые у него тоже в изобилии. Причём так: они и есть, и вроде бы, они и всего лишь «ка́жимость» («Нос», «Портрет»); а прозвучав – тут же исчезают, как призраки. У Л.Н. Толстого – деталь имеет обобщающее значение: знаменитый дуб в «Войне и мире», Наташа Ростова в Отрадном – именно через деталь, мирочувствование юной девушки – и уже только этим одним Наташа прекрасна.
В сумятице высказываний об искусстве, о том, как именно пишутся книги, – от многих и многих авторитетов трудно уловить-выудить истину. Так как же в самом деле, а главное – и когда «загущать» деталями полотна, и сколько сможет вместить читатель из прочитанного в конечном результате. Не ошарашит ли его обилие декораций, не затуманят ли подробности и саму даже суть, и «идею» (как сплошь случается, например, у В. Набокова), – не помешают ли богатые краски восприятию общего и целого, архитектонике, замыслу… Вопросы, вопросы…
Опасения и размышления всегда тревожат взыскательного, неповерхностного автора. Таким образом, пишущий всегда стои́т перед важным выбором: как использовать имеющийся у него в достатке арсенал художественных средств и одновременно не «перегустить». А выполов и проредив старательно, – сумеешь ли договорить о тайном, однако.
…У нас величайшее наследие классики: Гоголь, Тургенев, Бунин, Толстые… Как не стать сквалыгой – и не прослыть «промотом»? И тут очевидно: надо положиться на себя, исключительно на свои чувства, исповедовать только свои убеждения, слышать свой пульс и шум, и ток крови.
Как же противоречивы высказывания прославленных о стиле и о «детали» – эти домыслы, в том числе и прослывших великими даже писателей! И если пойти за кем-то, поверить безоглядно, то обязательно попадёшь не на ту, не на то́рную дорогу, а собьёшься с истинного пути. Сколько их, способных, талантливых – пошли, например, за тем же И. Буниным, этим литературным эстетом-колдуном, этим Сусаниным, – и все они растерялись, прослыли эпигонами, заблудились на путях-дорогах, утонули в лесных его болотах, растерялись в его снегах. То же можно сказать и о тропинках извилистых и кривых задорного и щедрого А. Куприна́…
С пристрастием наблюдаю современника-читателя: кто же, думается мне, читает теперь «Тенистые аллеи» Бунина? А ведь он, Бунин, – оставил нам настоящие сокровища: «лишь слову жизнь дана» – одна поэзия его дорогого стоит, а проза… Сколько теперь избранных, читающих настоящую литературу, не бульварщину, катящуюся по «Даун-стрит» («Down street»), – их очень и очень мало, и всё меньше становится. Большинству же не до стиля, не до детали, конечно. Кто помнит теперь про «деталь». Школа русской классической литературы утеряна. Многие по стилю – не отличат теперь Тургенева от Олеши, или – высоко несут стяг… тех же Стругацких, например, не понимая вовсе красоты и эстетики слова.
Смысловая «нагрузка», сюжет, увлекательность повествования – вот и все критерии. Не чувствуют они бедняги, не видят красоты, не понимают силу вложенных в строку колоритности, выпуклости. И всё же «Тёмные аллеи» – сборник рассказов – весь стоит исключительно на «детал́ и». (А цикл этот из рассказов не издававался у нас в Союзе даже и едва ли не до семидесятых годов, – и это то́т образ́ чик «подроб́ ностей», которые пронзаю́ т. Простенький внешне сборник рассказов этот лишил сна перед Олимпиадой в Токио Юрия Власова, сильнейшего человека мира, штангиста – человека, отлично владеющего собой).
Всё изучается в сравнении. И тут приходится с особым пристрастием выписывать высказывания великих, дабы усвоить истину, которая одна только и сделает нас свобо́дными, ибо только истина прекрасна. А.Б. Гольденвейзер вспоминал высказывания Л.Н. Толстого о рассказе И.А. Бунина: «Вначале – превосходное описание природы, идёт дождичек. А потом девица мечтает о нём, и это всё: и глупое чувство девицы, и дождичек – всё нужно только для того, чтобы Бунин написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать не о чем, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну, шёл дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что всё это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно».
Лев Толстой-писатель (в противоположность Л. Толстому – философу), конечно, несравнимо велик. Но соглашаться ли с ним, принимать ли неоспоримо это чадящее как бы едкой се́рой и едва ли не из самой преисподней мнение? И тут – сомнения, опять-таки сомнения.
Человек – великим ли признан он, или явно приземлённый – существо весьма противоречивое. Часто «под настроение», под горячую руку высказываются «незабвенные» истины и говорятся пустые слова. В конце концов, можно с Л. Толстым и не соглашаться. Если рассказ «Заря всю ночь» (в первом издании – рассказ «Счастье») принять таким, каков он есть: с красотой природы, с истинным мгновением, схваченным так неожиданно… И – увидеть, суметь разглядеть это счастье, уловить и передать неповторимые минуты, как удалось сделать Бунину, – разве всё это не великолепно, разве мастерство передачи изображения-настроения не высокое, не великолепное искусство? Просто «дождичек» и есть? И кто может сравнить и наверняка вполне оценить, что важнее для души человеческой в её ощутительном бытии, в дозревании её эстетическом: небо над Болконским, небо над Аустерлицем – или заря и небо Бунина в его рассказе «Счастье»?
И девушка Наталья узнала, что приехал жених, неясные желания, неуловимые предчувствия… Соглашаться ли с Л. Толстым? Поверить ли И. Бунину?.. В самом деле, как же мне самому писа́ть – вот вопрос, который возникает неминуемо из противопоставлений такой высоты русских авторов. Бесчисленное множество высказываний, вроде того, что «петь по-свойски, даже как лягушка» (Есенин), «брехать по-своему» (Чехов), – всё это ровным счётом ничего не открывает и не ведёт к истокам, не отвечает на вопрос: а как именно?..
Ф.И. Тютчев сказал о «Записках охотника»: «…С другой стороны, не менее замечательное сочетание самой интимной реальности человеческой жизни и проникновенное понимание природы во всей поэзии». Всё так, но Толстой ли не понимал «интимной реальности жизни»? Он ли не чувствовал «природу во всей поэзии»? И знал, и чувствовал.
С тех пор, как горожанина потянуло в выходной день на лоно природы, он стал поэтом. Он понёс это, неч́ то эстетическое, трудноуловимое… Именно – то́ чувство, которое поэты пытаются (и часто – тщетно) передать друг другу и читателю. Художники ловят мгновения и настроения, на то они художники. Но где же и когда, в каких «усадьбах» мы растеряли тургеневских барышень? (А ведь растеряли же!). И чистота «Бедной Лизы» Карамзина нам непонятна теперь, и не трогает она многих сегодня… Почему? Сентиментально? Или читатель загрубел́, зачерствел́?
Многим известны высказывания критики о близости манеры, стиля, приёмов изображения – и Тургенева, и Бунина. Отчего они так близки – только ли оттого, что их сближал и «подчинил» (будто бы) французский язык, ведь галломанами не были ни тот, ни другой (хоть Тургенева упрекали в том, что «он и мыслит по-французски»). Известно множество советов о том, как следует писать – и от женской половины, то же от «писательниц»: от Зинаиды Гиппиус и даже от «милой» Тэффи. И всё же – опять: как не прослыть скрягой и не промотать наследства?
Так называемая «натуральная школа» в литературе – спутала «Божий дар с яичницей»: она внесла сумятицу в разгадку самого простого и загадочного одновременно – в метод освоения путей и в психологию творческих поисков каждого отдельно взятого писателя, поэта, даже – и живописца… Как только замаячила над горизонтом зыбкая и трепетная, переливчатым светом сияющая звезда творческой личности, – сам горизонт стал удаляться, и приблизиться к нему становилось всё трудней и трудней… Как же быть?
Литературовед́ ение как наука, кажется, бессильно, опытно не применимо. А, может быть, вышесказанное: и то, и другое, и третье – взять в свою нищую суму? И разукрашивать свой слог нещадно «и золотом, и алмазами», как советует Жорж Санд (Аврора Дюдеван), и одновременно «непосредственное и неизбежное течение разговорной речи» – использовать тоже? «И то, и другое, – пишет она, – одинаково трудно». Взять и то, и другое, и третье – и понести ли, и привнести ли (так и пробовали работать И. Бабель и Ю. Олеша) в своё, так же метафорически, иронически, как это делали они? И всё же многое у них невыносимо трудно написано и почти нечитаб́ ельно. Ведь всё надо делать хорошо, «даже и с ума сходить», как говаривал О. Бальзак.
Если систему чужих принципов не дано усвоить никому, если никто не является пчелой, переносящей нектар в благодатный мёд, – зачем же столько разговоров о методах и мастерстве? Всё и всегда непознаваемо, весьма условно, а разве нет?.. И тогда – под сомнением и сама необходимость литературоведения как отдельной науки, и изучение стилистики, и психологии творчества. Выходит, пути поиска даже пристрастные – никуда не ведут?
А. Дюма-старший писал романы-кирпичи (говорят, за него ваяли именитые журналисты – «литературные негры») – все те́ романы, в которых кипят страсти бурными реками. Сам же он был всего лишь хорошим редактором, – и сам он говорил нечто противоположное, например: «…для создания драмы довольно одной страсти и четырёх стен».
…Традиция «писать красиво», называть и именова́ть краски, капать определениями с кончиков пальцев – зародилась именно в русских терновниках ещё до явления нам Н.В. Гоголя. Приключенческий роман не прижился в России. В очерке о Гоголе тот же П. Мериме сказал, имея ввиду конечно русскую школу детали: «В конце концо́в, искусство выбирать одну краску из того бесконечного многообразия, которое являет нам природа, куда сложнее, нежели умение прилежно разглядывать все эти краски и точно передавать их». Бальзак натаскивает столько «строительного материала», что трудно порой подступиться к его «строительным лесам». Но когда дом построен, дух захватывает от одного взгляда на грандиозное сооружение.
Опыт приходит лишь с годами и только в трудах. Работой создаётся мастер, так, значит, стоит потрудиться. И научиться пусть и не называть полностью, а только лишь намекнуть читателю, – но намекнуть изящно, правдиво, через действие и одну-единственную деталь – вот (на мой взгляд) сущность и суть литературного творчества, которое постигаешь мало-помалу, исподволь и – бесконечно долго. Всегда своим по́том и своей (только) кровью. Но и это, в сущности, – лишь одна восьмая часть айсберга. В муках, в творческой лаборатории, в этой «келье слёз» с одним окном и столом, заваленным обрывками бумаги (в целях экономии исписанными с двух сторон), я чувствую порой, что не в силах собрать всё, что необходимо даже для одного-единственного рассказа. И тут – обязательны не только реквизит и умение: что можно – отсечь, выбросить, хоть корзина давно полна бумаг… Суметь отобрать только своё, характерное именно и только для меня – и отбросить всё лишнее, может статься, что и блистательно написанное, но «не моё» – именно почувствовать, что не ложится на душу, не освещает (хоть под каким-то иным, отличным от прочитанного углом зрения) и не обнажает замысел произведения. И тут никакие яркие одежды не спасут, если от начала до конца – «не прощупывается» костяк идеи и намерения. Автор (скажу ярко): не всегда выводит основную мысль – через образ, но стремление провести её кратчайшим путём – от ивовых зарослей речного плёса – по броду, среди живой топи и неверной хляби (исключительно интуитивно) – вот единственно только и цель.
…Моя путеводная звезда – одна заветная – это система отбора… Она сияет мне на дальнем горизонте вечной «слезой» Северной Звезды. И только под ней, а не где-нибудь, сто́ит продолжить поиски собственной тени…
1989
Благослови, отче
Ночь. Комната. Стол, и настольная лампа освещает полки «с кирпичами» книг… Книги, и книги, и книги в комнате моей: на полках, на столе, на полу… Разные, старые, в тиснёных переплетах – и клеёные, книги с обрезом. Книги, когда-то запрещённые, и «самиздат», и «тамиздат», и «самсебяиздат», и богатые книги-купцы, подлинные названия которых скрыты, захоронены за драпировками суперобложек.
Когда-то, кажется, недавно, год или два назад, а на деле тридцать два года тому, в ту ещё пору, когда читали много, жадно и с аппетитом (и гордились неравнодушием к литературе), я сам капитально «подсел» на классику. Сегодня не то уже время. Сегодня – даже и богато, и дорого изданная книга вовсе не гарантирует, к сожалению, качества. Даже чаще издают заведомо до́рого – чепуху, и тем самым прячут суть и пустоту за внешним лоском. За шиком (а точнее – «пши́ком»).
Читали прежде тайно, и было редким чтением: и М. Булгаков, и Бердяев, и Аксаковы и Шмелёв… Ильина и Данилевского, Шопенгауэра и Ницше – днём с огнём искали. Да что там, и само Евангелие изуча́ли впристаль, если повезло найти. Хоть нигде Писание купить (тогда говорили «достать») невозможно было. За книгой бегали – договаривались, а нередко читали взаимообразно, чаще всего тайно, и едва ли не на одну ночь. Теперь, когда чтиво на любой вкус и иску́с стало любое: «выбирай и владей», – читать, кажется, вовсе перестали.
Известно: голод особенно чувствуешь, когда ничего съестного нет даже на перспективу. При лютом голоде и корка чёрствого хлеба – пирожное. Так же и «духовный» голод, когда – «завались» всего, то ничего и не хочется. (Беда малочтения, правда, не только в изобилии). Книги – кладовые мыслей, опыта, знаний и плод размышлений многих поколений. Но кому, для кого́ они теперь? Теперь читать стало «немодно». Везде и во всём – компьютер, планшет, а там – «Инстаграмм», «Фейсбук», «Одноклассники», «В контакте», «Телеграм», в лучшем случае «аудиокнига», чаще «Тик-ток»… – много всякого. Говорят и пишут теперь всё чаще при экранах компьютеров, на сайтах да – в инет-изданиях, снимают – для «Твиттера» и «Ютуба». Внимание народа поглощено иным, не книгой. Изобретён не так давно в Японии компьютер, который не только сам пишет музыку (даже фуги!), но и – пишет и хоќ ку (японские «задушевные» двустишия), изобретает афоризмы (весьма спорные, впрочем). На основе фуг Баха – компьютер способен компилировать нечто во всех смыслах превосходное и освоил «сам» музыкальное сопровождение весьма, неожиданное. Обрабатывает компьютер даже и симфонии многоуровневые. Накладывает звуковое участие музыкальных инструментов самых разных, не сродных…
Есть компьютер, и с программой «в человеческий голос» работающий, умеющий давать мудрые советы на основе обобщённого опыта из тысяч томов, заложенных в его память, – опыт-вытяжка из всего того, что привнесено в него «мудростью тысячелетий». Программы всяческие – этакий «электронный Сократ». Некий всемирный совет жи́вших и живу́щих на свете мудрецов.
Теперь компьютер на основе программ «Дракон», «Змей Горыныч» – распознаёт и различает письменную и устную речь живую. Речь на многих языках, уверенно и «впопад» отвечает на вопросы, ведёт несложный диалог. И всё же мыслить и создавать образы самостоятельно, ответственно, сознательно, интуитивно – жестяное чудо техники не в состоянии. И путаться, и страдать, и сердце вкладывать в музыку и в литературу – не может жесткий диск компьютера, обременённый оперативной памятью. Такой программы «оживления невещественного» не изобрели покуда, и не изобретут никогда. Живые нейронные связи невозможны в «мозге» электронном. Так и литература не «постмодерновая», не составная-сленговая, а подлинная, на основе пережитого опыта, прочувствованная – возможна только от живого сердца (и то же – и музыка). И программу, которая научит всё тот же компьютер переживать в страданиях, изощрять и утончать то́ сердечное «чувствилище», которое и само в свою очередь напрямую общается с «высшими запредельными сферами», – тоже не изобретут никогда… Программы, которая зрит Бога Самого, нет. И не может заменить тончайшее «сердце человеческое», через которое, по слову Достоевского, воюет с Богом тёмная сила, – некое устройство или о́рган. Не появилось и, конечно, не появится и в будущем даже, и никогда, такой механизм.
Так что же предлагает нам, чем запутать желает нас вновь цифровая система, двоичный код от Готфрида Лейбница, и что подскажет ещё раз через «премудрость премудрых мира сего» да и тот ещё, быть может, кого называют «обезьяной Бога»? Не мо́рок ли эти надмевания и извороты мысли, не мираж ли очередной, не марево ли, кипящее хрусталём, обманное, призванное убаюкать, заманить в ловушку и саму гордость человеческую да потешиться?
…«Я только Божья дудка», – повторял С.А. Есенин. И до сих пор тайна, кто же на деле говорил через сердце поэта с этим миром, со всеми его поклонниками-читателями, через века? Сердце должно быть живым, горячим; процессор, пусть даже и изощрённый, с применением новых нано-технологий из Сколково ли, из Кремниевой ли Долины, из плазмы огненной, из полимеров, из ароматических углеводородов и проч., и проч., – всё-таки блеф, тупик. Ведь даже и фото́на не выделил, не определил андронный коллайдер, нисколько не прояснились и догадки по поводу «чёрной» материи… «Механизм», даже такой сложный, как компьютер, не может быть ни Божьим любимцем, ни Божьим избранником. Через мёртвую материю Бог не участвует в диалоге. (Не потому ли, как замечено было, например, М.П. Лобановым, поистине не найдёшь тайны бытия, «двойного, тройного дна лирической речи» и в таких, расчётливо сделанных, подогнананных «рождественских стихах», как, скажем, у Бродского: «Таков механизм Рождества»). Голой техникой и умением тут не возьмёшь…
…Удивительно – если проследить судьбы великих, судьбы гениев, – и впрямь посещает мысль: как «странно» Создатель обошёлся с ними, едва ли не со всеми. Зачастую они получали укол, удар, переживали невыразимую боль, утраты, потери – и лишь затем – буйное цветение их таланта; пышно, причудливо, невообразимо… А завершающая часть их жизни – пусть и немногих, даже и «Реквием», как бы и вообще была не интересна Творцу, оттого – и трагический их уход. Едва ли не каждого…
…Гроб Эдгара По сопровождали… девять человек. Уильям Сидни Портер (О. Генри) был похоронен сорока семи лет на тюремном кладбище. (Мопассан сошёл с ума, Гоголь уморил себя голодом, Акутагава Рюноске отравился вероналом, тело Чехова было доставлено к похоронам в вагоне из-под устриц…). И все были молоды, им не было и сорока пяти. Ни Моцарт, ни Шопен не дожили и до пятидесяти. Многие таланты – даже и до сорока лет не дотянули. Похороны по третьему разряду за восемь гульденов тридцать шесть крейцеров… И – даже жена не проводила гения Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Теофила Моцарта, австрийского композитора, капельмейстера, скрипача-виртуоза, клавесиниста, органиста и т. д., и т. п. – в последний путь, и похоронен был он в общей могиле.
Могилы многих, даже и Моцарта, так и остались неизвестны. Между тем всё же не они со всей их гениальностью, а одни только молитвенники, праведники – единственные защитники рода человеческого, хоть те и другие – найдут, вероятно, определённое оправдание своему существованию среди целого сонма людей – и живших, и живущих под Небом. И Создателю ценны и те, и другие, и – в призрении, без сомнения, в Божьем окоёме, в виду Бога Самого, в вечности драгоценные души их нашли пристанище.
Небо милует и нас (и всех прочих) за одни только заслуги избранных – через них, и единственно по их трудам. За чудо их молитвенного творчества, за их скорби и жертвы. (Что говорить, даже и Ветхозаветный Содом мог бы выжить единственно заступничеством праведника Авраама. «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то прощу всему месту из-за них». – Бытие 18; 23). Таковы молитвенники-философы: Блез Паскаль и Фома Аквинский, таковы святитель Игнатий Брянчанинов, игумен Никон Воробьёв, писатели С.И. Фудель, В.А. Никифоров-Волгин и врач, св. Лука Войно-Ясенецкий… И эта загадка останется с нами, «доколе жив будет хоть один пиит», точнее – хоть один молитвенник.
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель – это А.К. Толстой. – Вечно носились они над землёю, незримые оку»… Что это? Признание? Открытие века девятнадцатого? Интуитивная находка или просто красивые слова?
…И вот новый рассказ мой закончен. И вновь – сомнения, раздумья, иногда – и тоска. Компьютер забит «информацией» с «ютуба», с аудио- и видеопродукцией – всего в изобилии. И всё так перемешано!.. И только имеющий опыт, вкус, свой интерес сможет выбрать надёжное и душеполезное, выстроить речь и мысль, а как же остальные? Да ведь и тот, который умеет выбрать, с его знаниями, тактом и вкусом – не соблазнится ли и он лёгкостью «бульварного чтива», «жёлтого» мишурного блеска, игрой сусального золота, увлекательной раскадровкой или корыстью-заработком, не продаст ли способности свои – за звонкую монету?.. Не спутает ли он блеск осколков битой бутылки с блеском изумруда? А сколько искушений, и тем больше, чем совершеннее техника: компьютерная и прочая.
«Так что же такое: художество, литература, творчество?» – как не задуматься. Откладываю рукопись и рассматриваю библиотеку. И нужна ли кому-то такая «рефлексия» живого – по живому – и в жизни, и в литературе… Этот долгий и мучительный настрой на некую «Божью волну» – тоже загадка. Противостояние пошлости, неверию, даже и просто неграмотности, наконец.
Пещерный период наскальных рисунков давно, до нашей эры сменился периодом статуй, от язычества, затем – веком русских икон, затем приложены были и книги – «к вере» («люди Книги», так называли издревле христиан). И тогда влияние на душу человека утроилось, удесятерилось. За книгой пришла пора художественных фильмов и радио, которое сменило такое расчётливое теперь и падкое на прибыль от рекламы TV… Но с девяностых годов двадцатого века – всего лишь за десять лет! – все неисчислимые нарабо́тки тысячелетий, «настройки» человеческого духа, души – на волну таинственного и величественного сменились плоской технократией. Духовные поиски Неба подходят к завершению, несомненно. Многое заменил, а частью сменил «симулякр» нашего подлинного бытия – тот же самый компьютер. И вот – теперь едва ли не всё поглощено его оперативной памятью. Друг он или враг?
Сегодня большая часть человечества – ищет развлечения, другая – ищет удовольствий, страха, испуга, адреналина. Третьи – смехачества и сменовеховства… И всё меньше и меньше избранников, этих адептов высокого, этих «адвокатов» перед Богом за людей. Катастрофически мало (по сравнению с прошлыми веками) теперь тех, кто обращён взором – к Небу. Ещё меньше тех, кто ждёт и понимает, и слушает слова молитвенников, – а через них – и музыку самого Неба. Век секуляризма, прогрессизма, индифферентности, релятивизма – век предвзятого отрицания любых традиционных религий. Кто сегодня способен различить: «кто есть кто»́ и «что есть что»́? Катастрофически мало причастных истине, но зато неисчислимое множество умелых технократов.
…Проходят дни, месяцы, годы, в течение которых не покидает порой чувство причастности ко всему живому, чувство какой-то обязанности всем и всему сущему на земле, чувство какого-то недовыполненного долга. И вот теперь уже не стремление к удовольствию, не потребности «насущные»: жгут душу, а именно – чувство долга, того не́что, что не сделано, некоего недоделанного дела. Так, верно, породистый тяжеловоз всей мощью своей безотчётно грустит по тяжёлой повозке, а птица – по встречным ветрам и простору.
Как безупречно мудро говорит строка евангельская: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора», и – повторено даже И.А. Буниным в одноимённом его стихотворении. «Человеку же некуда приклонить голову». Это чувство долга и «неуюта» – не радует и не удивляет, а направляет к письменному столу для того, чтобы переосмыслить увиденное, пережитое. Радует работа за столом над чистым листом бумаги – крайне редко, чаще – мучает невозможностью высказаться точно и до конца, и тем одним – освободиться. Заставляет это чувство работать, писать, набрасывать мысли словесно, зачёркивать строки и строфы, сжигать – и вновь возрождать. И тогда находишь в книгах ответы на свои вопросы, перебираешь мысли древних как бриллианты: перекличку Саади и Эпиктета, мысли их, иногда похожие, но отдельные, независимые, – а с ними и свои приходят чередой, и свои раздумья разнообразят, раскрашивают жизнь мою. Счастлив тот, кто не скучает в одиночестве и рад досугу!
Иногда удаётся что-то уяснить для себя и опубликовать, и тогда – обретаешь знакомое ощущение честно выполненного долга, завершённой работы, и удивляешься тогда «похожести» созвучий. А гении – те ощущали прямо-таки потребность работы – легко ли давался им труд? Едва ли не все они пом́ нили, понимали тончайшую грань между «Божеским и человеческим», грань между бытием и небытием, которая служила им источником и мук, и вдохновения, радости и тоски. И это не утверждение, а вопрос. Ответ ясен: «прежде всего».
Для гениев бытие само – острее бритвы, они стоят «пятками над пропастью», всю жизнь, долгую или короткую, и видят Небо над пропастью. (Чаще всего – жизнь короткую). Об этом у Пушкина, переменчивость: «вошёл – и пробка в потолок», и далее – «…и пусть у гробового входа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных»…
Страх смерти у Амадея Моцарта… И у больного чахоткой, кровью харкающего в дорого́й платок за игрой на рояле задыхающегося, больного лёгкими – Шопена… И всё же думаю: сердца молитвенников, а не актёров, не писателей, не скульпторов – бесценны перед Ликом Божьим. Только их чувствилища обладают качеством не только «подключаться» к Небу, а – и зреть высот́ ы, и жить в Небе, и с Небом. А способности людей искусства, искуса – препровождать к катарсису и будоражить зрителя, и читателя, и слушателя, – очень и очень кратки, порой невер́ ны…
Жертвы молитвенников за Мир Божий – суть жизни не проводников даже, а подвижников, праведников. И когда понимаешь это, какая одолевает радость. Особенно от прочитанной хорошей книги житий, агиографии, песнопений хоров, например, под управлением М. Мор-мыля… Музыка Рахманинова, Свиридова, Чайковского – больше язык чувств. (А светская мирская жизнь петляет как заячий след). Живя, читая классику, забываешь себя. Сохраняя в повседневности память и причастность этому миру, – безотчётно понимаешь, что одно лишь только оправдание писательству, творчеству – бескорыстие. И живёшь всегда надеждой, что пройдёшь все тропы, на роду написанные, до конца и доберёшься до самой вершины, до самой последней холодной высоты своего Памира. А высота эта не в миру́.
…Доруги наши ведут к вершинам сияющим, хоть и разбегаются пути извилисто и врозь, – все на этой земле идут-тянутся (кто волей, а кто неволей) узкими горными каменистыми тропами по-над высокими кручами. И книги святых отцов Православной церкви, книги классиков – как снаряжение альпиниста в подмогу нам, хоть и не всем. Все мы в пути.
Благослови, Отче, каждому одолеть высо́ты и добраться до своего Памира, взять свою абсолютную высоту.
1983, 2022
Конец – делу венец
Если судить о содержании по существу жизни, по множеству препятствий, по скорбям, по боли, по путанице, похожей на сети широко раскинутые, и всяческим перипетиям, которые, собственно, и есть наше существование, – то приходишь к выводу: одна из главнейших целей человеческого бытия – в воспитании стойкости, в тренировке воли. Терпение и смирение – тоже качества, о которых чаще всего упоминает Церковь. Не податливость и не слепая покорность, вовсе нет, и даже совсем напротив. Признак нравственной зрелости, следствие воспитанной, готовой уже воли – выбор направления нравственного движения души, способность к исполнению Божьих повелений (которые необходимо ещё услышать, распознать), сло́вом полнота личности – определяется приятием Промысла, добровольным согласием с ним – то есть способностью к отсечению своей собственной воли.
Готовность и умение терпеливо выносить ежедневные тяготы и скорби – вот величайший героизм, а, быть может, и сама цель нашей жизни. И не только для монаха, а и для мирянина тоже. Не «прыжок веры» некий абсурдный, не минутные восторги скоропреходящие, а именно – и только высота духа, попытки и само стремление удержаться на высоте. И вспоминается в этой связи, то, как желал́ и и даже мечтали «пострадать» старцы, особенно перед уходом в мир иной, говоря и повторяя: «Нет скорбей – значит, Бог забыл» или «Конец – делу венец».
…Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли…) в том, что они полагают меру великой силы воли – в проявлениях своей власти и победах над другими. Главный же показатель созревшей воли христианина – способность побеждать прежде всего себя самого, свои страсти: «Победа из побед – победа над собой».
Но для чего Богу волевой человек? Не значит ли это, что Богу нужен воин? Не генерал, не майор, не управленец чужими душами, а именно солдат, рядовой. В таком случае, каковы же условия существования «там»? Если твёрдость, вовсе не мягкотелость, а именно и только жёсткость по отношению к себе, надёжность и крепкая воля – первейшие качества, необходимые для жизни с Богом в пакибытии, в «иномире»? Не значит ли это, что некое благолепие и беспечность Рая – пустые выдумки, если, как видим и понимаем, в «иномире» Богу необходим только сложившийся, сильный человек. Не расслабленный и благостный «нюня» – но (повторю, чтобы усилить) креме́нь, истый воин, твёрдо доверяющий своему Военачальнику в Духе и полностью отдавшийся на волю Его.
Это обстоятельство хорошо понимали первые христиане, именно отсюда – и тяжкий, и ежедневный их труд, памятование о Боге и бренности жизни, и благодарность их за угнетающие тело болезни, напасти, – ибо только они и воспитывают волю: добровольные вериги. «Гнету гнетущего мя», – и юродство праведников и мучеников тоже отсюда. И стояние с молитвой на камне, на столбе (столпники), и бесконечные бдения и самодвижная молитва Иисусова. Да и смерть сама, наконец – как последний сдаваемый экзамен, самый жёсткий, бесповоротный, единственный, «без права на пересдачу» – особенно.
Если всё так, то тогда становится понятно вполне, почему самоубийство – презираемо в Православии. Этот грех оттого неотмолим и приравнивается к хуле на Духа Святого, что самовольный уход – это несомненный незачёт по экзамену: «жизнь» и сильная «воля». «Неуд», отказ от сражения, бегство с поля боя – не прощается Главнокомандующим. Часовой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпимо морозно или страшно от приближения врага, – такой солдат не годен на следующую ступень. А следующая ступень – бытиё души в иномире. Новый уровень «жизни души» такой «воитель» не может одолеть. Взойдёт на ступень выше только лишь мужественный. И эта жизнь «по ту сторону» несомненна, она только и есть подлинно бытие. Существование здесь – лишь подготовка – к миру иному, «тому́», ради которого человек живёт в теле здесь. Иначе, зачем мытарства, да к тому же те из них особенно, которые здесь уже начинаются. К чему и – тягота от них. Разве не каждый ощущает здесь уже́, на земле, «как опасно ходим» среди искушений.
Все рассуждения о том, что «мир абсурден» будто бы, что мир – «жестяной барабан» по Г. Грассу (по Камю, Шопенгауэру и так далее), «барабан» – вместо «трубы Иерихонской», и ему (вроде бы) нет до нас никакого дела, этому миру стихий и хаоса, – как нет де́ла ветру вешнему до случайной цветочной пыльцы. Так полагать – было бы смешно и наивно. А коли так и впрямь, значит, настоящая борьба – не здесь, а именно «там». Именно там и ждёт каждого жестокий бой, и подлинно сражение. И вовсе не благостное существование. На земле же и сами страдания всего лишь только преддверье. Нужна подготовка, закалка. И намерение, которого не миновать человеку содержательному, не легкодумному (о Боге). Жизнь – тренировка перед настоящим сражением.
…Борьба «там», похоже, – намного сложнее, чем испытания здесь (раз «туда», в сферы Духа, отберут только достойно выдержавших трудности здесь, в этой нашей земной юдоли печали). Отсюда и вывод, что и духи злобы поднебесной – вовсе не выдумка досужих бездельников. И существуют, несомненно. И они тоже готовы к атакам и контратакам. Вредят и мешают всем тем, и особенно тем, кто тренируется к главному сражению. Ведь это сражение – именно с ними.
Не случайно: святые в Православии не только выдерживали бои уже здесь, в реальном мире, но (напомню) даже и усложняли свой подвиг: выносили кованые вериги, кромсающие плоть даже до крови, держали пост, бдение, практиковали исихазм; добивались самодвижной постоянной молитвы (то есть внимали к голосу Главнокомандующего ежесекундно, угадывали и всегда искали Его святой воли).
…«Верный воин Христов» – говорят о молитвенниках, схимниках Православной церкви и о прославленных во святых. Вся наша жизнь, без сомнения, только лишь подготовка к главному экзамену, к венцу.
2001
Зигзаги судьбы
Когда, читая, изучаешь жизнь на чужом опыте, сопереживаешь писателю, – находишь за бегущими строчками нечто особенно важное, новое, порой загадочное, кажется, видишь внутренним зрением некие символы, «знаки», некие приметы, – это «нечто» таинственное, за словом хоть внешне и сокрытое (но тайно определённое). И чем более одарён автор, тем больше тайного, сокровенного содержит и скрывает его судьба. «Бог диктовал, а я писал», – повторял Виктур Гюго.
Пишущие, размышляющие – особенно освоившие литературу как профессию (литераторы) знают: «диктовка» свыше «мечтами-образами», с «перевоплощениями» – тем дороже обходится им, пишущим (в смысле самочувствия, здоровья, а нередко и прямой угрозы судьбе), – чем более они вживаются в характеры своих персонажей, чем глубже исследуют судьбы своих героев. Это «вживание» в образ изнашивает, расходует автора гораздо больше, чем актёра его амплуа. Автор создаёт, актёр примеряет личину и лишь заучивает монологи и диалоги наизусть. К тому же актёр, играя выученную роль, показывает «через себя» одного, двух персонажей, не более. Автор – создаёт сотни характеров, примеряет тысячи черт и всяких сугубых отдельных примет, развивает и носит в себе движение пьес в их развитии, драматургию, сюжеты.
В романе «Война и мир» Л. Толстого 559 героев, из них более двадцати основные, центральные, и за всех необходимо говорить, мыслить, проживать их жизни, осмысливать их трагедии. Автор – если он ответственно работает, просто вынужден «переселяться душой», вживаться во всех сразу и во многих в отдельности. В каждую судьбу созданных им персонажей, втираться в их отношения, обосновывать их дружбу или вражду, мотивировать их конфликты, их любовь и ненависть.
Леонид Андреев после публикации повести или рассказа неделями «не мог выйти из образа». Потому и алкоголь, и неустроенность, и рван́ ый быт. Долгожители: Гёте, Гюго, Тициан – редки.́ «Моцартианский», пушкинский тип холерика-писателя и экспансивного поэта – гораздо более заметен, выразителен и вероятен среди присущих писателям талантов.
Таи́ нство рождения шедевров, «вечных» книг – загадка и для самих даже их создателей, не говоря уж о пояснениях их изысков от литературоведов, от критиков, от читателей, – отсюда мистические домыслы, глубокие омуты сюжетов. Авторы зачастую не безразличны к необъяснимому, тайному, – возможно, они даже излишне пристрастны, как пристрастен художник к своему изделию. Кроме того, ведь и само рождение человека, и жизнь, и смерть – тоже загадка. И, кажется, – человек прежде всего тайна, не только для самого себя, но даже и для самой «мировой воли» (по определению Шопенгауэра, который попытался свести воедино многие знания древних, «Упанишады» и буддизм…).
И всё же волнует не абстрактное понятие: «писатель» или «сочинитель» как создатель художественных произведений, а истинно то́, какой же темперамент, какие житейские условия, какая сила питает его талант (если он есть), потенциал, и то́, как именно и когда он читал «вечные» книги…
В конце концов, даже и Мопассан за свою короткую жизнь, и Дж. Лондон, и немногие (почившие или добровольно ушедшие) иные создали – не написа́ли, а именно со́здали – шедевры. И всё же многое не создано, не напи́сано, а построено из кирпичиков случаев и событий, пережитых автором, собранных «набитой» рукой профессионала. Чьи-то замечательно точные слова – какого-то литера́тора, большого писателя: «В сущности, от всех наших писаний остаётся одна только метафора».
Когда читаешь письма Мопассана (или Флобера, или братьев Гонкур) о литературе, нередко чувствуешь попытки объяснить необъяснимое: суть художественных произведений, тайные эмоции, предощуще́ния (таковы «Орля», «На воде», «Корбарский монастырь». «Дневники» Гонкуров. Или: «Простое сердце» и «Воспитание чувств» Г. Флобера). И часто – всё тонет в неопределённости: всё-то символы, всё-то неосознанная реальность. Всё сводится к объяснению участия или неучастия в нашем бытии сознания и подсознания…
«Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ, и точное выражение реального», – когда-то я набросал в записной книжке эту мысль не по́ходя и задумался. Теперь точно не вспомню, чья это мысль, – так просто, ясно, как вообще всё, что правдиво, – она высказана. Но вот «символ»: общая идея, отношение автора к предмету и – «одна восьмая айсберга» от сказанного (по Хемингуэю) – как эти части соотнести?
…Уильям Сомерсет Моэм называл себя учеником Мопассана и Чехова. Этого английского писателя мало переводили у нас, плохо знают читатели; У.С. – врач по профессии, двадцати трёх лет от роду, практикуя в нищих кварталах Лондона, однажды написал «Лизу из Ламбета» – и, что называется, с места в карьер покорил читателей, и не только в Англии.
Писатель, драматург, эссеист Моэм – личность неординарная, загадочная сама по себе. Он сам – символ, сам – тёмный причудливый знак. Циник, женоненавистник, разведчик – он подозревался во всех мыслимых и немыслимых грехах человеческих. Его интересовали, если можно так выразиться, «острые углы» личности. Люди, которые и жили, и действовали не так, как все прочие, шли «не теми» путями – с не свойственными обывателю ри́сками. Его «Бремя страстей человеческих» – одно из высших достижений западно-европейской прозы. Умение поднять личный опыт до общезна́чимого, до символа и истины – вот что такое Моэм. Его цель – широкий замах.
«Символ» – синоним слова «гений» – Моэм называл это: символ-«демон». Божественная сила. Злая или добрая, но именно она только якобы определяет судьбу человека… Добро и Красота в их единстве – суть гармония жизни. Но красота бывает и демоническая, и ангельская. А ещё есть гармония достоверности. «Если нация, – писал Моэм, – ценит нечто выше свободы, она потеряет свою свободу. А ирония состоит в том, что если это не́что – комфорт или деньги, то она лишается их».
Почти всю долгую жизнь Уильям Сомерсет Моэм прожил во Франции. После Второй мировой войны он вернулся из Америки в свой дом на французской Ривьере, который приобрёл через несколько лет после Первой мировой. Древний мавританский знак, предохраняющий, по его поверью, от невзгод, оказался бессилен против нашествия фашистов. Сам Моэм хранил и почитал знак этот – в виде ломаной линии, как бы двойное «дубль вэ» рядом – помещал на обложках книг. И изобразил, и взлелеял его даже на стене у въезда на виллу…
В 1948 году вышла его книга «Великие писатели и их романы», а в 1954-м она была переиздана в изменённом и дополненном виде как «Десять романов и их создатели». Книга эта – суть попытка разгадки названных тайн – некие в своём роде «мавританские знаки» и его потуги понять тайнопись великих романистов, объединённых единой «путеводной звездой»: Филдинг, Джейн Остин, Стендаль, Бальзак, Диккенс, Эмили Бронте, Мэлвилл, Флобер, Толстой, Достоевский. Смею сказать, врождённый инстинкт этих десятерых и многих иных величайших писателей – был тоже «зна́ком», «символом», «но́рдом», «путеводной звездой»; сам же Моэм придумал себе свой собственный «мавританский знак» – ломаную линию, словно какую-то личную тайну, он тщательно скрывал её неким весьма причудливым зигзагом…
Итак, у Сократа был свой «демон». У Ф. Сологуба – свой, у А. Блока – свой… И если некто, скорее всего, любимый Моэмом Мопассан лишь говорил только, что высшего совершенства художественное произведение достигает тогда, когда оно несёт в себе одновременно «и символ, и точное выражение реального», то и сам Уильям – как бы символ. Сам он едва ли не – знак. И всю жизнь свою нёс он «мавританский знак» – этот иероглиф своей неповторимой личности.
И вот, будто бы и в этой связи, случайно я сам прочитал в июньском номере газеты 1992 г. «Аргументы и факты» заголовок: «Кто вы?». А под заголовком – о́бразно и загадочно изображены шесть фигур, среди которых – квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, зигзаг. В это время я читал всё, что находил о Моэме, и этот «мавританский знак» его особенно заинтересовал меня, ведь что ни говори, – сколько тайн и загадок хранится под знаками и символами, под амулетами и прочей атрибутикой потусторонних сил. Вспомнить только амулеты А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, О. Бальзака, В. Шекспира. Многие мыслители видели в фигурах и амулетах и вовсе некое роковое послание, тайную зашифрованную подсказку, недоступную простому смертному.
Автор статьи «Кто вы?» – некто И. Панарин опубликовал названные выше шесть фигур, определяющих, «кто вы», в зависимости от выбора вами полюбившейся фигуры. Так вот, цитирую. «Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. Комбинирование различных, абсолютно не сходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального – вот что нравится зигзагам. Они никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. Зигзаг – самая восторженная, самая возбудимая из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая интересная мысль, он готов поведать её всему миру. Зигзаги – неутомимые проповедники своих идей и способны увлечь за собой многих».
Не думаю, что к статье «Кто вы?» можно относиться вполне серьёзно или полностью довериться определению характера и судьбы по какой-либо из фигур. Но для творческой личности Моэма фигура «зигзаг» подходит отменно: что ни говори, а книги английского классика живут и «способны увлечь за собой» и сегодня. (А, быть может, сегодня – особенно…)
…Православный человек сторонится всего оккультного, и всё же, как не признать, что много в природе нашей тайного, загадочного, символического… Впрочем, и Платон в аллегории в седьмой книге диалога «Государство» для пояснения своего учения об идеях в «символе пещеры» и «теней» не чурался мыслей о сокровенном и потаённом. И он тоже говорил о символах и о бесконечной ответственности перед «символом» («Государство» 7, 514–515).
1992
Восхождение на Синай
О себе: я самый обездоленный человек в России – у меня ничего нет, и самый богатый – мне ничего не надо. В этой связи: Диоген Синопский, писатель, философ (ок. 412–323 гг. до н. э.) – возможно, лишь легенда, созданная светлыми умами. Разделять ли максимализм Диогена, соглашаться ли с ним?
Выпады Диогена и высказывания его о человеческой сущности и самом существе человеческой натуры – не только удивляют, но и заставляют задумываться, сострадать. Читая о Диогене, взыскуешь справедливости. И тут уместно передать незабвенный диалог великого философа с Александром Македонским.
Однажды Александр подошёл к Диогену и сказал: «Я – великий царь Александр». «А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». Отвечая же на вопрос, за что его зовут собакой, Диоген молвил Александру: «Кличка мне – «Пёс», собака. Кто бросит кусок – тому виляю хвостом, кто не бросит – облаиваю, кто злой человек – кусаю».
Кредо философа-стоика не менялось до конца жизни: по́лное опрощение. Увидев мальчика, пьющего воду из горсти, Диоген выбросил из сумы свою чашку со словами: «Мальчик превзошёл меня в простоте жизни» (превзошёл меня мудростью).
Судьбе Диоген противопоставлял мужество, закону – природу, страстям – разум. Когда он грелся на солнце, Александр, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня чего хочешь». Диоген отвечал: «Не за́сти мне солнце».
В другое время и при других обстоятельствах сам царь Александр будто бы признался: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».
…В мире всё повторяется, но Диоген – неповторимая, легендарная личность. В конце концов, и хиппи, например, и не выдержали испытания временем. Их «философия» столкнулась с миром плотским – и разбилась вдребезги.
Многие философы твердят о том, что человек несёт в себе два «я», две ипостаси, два начала: животное и духовное. И вот вопрос: где, с какого времени, на каком пути нам внушили, что физическая, «плотская» часть – важнее? Где растерялись-разошлись эти два начала, с появления семьи, частной собственности, государства? Второе «я», нравственное, задержалось где-то на пути к Истине, к Богу…
У святых: тело – лишь лошак, который доставляет душу к Богу на Синай. Перекормишь – взбесится и скинет в пропасть, недокормишь, сдохнет по дороге – и не видать тогда сияющих высот духа, Синая…
Опрощаясь, облегчаешь путь душе, а кто легко ступает, тот далеко идёт.
1992
Тайны творчества
Многие тайны так и останутся «тайнами творцов». Непонятен и необъясним двойник у Мопассана, «надиктовывавший» ему, по собственному его, Мопассана, признанию, целые главы, написанные им нббело, без правки: страницы романа «Сильна, как смерть», очерки-записки «На воде»… Таков и таинственный незнакомец – у Моцарта, заказавший ему «Реквием»… Таков «Чёрный человек» Есенина… Таков опыт А. Блока, видевшего Прекрасную Незнакомку; загадочен и «Недотыкомка» – Ф. Сологуба – тоже таинственный, ирреальный, инфернальный даже, не позволявший автору «Мелкого беса» утонуть в бурном море при житейских невзгодах. Примеров множество…
Владимир Солоухин тоже унёс многие тайны, недосказал. Отпевали его в восстановленном при его живом участии кафедральном соборе, храме Христа Спасителя, первым после восстановления.
В.А. пытался всеми силами и способами ускорить возведение храма, торопил, помогал, как только мог, собирал средства, словно ощущал близость своей кончины. Его и впрямь отпели в недостроенном храме, и в этом тоже и тайна, и тоже промысел…
…А.И. Солженицын и нагнетание тьмы беспросветной – в его «Архипелаге…», замыслил эту самую тему он неспроста… Не всё ясно и в его писаниях, и в его биографии. (Теперь утверждают, что черновики его «исторического исследования» имеют весьма приблизительное отношение к правде. Они будто бы изготовлены были по тезисам из ЦРУ). Книга «Двести лет вместе (1795–1995) по исследованиям и архивам новейшей русской истории»… – и её возникновение тоже непонятно. А смысл, идея её… в чём? Попытка примирить большинство с очевидностью, то есть смирить население и убедить всех, кого обобрали (в итоге «приватизаций») до последней нитки, особенно государствообразующий народ, с тем, что так и должно было случиться? Или попытка примирить обнищавшее большинство с обогатившимся «внезапно» меньшинством, которое состоит в основном из людей пришлых?
…Книги Солженицына в «пользу» (мнимую) дореволюционной России, противопоставление исконной России – империи СССР – тоже тёмный секрет. И всё очевидней, заметней перекос от этого «сравнения» и идеализация жизни до 1917 года «в той России», которую мы потеряли. И это очевидно даже и для простого, неискушённого «подтекстами» читателя. Перспектива для России (по А.И.С.) отказаться от законных и исконных территорий в пользу «пара́да» суверенитетов, откинуть «подбрюшье», су́зиться едва ли не до размеров России шестнадцатого века – показалась ему привлекательной вовсе не случайно, и в конечном счёте это и было исполнено через форму его и ему подобных, по их геополитическим представлениям. Кем, какими силами? Останется тайной и до сих пор (как и то, кто именно через нобелевского лауреата проводил ту́ политику, которую озвучивал А. Солженицын).
Литература с давних пор пришита-«пристёбана» к политике. Политическая подкладка заметна и теперь, когда мы вспоминаем и «Не могу молчать» Л. Толстого и поэму «Двенадцать» А. Блока, и «Окаянные дни» И. Бунина…
Тайны многих писаний и судеб писателей никогда не разгадать. Истинные причины написания романа «Мать» Горького (самого влиятельного писателя России за всю советскую историю) – неведомы. И даже история романа «Как закалялась сталь» Н. Островского – и та сокры́та.
Таинственность – покров не только писателей, но вот даже и композитора (и писателя) Георгия Свиридова… А. Панарин, русский философ, не оценен до сих пор в должной мере, и его уход, и само его предвиденье нашего времени, и его предупреждение для нас подготовиться и укрыться от ветро́в и сквозняков «глобализма», пронизывающих шар земной, – тоже удивительны. Как он услышал, понял многое, только ли наитием?
Многое из «случайного», предсказанного М. Лобановым, А. Панариным, – сбылось, и тут тоже тайна, их прозрения – на полвека вперёд, по меньшей мере. Явление тайны. А Благодать, которой был причастен М.П. Лобанов, когда он едва не ушёл совсем молодым, страдая, ослабленный, от послевоенного туберкулёза в Ростове, – тоже тайна из тайн и откровение, которым он благоговейно поделился с нами… (Он рассказал об этом в книге «В сражении и любви»: опыт духовной автобиографии». М.: Ковчег, 2003).
…В жизни и в творчестве самое главное и единственно ценное: духовное и душевное состояние автора. Без этого нет и не может быть подлинной литературы, она сползает тогда до забавы, фиглярства, позёрства, пустого времяпровождения. Как работали крупные авторы? Что вело и влекло мысль их, как именно искали они свои пути общения с Творцом, который через «двойников» или напрямую «надиктовывал» им… Кого-то вела Благодать, кого-то, напротив, гордыня, или волевой напор, как тех же: Р. Киплинга, Д. Лондона, Э. Хемингуэя. Кого-то мучили страсти, страхи…
У Владимира Солоухина читаем о методах работы творцов, вызывавших восторг, вдохновение. Едва ли не простыми пассами и заклятиями некоторые из писателей могли будто бы, умели приручить и оседлать Пегаса. «Кто-то из великих французов, – пишет Солоухин, – заставлял запирать себя в кабинете, кого-то слуга привязывал к креслу верёвками и уходил на полдня. Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой. Бальзак непрерывно поддерживал себя крепким кофе». Добавить сюда слухи о том, что по легенде не́кто из великих драматургов нюхал гнилые яблоки, чтобы ввести себя в состояние экзальтации, близкое к тому, что называют вдохновением, и добивался успеха… А.Н. Толстой во время писания много курил табака – трубки любил, по собственному его признанию, «вкусные», форм самых причудливых. Табаки мешал пополам с сухими антоновскими яблоками. «Лучшие – трубки вишнёвые (из дерева вишни), кривые вкуснее», – признавался автор романа-трилогии «Хождение по мукам»…
Он собрал большую коллекцию курительных трубок, предпочитал крупные, с изогнутым мундштуком, с сортами табака «Золотое Руно» (для запаха) и нарезкой, как уже говорилось, сухих антоновских яблок… Бальзак написал целый трактат о воздействии наркотических веществ на процесс творчества… Вот что говорил Россини:
«Кофе, который пьют простые смертные, оказывает действие на них всего две-три недели. По счастью, этого времени достаточно, чтобы написать оперу»…
А дальше как быть? Не писать? Постепенно повышать дозу, крепость? Бальзак так и делал. Бальзак – о кофе и возбуждающих средствах: «И тогда всё приходит в движение. Мысль начинает перестраиваться, подобно батальонам Великой армии на поле битвы, и битва разгорается. Воспоминания идут походным шагом с развёрнутыми знамёнами, лёгкая кавалерия сравнений мчится стремительным потоком; артиллерия логики спешит с орудийной прислугой и снарядами; остроты наступают цепью, как стрелки́»… Заманчиво, не правда ли? А вот что добавляет, комментируя Бальзака, Андре Моруа: «Сло́вом, бумага покрывается чернилами, подобно тому, как поле битвы окутывается пороховым дымом. Книга входит в строй, сердце писателя выходит из строя» (А. Моруа. «Прометей»).
Последние дни Бальзака горьки.́ Особняк, обставленный для Ганской – последней любви пятидесятилетнего несчастного, парализованного писателя, остался холоден и угрюм. Гюго – о последних часах жизни Бальзака: «Когда дом построен, в него входит смерть…» Кофе сжигает жизнь, как сказочную шагреневую кожу – так же сжигают желания и страсти и самого Бальзака. «Подхлёстывания» (по выражению А.Н. Толстого) самого себя допингом даром не проходят. И в этой связи – философы древности: «Ничего сверх меры» (Хилон).
Великий романист, драматург, эссеист Бальзак, наблюдая человеческие страсти, создал шедевры литературы и тем покорил сердца читателей. Сам автор «Гобсека», «Отца Горио», «Евгении Гранде» носил в своём сердце величайшие противоречивые стремления и был настоящей загадкой для современников (да и для нас, сегодняшних). Как мог он столько создать, опубликовать романов, блистая в свете и лишь по ночам, без сна, работая? Пятьдесят один год жизни, а столько успел…
…Но и само сотворение этого мира остаётся навсегда великой тайной для нас. Самая главная (и важнейшая из загадок) – сотворение мира до сих пор за семью печатями. А если бы знали люди тайну творения и со-творения мира, эту тайну из тайн, то многие наверняка жили бы вовсе не так, как живут, а жили бы по-другому, не так легкомысленно и легкодумно.
Целый сонм живших на земле и ушедших (куда?) – великая тайна творения. Да и само сотворение человека, сопряжённое с творчеством его как мыслителя и художника на земле, – всё это загадки одного порядка, неисповедимые, неотмирные…
1992, 2003
О гермафродитах и Афродите
И.А. Бунин, академик, лауреат Нобелевской премии, записал в своём дневнике 17 марта 1940 года: «Перечитал «Что такое искусство?» Толстого (запись о Л.Н.Т.) – скучно, кроме нескольких страниц – неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привёл сотни определений того, что такое красота и что такое искусство – сколько прочёл, какой труд проделал! – все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного».
А вот сборник рассказов японского классика Акутагавы Рюноске «Паутинка», статья «Толстой», цитата: «Когда прочитаешь «Биографию Толстого» Бирюкова, то ясно, что «Моя исповедь» и «В чём моя вера» – ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказывавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных».
Такие суждения, рассуждения, мнения авторитетов обескураживают, когда изучаешь, что написал Л.Н. Толстой. Об «Анне Карениной» услышал однажды от знакомого литературоведа-преподавателя в Литинституте: «пошленький роман в пасте́льных тонах…» О последних главах «Войны и мира» Гюстав Флобер отзывался неодобрительно…
Очевидно, надо полагаться только на себя, доверять только своему чувству, не обращать внимания на высказывания филологов, пусть и авторитетных. Прав был У.С. Моэм, заявляя: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нём активное отношение к жизни». Если так, то Дж. Лондон – ярчайший тому пример, так будоражит он волевое начало. А ведь он весь вырос из Шопенгауэра, из его «упадочной философии», «философии пессимизма», и весь он образец протестанта, пропитанного духом и смыслом наживы и верности немецкому целеполаганию.
…Немец, философ Артур Шопенгауэр – тёмен, как обратная сторона Луны. Перекроил на свой лад, «перевари́л» по-своему древнеиндийскую философию брахманизма, буддизма, «переосмыслил» Канта… – а чуди́л, порой вовсе не как мудрец. Да так, что сам уверовал в истинность своих причуд. (Рассуждал весьма спорно и пространно, подгоняя смысл жизни и замысел о мире только лишь под свои собственные интересы и биографию, – а, забывшись, самими деяниями, делами же – противоречил своим умозаключениям).
Образ мировой воли видел как парение душ во вселенной (метафора радуги над водопадом), не предполагая Того, Кто мог быть создателем и наблюдателем этого водопада и радуги. Говорил и писал о «горестях и ничтожестве жизни», а сам отчаянно бегал то́ от оспы, то́ от холеры, сберегая своё «ничтожное» существо. Да так, что останавливался на постоялых дворах категорически только на нижних этажах, опасаясь паники и давки толпы в случае возможного пожара. Рассуждал о бессмертии, в то же время отвергал существование Бога. (Даже кичился безбожием). И так, в быту, едва ли не во всём. Уверял, например, что богатство не в пример здоровью, ничего не стоит и не имеет никакого смысла, а сам при том при всём спал с двумя пистолетами под подушкой, охраняя добро, дабы предупредить возможное нападение и грабёж. (Был готов в любую минуту к попытке отразить покушение, которого так ни разу и не случилось во всю его жизнь, и в то же время зорко следил за отданным в рост капиталом, доставшимся от отца). Несчастливый в любви и неприметный для женщин, он сделал заключение о том, что только идиот, «только отуманенный похотью мужской рассудок может называть низкорослый и узкоплечий и широкобёдрый пол прекрасным»… Перечитывал то и дело множество книг, и «Упанишады», и «Веданты», и Канта, прекрасно знал немецкий романтизм и многое иное ещё (особенно из древнеиндийского эпоса), а сам, имея огромную библиотеку, – не рекомендовал читать вовсе никаких книг, ибо они мешают мыслить самостоятельно, независимо.
…Подобно гермафродиту, он в нравственном отношении – и рождал, и рождает до сих пор своими писаниями некие тени, флюиды и порхающие, самых причудливых форм некие фантомы, подобные тем, которые изображены на офортах Гойи. От усилий его мысли и с его подачи – и многое у пасынков его: это и Вл. Соловьёв, и Ф. Ницше, и всё тот же Дж. Лондон, и даже Адольф Гитлер… Всех и не перечесть. Не просто бывшие и ушедшие, а некие идеи, непонятные и до сих пор.
В противоположность мнению завзятого «волюнтариста и пессимиста» – для философов элейской школы – именно красота мира и бессмертна, и непостижима. Например, Афродита – само воплощение красоты, она же запечатлена в статуе «Венера стыдливая». И даже один только поворот плеч её – сам по себе тайна из тайн, загадка («как идея» по-Платоновски, сокровенный покров женского очарования). И тут они срастаются с той красотой, о которой Ф.М. Достоевский говорил, как о единственно возможной «совестливой» красоте, способной остановить мир даже на краю пропасти.
В собрании стихотворений Н.А. Заболоцкого есть превосходное стихотворение «Некрасивая девочка» о «дурнушке»-подростке. Стихотворение такое обыденное, на первый взгляд, – «расшифровывает» великую догадку Ф.М. Достоевского о красоте, той именно, которая одна только и способна «спасти мир». И – это красота от Бога, Божья. А вовсе не холодная гармония, состоящая из пропорций, подчинённая «золотому сечению» или «числу пи». И гармония сама – ничто́ в сравнении с нравственной красотой Истины (продолжая мысль Ф.М.Д.).
«Мир красотой спасётся…» – писал Фёдор Михайлович во время работы над романом «Идиот» поэту и цензору Аполлону Майкову. Уверен, что он имел в виду красоту ту́ только, – которая вполне бескорыстна. Она не внешняя, а «предметная» (говоря словами М.П. Лобанова), и прежде всего – внутренняя, красота сердечного наполнения. Та, которая (по Н. Заболоцкому) – «огонь, мерцающий в сосуде».
Нравственная, «стыдливая» красота непостижима «рацио», но разве не достижима, не видима ли она сердцу? Чарующая красота – само творчество – тайна. И стремление к такой красоте – вожделенно. Это «загадка сфинкса».
Понимание такой красоты необходимо выстрадать. И всё же только ею одной, «невидимой», стыдливой красотой Афродиты и спасётся мир. И только она одна и способна сохранить, и удержать человечество даже на самом краю. (Спасёт такая тайна, даже и стремление к такой красоте).
Здесь даже и не столько сфинксова загадка, а здесь, быть может, и разгадка самой тайны Творения.
1993
Ностальгия
- Дорога чёрная без цели, без конца.
- Толчки глухие, вздох и выдох,
- И жалоба колёс, как повесть беглеца
- О прежних тюрьмах и обидах…
- –– —
- А на столе увядшие цветы,
- Их спас поэт от ранней смерти.
- Этюдники, дырявые холсты,
- И чья-то шляпа на мольберте.
- –– —
- Никогда я не был русофобом,
- И завистливым я не был никогда,
- У поэта есть судьба за гробом,
- Милосердье Божьего Суда…
Первые четыре строки я прочитал и выписал у В. Набокова из стихотворения «В поезде». Вторая строфа – из автобиографических повестей «Трава забвения», «Святой колодец» В. Катаева. И вот в этой «траве» молодого Катаева поразил эксперимент Ивана Алексеевича Бунина, а именно та лёгкость, с которой он, Бунин, написал стихотворение (по воспоминаниям Катаева). Случилось это на даче художника Фёдорова: сел и написал экспромтом в назидание молодому Катаеву Валентину Петровичу – краткие и точные строфы. Художника и поэта Фёдорова они не дождались (Бунин и Катаев), тот так и не пришёл. Стихи родились на удивление яркие, запомнившиеся и в пример «творческого метода» молодому тогда литератору (Катаеву), и тот привёл сей случай в автобиографических повестях.
…А последние четыре строки написал ваш покорный слуга, за одну минуту, – так «зацепили» и Набоков, и Бунин – русским чувством, любовью к Родине. Вовсе не хочу сравнивать себя ни с Набоковым, ни, тем более, с Буниным: они, что называется, аристократы дворянского русского духа – в той редкой его чистоте, которая идёт от традиций.
…Сегодня вновь перечитал стихотворение Набокова «В поезде», и такая радость, и грусть, такое сложное чувство охватило! И вспомнилось то состояние душевного и духовного непокоя, то отчаяние, которое измучило до предела меня самого, когда волей-неволей пришлось жить в Германии, тосковать о родине. И перечитывал снова и снова:
- Я выехал давно, и вечер неродной
- Рдел над равниною нерусской,
- И стихословили колёса подо мной,
- И я уснул на лавке узкой.
- Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
- и, окружённый тряской бездной,
- очнулся я, привстал, и ночь была душна,
- и замедлялся ямб железный.
- По занавескам свет, как призрак, проходил.
- Внимая трепету и тренью
- смолкающих колёс, я раму опустил:
- пахнуло сыростью, сиренью.
- Была передо мной вся молодость моя:
- плетень, рябина подле клёна,
- чернеющий навес, и мокрая скамья,
- и станционная икона.
- И это длилось миг… Блестя, поплыли прочь
- скамья, кусты, фонарь смиренный…
- Вот хлынула опять чудовищная ночь,
- и мчусь я, крошечный и пленный…
Вновь и вновь вставали в памяти моей русские вечера, равнина наша русская, и так вдруг прочувствовался этот экспромт и «состояние момента», «попадание в самый нерв»: нерусские картины, разворачивающиеся за окном, нерусский поезд, узкая лавка, а чувство – русское. Уверен, что такие стихи не вытаскиваются, не высиживаются за столом, льются сами. Это – то, что не может не родиться в душе настоящего, а не «записно́го» и именно и только русского в связи с обстоятельствами, переживанием. Это русское бесценное чувство так понятно теперь мне самому, после странствий по Германии. Набоков пронесёт это чувство сиро́тства на чужбине через всю жизнь: «плетень, рябина подле клёна, чернеющий навес, и мокрая скамья, и станционная икона».
Пожалуй, не найти писателей и поэтов XIX века, так органично перетекающих, «перелетающих», перешагивающих из прозы в поэзию и обратно, как Бунин и Набоков. Оба они – поэты в прозе и прозаики в поэзии. Эти скитальцы, странники от дворянства увезли с собой в Европу русский дух: дух черёмух в запущенных оврагах, полевые пожары зорь, увезли и об́ разы, просторы и дороги, проросшие травами, запущенные – сплошь в васильках и повилике. Зреющие хлеба, ранние печальные звёзды ввечеру и чадящая долго-долго от ветра дорога – пылью… Средин́ ная Россия.
Так и не стали европейцами они, эти дворяне, и умира́ли не в своих углах: Набоков – в Швейцарии в «Палас-отеле», Бунин – в наёмной квартире на улице Оффенбаха во Франции. Что может быть мрачнее, трагичнее, загадочнее смерти в чужом углу – не в своём доме, не на Родине. Умереть на рваных простынях отеля или в маленькой комнатушке в Ницце на жалкой кровати, похожей на старую утлую лодку, унесённую в открытое море… Так и окончил свои дни Нобелевский лауреат И.А. Бунин, часто повторявший в эмиграции: «Моя бы воля – по шпалам ушёл бы в Россию»…
- И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
- И лазурь, и полуденный зной…
- Срок настанет —
- Господь сына блудного спросит:
- «Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И верно, так и хочется спросить: счастлив ли был Иван Алексеевич Бунин? С юных лет – мотался неприкаянно по югу России, затем – Иудея, Яффа… Малайзия, Турция, Греция… Был в Египте, Швейцарии, Германии, Франции. Чемодан с наклейками, элегантный костюм, «несокрушимые» ботинки – вот и всё имущество. И умер, если верить печатному слову, свидетельствам сопровождавших его до конца, – в запущенной квартире небогатого француза именно «на рваных простынях», как вспоминал впоследствии писатель Борис Зайцев.
Счастье, счастье… Что это такое – счастье? Юродивые, странники, страннические души, дух… Нет, это не путешественники, а именно странники – русская болезнь, ну как её спутать с какой-то другой. Что же было дорого и мило Бунину, поэту и страннику?
«У себя дома», в России, он с отвращением смотрел на «российские грязи». От грязных нищих углов, угарных изб только одной повести «Деревня» – зальёшься горючими слезами. Эта поразительная его память на запахи, ощущения, на лица, жесты, акценты речи и – на неожиданные диалоги. «Деревня», повесть… – жёлтое озеро, грязно-пенное, и – мужик выводит лошадь, по самые колени ступая в воде. «Какая мутная вода, ужели пьёте?..» – «Пьём, барин, за милую душу!»… А «Косцы» – едят мухоморы: «Они ску́сные, чистая курятина»…
Россия, за что любить такую, а сердце присохло к ней даже и у «барина», «барчука» (любимое словцо И.А. Бунина), и у пьяного крестьянина из коротких рассказов И.А. Б., зарыдавшего и упавшего на землю, с пьяными слезами кричавшего по осени дворянину, проезжавшему мимо в пролётке: «Эх, улетели журавли, барин! Улетели!». Словно бинты с кровавой раны своей снимает он, описывая Родину, и едва ли не везде в эмиграции – её и только её – весь остатний срок жизни. Не о Париже – о России тоскует: «По шпалам бы в Россию пошёл…»
- Они глумятся над тобою,
- Они, о родина, корят
- Тебя твоею простотою,
- Убогим видом чёрных хат…
- Так сын, спокойный и нахальный,
- Стыдится матери своей —
- Усталой, робкой и печальной
- Средь городских его друзей,
- Глядит с улыбкой состраданья
- На ту, кто сотни вёрст брела
- И для него ко дню свиданья
- Последний грошик берегла.
Не к либералам ли это обращение И.А. Бунина, не к тем ли «аристократам», которые возомнили, что им «всё возможно, всё позволено» и всё полезно? Не к тем ли, кто Самого Бога забыл и привёл великую Россию к падению в семнадцатый (а – и в девяносто первый-девяносто третий – впоследствии)? Не безродным ли космополитам адресовано стихотворение – «Родина». И как же пророчески горько сказано! Многие и впрямь «стыдятся матери своей» – и не от того ли нестроения наши и до сих пор. Итак, 1891 год, грядёт декаданс, разброд и шатания. Одна за другой – четыре «Думы» четырёх созывов. Масонский переворот февраля-марта 1917-го… Но ведь это, повторяю, – 1891 год. Бунину только двадцать годочков. Впереди – вся жизнь и слава. Впереди – Иудея, Париж, Ницца и… страшные «Окаянные дни» (а лучше бы переназвать: запоздалые «покаянные дни» едва ли не всей интеллигенции). Не сберегли (И.А. Б.): «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый Богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы»… А писатель В.В. Набоков подписался бы под этими словами? Несомненно, подписался бы. Как трогает искренностью, сердечностью бунинский «Бернар» – последний его рассказ – исповедь всей жизни… «Дней моих на земле осталось уже мало. И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами». «Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в моё окно»… – Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года. – «Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи»… – Это последнее, что от И.А. Бунина завещано нам, грешным. «Бернар» оканчивается так: «В море всё заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идёт бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе… Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части…
Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал её. Зачем, почему?
Но ведь сам Бог любит, чтобы всё было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».
Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе в свои последние дни нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар»…
…1952 год. И вот – «настал срок», плавание завершилось, пора сходить с корабля – таков звук последнего его рассказа «Бернар». А счастье? Счастье…
И трогательный самолюбивый В.В. Набоков – и он тоже эмигрант поневоле. Не оттого ли он так любил бабочек, что они – символы мгновенного и скоропреходящего, неповторимого настоящего, секунды бесценной в своей неожиданности и – неуловимого, как пыльца на крыле бабочки – такого простого и прелестного счастья?.. Счастья, недостижимого вне Родины. Жизнь, талант, самая смерть – лишь касание невесомых крыльев Счастья и Несчастья…
Как они похожи судьбами (по судьбе – по «Суду Божьему) – и Набоков, и Бунин, при всём видимом противоречии их и даже ненависти впоследствии (озлобление друг против друга – пришло вослед милой их, трогательной дружбе): похожи они и творчеством, и судьбами, и – пониманием ценности мимолётной жизни, дарованной Богом. Призрачности, лёгкости, эфемерности этой – «пыльцы» – «чешуек на крыле бабочки» – их пергаментной хрупкости… вне Родины… Родиться, жить и умереть в родном отчем доме – вот о чём мечтает русская душа. И крестьянина, и дворянина.
- О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
- А счастье рядом. Может быть, оно
- Вот этот сад осенний за сараем
- И чистый воздух, льющийся в окно.
- В бездонном небе лёгким белым краем
- Встаёт – сияет облако. Давно
- Слежу за ним… Мы мало видим, мало знаем,
- А счастье – только знающим дано.
- Окно открыто. Пискнула и села
- На подоконник птичка. И от книг
- Усталый взгляд я отвожу на миг
- День вечереет, небо опустело.
- Гул молотилки слышен на гумне,
- Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне…
А это – уже 1909 год. Написаны уже и «Красный смех» Л. Андреева, и «Фома Гордеев» Горького-Пешкова. О чём это он, Бунин? Да всё об одном, всё о том же: о счастье простом человеческом, на которое (так кажется нам) каждый имеет право!
А вот другое, иной год… Бог мой, да не 1918-й ли уж это, кровавый и нищий, страшный год междоусобиц?! А – какие стихи… Какие!
- И забуду я всё,
- Вспомню только вот эти
- Полевые пути меж колосьев и трав,
- И от сладостных слёз
- Не успею ответить,
- К милосердным Коленам припав.
Набоков, Бунин. Эмигранты. Пути и имена их – легендарны. Экзотика богоизбранной Иудеи с её дивными реликвиями раннего христианства – не очаровала романтика-Бунина, ни Азия, ни Турция и ни Греция с её древней культурой – не соблазнили «осесть» в дальних краях. Не заменили им чужие пороги и чужие дороги, и неблагоприятные палестины – родных пенатов.
- У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
- Как горько было сердцу молодому,
- Когда я уходил с отцовского двора,
- Сказать прости родному дому!
- У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
- Как бьётся сердце горестно и громко,
- Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом
- С своей уж ветхою котомкой!
Тут необходимо добавить, что первая строка стихотворения – до буквы – цитата из Евангелия. Они перечитывали Евангелие постоянно, оба, и Бунин, и Набоков. Известно: странники, моряки да раненые на поле боя – прочно и навсегда запоминают, на всю жизнь бесценные слова из Евангелия. «К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники», – записано у В.В. Набокова. А для Ивана Бунина – верны ли эти слова? Без всякого сомнения – верны…
А вот эти «полевые пути меж колосьев и трав» – вот что единственно дорого вдали от дома русской беспокойной душе. Яркое солнце над простором хлебов, полевая дорога с разъезженными колеями, жидкая и жухлая осока между ними. Колосья спеют, к полудню – зной, в лазурном небе яркое солнце, и хочется к роднику, по-звериному облокотиться, припасть на ладони, на руки-на ноги – и напиться «припадком»… Вот оно, настоящее. Смысл такого счастья – так и не разгадан.
Счастлив ещё и тем Иван Бунин, что – ошибся он: думал «в жизни земной», что книги его «будут сохнуть на полках». А мы, кажется, только-только начинаем его читать, понимать, и лет (быть может) через пятьдесят поймут и оценят его по-настоящему. И виноваты в этом не только составители школьных программ, идеологи-«соцреалисты» или какие-нибудь новоявленные «просветители» «поп-артовцы», виноваты – и в этом тоже – мы сами. Не министры-капиталисты, которым – что родной Тамбов, что Ницца, что Лозанна, их родина – деньги… А – мы, русские. Здесь не о других, о нас, здесь, в этом очерке – о простых людях.
Сколько раз в разные времена нашей истории примеривали мы «аглицкие» костюмы, «к чёрту снимали их», потом мерили американские «джинсы», бейсболки… Прыгаем на сценах, как янки. И это постыдное обезьянничество – в политике, в экономике. Но вот были люди – и Бунин, и Набоков в их числе, которым и хлеб чужбины – чужестранный, трижды хвалёный хлеб – казался совсем не таким вожделенным, как в России. Как случилось, что нам всё родное – стало «не в коня корм». Не по костям нам и Европа, плевали мы на Европу. В конце концов, от фашистов она нас не освобождала. И их портки хвалёные, крепкие, как пожарные рукава, лопаются у нас на причинных местах, и когда лопаются – становится стыдно. У нас даже матерщина своя, оригинальная, пришедшая из тьмы времён – то ли от татар, то ли от «европействующих» дворян, первых носителей «духа неповиновения», от этой беспочвенности, отрыва от глубоких народных корней части «образованного» слоя, дерзкого противления самому замыслу Божьему, то ли по причине свойственной нам, бывало, анархии – от бешеного темперамента монголов, от кровно слившейся с нами Золотой Орды… Но ведь и от тех же монголов Европу укрыла Россия. И сколько раз ещё укрывала Россия Европу с тех пор…
Две крайности: от полной покорности – до умения так ошеломить непредсказуемой храбростью своей, самым отчаянным подвигом, так «намутить воду», чтоб и чертям на том свете тошно стало, и снова вдруг – до полного смирения и – толстовского непротивления. Достоевский их видел, эти наши метания, написал о них. Именно: намутить – да так, чтоб все ахнули. «В бой, скорее в бой, – а там посмотрим…» – Суворов…
- «Эй, распро… твою, три крестиночки,
- В чёрта душу мать, возница!» —
- Крикнул Пров, и колесница,
- Застучав по мостовой,
- Понесла его стрелой.
Стихия татарская, осетинская – во многом. Кровь. Кочубеи, Чингизиды, Юсуповы, Мещерские… Не о них речь, но и мимо не пройдёшь. Ну, где ещё такой анархический дух в Европе? У нас всё своё, и славянофильское, и славяно-монголо-анархическое – а получилось: «русская кобылка» необъезженная, не подчинённая никому, сама по себе в галоп несущаяся. И так понесла эта кобылка Россию по ухабам, через стремнины – всё разбила, раскрошила, свалила под откос с 17-го года и до наших ещё дней тащит перевернутую телегу… И дух этот не от плебеев, не от холопов. Холопы ещё не научились жить «по-господски». Нет? Ну, где ещё в Европе пьют неразбавленный спирт «Рояль» для розжига каминов (обильно поставляемый нам всё из той же «культурной Европы» в мрачные 90-е) – травятся, блюют, пьют и чеченскую «водку», а протрезвев – как бывало, опять пьют. Потом становятся на колени и молятся, молятся, прощения просят у Господа Бога, у своего, русского Бога. И первыми, как предки их, летят в Космос!.. (Бога всегда мы просим, даже когда на кражу идём. Даже в Акафисте иконе «Нечаянная радость» о том сказано). И вместе с тем – услужливо навязываемое чужеродными мудрецами презрение к русскому «вяканию»: вместо русского языка – суржик, плохой «аглицкий» – чужое будто бы слаще, как яблоки в деревне слаще именно и только из чужого сада. «Плохо» – «негативно», повышение цен – «либерализация», «деноминация» и ещё неведомо что, – всё это от недооценки себя, от недоверия к русской сути своей, от незнания назначения своего на земле (о чём так много размышлял Ф.М. Достоевский). От самоуничижения тоже, самоунижения, того самоукорения, самоедства, которое «паче гордости». А ведь – и век едва прошёл с тех пор, когда вместо «расстрелять» говорили: «шлёпнуть», «в расход». И вот, в связи с непредсказуемой русскостью, с русским непредсказуемым духом – особенно яркие, тонкие личности – и В. Набоков среди них едва ли не в числе первых… «Любимец» – при первом знакомстве – Ивана Алексеевича, самого Бунина (по собственному признанию мэтра, автора «Митиной любви»), его «сразивший, как из двух пистолетов» романом «Защита Лужина». А затем – ставший не́другом, даже «чудовищем» (по его же, Ивана Бунина, воспоминаниям)…
…В семье Набокова всё было на английский манер, словом, – англоманы. И род его, как утверждал сам В. Набоков, – от мурзы. В их семье, сдаётся, только блины были русские да тюбетейки татарские. «Защита Лу́жина», «Приглашение на казнь» – для элиты, а, точнее, – для литературной богемы. «Дар» – роман таинственный… Но что, кроме наслаждения словом – «прекрасным штилем» – и памятью о родине, о семье – что вынесешь из этой книги? В дорогу жизни нечего взять… Стиль… Но ведь – и только. Какую игру новых смыслов и намёков вложил он в сей «дар» (бесценный и случайный), какую цель преследовал В.В. этим «родовым» романом «Дар» – непонятно. Та же, всё та же ностальгия вела его, влекла, волокла, тащила; та же русская кобылка, только память иная, в прошлое. Именно и только тоска по юности и по родине и сквозит – и в этом романе, или – не так? Это как: есть верх – настоящий, дерюжный, спасение от дождей и холодов, а слово прекраснодушное – розовая подкладка, муар, золотая сторона медали. Но и эта подкладка – вся в слезах: настоящей выстраданной поэзией нельзя солгать. Она исто́ком искренна. Ложь тотчас распознаётся даже и в стихотворном размере, даже и через набоковскую красивость, выспренность, вылощенность – пробивается настоящее, чувственное, кровное… Хорошие стихи искренни, как детский смех.
И от этой искренности порой хочется сжимать кулаки:
- Бывают ночи: только лягу,
- В Россию поплывёт кровать,
- И вот ведут меня к оврагу,
- Ведут к оврагу убивать.
- Но, сердце, как бы ты хотело,
- Чтоб это вправду было так:
- Россия, звёзды, ночь расстрела,
- И весь в черёмухе овраг.
- («Расстрел», 1927 г.)
Итак, сердце согласно на что угодно, даже на расстрел, лишь бы увидеть хоть разок, самый ещё последний разочек – этот русский «весь в черёмухе овраг». Зачем? Что в нём, в этом овраге? Никто не ответит.
И Бунин, и Набоков – два классика – понимали, что Россию невозможно покинуть безвозвратно и не мучиться от этого; Россию невозможно увезти с собою на Запад. Всю жизнь скитался по отелям Набоков, а когда ему напоминали, что он достаточно богат для того, чтобы купить жильё и не мотаться с места на место, он отвечал коротко и односложно: «Мой дом в России». Пользуясь славой Набокова, хозяин отеля для того, чтобы привлечь постояльцев, сдавал ему лучший номер в разы дешевле, чем другим, В.В. – в зрелом возрасте в эмиграции не бедствовал – не то, что в молодости. И всё же пишет он уже в 1939 году такие строки:
- Отвяжись, я тебя умоляю!
- Вечер страшен, гул жизни затих.
- Я беспомощен. Я умираю
- от слепых наплываний твоих
- Тот, кто вольно отчизну покинул,
- волен выть на вершинах о ней,
- но теперь я спустился в долину,
- и теперь приближаться не смей.
- Навсегда я готов затаиться
- и без имени жить. Я готов,
- чтоб с тобой и во снах не сходиться,
- отказаться от всяческих снов;
- обескровить себя, искалечить,
- Не касаться любимейших книг,
- променять на любое наречье
- всё, что есть у меня, – мой язык.
- Но зато, о Россия, сквозь слёзы,
- сквозь траву двух несмежных могил,
- сквозь дрожащие пятна берёзы,
- сквозь всё то, чем я смолоду жил,
- дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей!
- Ибо годы прошли и столетья,
- и за горе, за муку, за стыд, —
- поздно, поздно! – никто не ответит,
- и душа никому не простит.
1939 г.
Как метко сказал вернувшийся на Родину А.И. Куприн: «Там, на Западе, и розы пахнут керосином». Даже розы…
1992, 2021, 21.10.2023
Юмор французов
Коньяк «Наполеон», леденцы «Монпансье», штаны «Галифе» (военные портки, по Гастону Галифе), «сэндвич», «кардиган», «макинтош» и многие другое ещё, весьма забавные эпонимы… А мыслим ли, возможен ли этакий юмор у нас, у русских, скажем: пиво «Владимир Ильич» (по привязанности его к пенному), или презерватив «Набоков» (в связи со скабрезной «Лолитой»), или грузинское вино «Берия» и т. д. Нет, как помнится, кроме фуражки-«сталинки» да «толстовки» – не сподобились придумать. Да и вообще, возможно ли представить себе – чтобы ожило подобие в предмете этакой насмешкой, этаким кощунством по отношению к прошлому, к истории, а уж тем более непонятен смех сардонический, ирония «на костях», на крови (подобно «гильотине» от Гильотена) – на судьбах?
Юмор такого «пошиба» выглядел бы у нас не то что нелепым, а даже циничным. Там же, во Франции или Англии – консерватизм: и флаги всё те же, не сменили колер от времён Директории. Страшно вымолвить: «Марсельеза» – до сих пор их национальный гимн. И это после всего того, что мы знаем о Бастилии и о Французской революции, о расстрелах Наполеоном-корсиканцем французов, беспощадно, картечью, да и сотнями, в один приём!..
Поистине, и: «…на развалинах пылающей Москвы // Мы не признали наглой воли // Того, под кем дрожали вы…» (А.С. Пушкин). Сии «европейцы» нам мало понятны прежде всего самой сущностью своей, способностью иронизировать даже над самым драматическим. Они, кажется, иные по самому составу крови, чем мы, эти «европейцы». Даже в пословицах и поговорках отражено это коренное отличие наше, и примеров множество. «Большому кораблю – большое плавание» – говорят в России. «Большому коту – большую крысу» – изрекают во Франции.
Примитивен порой даже и не юмор их, а сам образ мыслей европейцев, сама их сущность, существо… Или, как пример, в наши дни уже, анекдот-загадка, вот такая, например (от немцев): «В полицейской машине сидят поляк, вьетнамец и турок. Вопрос: кто за рулём?..» Слышал я эту головоломку в Гёте-центре, в Берлине. Собравшиеся немцы молчат, гадают. Ответ, оказывается, прост, и он такой: «…немец за рулём, потому что он полицейский». И тут же хохот неудержимый аудитории, одобрение.
И вот тут-то и я тотчас понимаю, о чём речь. И понимаю так подтекст загадки, намёк прост: избранная нация, немецкая, везёт нацменов, мигрантов… куда? Да в кутузку, конечно, всю эту шваль человеческую, всех этих «Schweine» надоевших, – то есть людей «второго ряда», «unterm Strich». Ненавистных им, немцам, по-прежнему наследникам Третьего Рейха, «сверхлюдям». Всех штрейкбрехеров собрал полицейский.
…Россия никогда не была бы Россией в тех масштабах, в которых она раскинулась со времён Ивана Грозного, если бы у нас так «шутили». Если бы и у нас так же относились к нациям и национальностям, населяющим страну. И тут уже и не догадка даже, а явный диагноз.
1993
О труде писателя
…Меня всегда поражало наше неуважение, а можно сказать, и пренебрежение к чужому труду. Всегда виделось так, что тот, кто портит вещи, – тратит чужие жизни. Ведь кто-то вкладывал свой труд, «человеко-часы» в любое изделие. И вот на каждом шагу: изрезанные сиденья в электричках, перевернутые телефонные будки с вырванными из них с корнем аппаратами и таксофонами, мусор, хлам, битые стекла… В простонародье постоянно наблюдаешь нечто подобное, но, что самое удивительное, – и среди интеллигенции, даже писателей эта «черта» тоже развилась особенно, махровым веником.
Не ценить труд, даже труд уборщицы, смею утверждать, – это хамство. Но ещё горше, от того, что это пренебрежение не от недостатка воспитания или образования, не только смещённая активность, а выливается в некую форму протеста, самоутверждения, даже и отмщения. Как-то раз наблюдал такой случай: уборщица-старушка мыла пол и стены, дотирала ветошкой у входа в интернациональный цех. Цеховое оборудование испытывали немцы из ФРГ. Вдруг настойчиво и как-то озлобленно-адски мрачно заныла сирена, как на каком-нибудь военном корабле. Все кинулись, чуть ли не наступая на руки уборщицы, к выходу, хотя можно было подождать минут пять, не больше. Немецкие рабочие и инженеры переглядывались, о чем-то говорили, и мне даже почудилось знакомое «швайн»… «Швайн» – то есть свинья, свинство – пришло к нам из тьмы времен, но особенно прилипло после Октябрьского переворота. Писатели даже большой величины нередко говорили, и главное (и это поражает и раздражает) – писали о своем неуважении к писательскому труду (применительно, конечно, к другим). Сплошь и рядом принижают труд коллег по поводу и без повода.
Известно отношение Льва. Толстого к Шекспиру; Гоголю он ставил – «3», а то и «1». Чехову: «Я не люблю Шекспира, но ты пишешь еще хуже…». И вот это «не люблю» – не носится при себе, а множится миллионными тиражами. Вот и В. В. Розанов в «Опавших листьях» пишет: «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души». Тут так и хочется вместо «не люблю» поставить «не понимаю». А если не понимаю – не пишу. А мы все пишем. И читатели читают. И такое отношение к труду писательскому, тяжёлому, мужскому – иначе как «швайн», а по-русски – свинством не назовёшь.
Сравнимы с писателями и философы: Лев Толстой, Вл. Соловьев, Рачинский – тем и велики, что до сих пор не поняты. Во многом непонятен и сам В. В. Розанов. Есть фразы в «Опавших листьях», которые никогда никто не поймет: «После книгопечатания любовь стала невозможной». (Почему? Все сразу уткнулись в книги, что ли? – В.К.).
После сноски – он о том же: «Какая же любовь с книгою?» И зачем-то пишет: «(Собирался на именины)», – как будто мысли о любви приходят именно тогда, когда идёшь на именины, а не на похороны. И так, читая его строки, никак не поймешь, где же он, подлинный Розанов В. В.? И – раз так-то напишет, и другой – разэтак. То он русофил, то вдруг русофоб. Его попытка описывать жизнь и события, так сказать, «с четырёх сторон» – наивна прямо-таки по-детски. Неужели не понятно, что приступать к писательству можно только и лишь тогда (и только тогда), когда вполне составился луч внутреннего внимания на мир и жизнь. Невозможно рассуждать «голографическим способом», многомерно об одном и том же, потусторонне или многосторонне, – ведь будет тогда всё ложь, всё вздор и всё неискренне.
После 17-го года голодал он, всё размышляя, и преподавал, гадая о добре и зле. Много скорбел и страдал. На излёте жизни и вовсе нищенствовал и страшно и долго болел. По воспоминаниям близких, – собирал окурки вдоль тротуара в Сергиевом Посаде. Перед смертью исповедовался и причастился. И, надеюсь, пришёл к общему знаменателю, наконец. Странно, что, читая его «философию», то и дело ловишь себя на мысли, что не веришь теперь даже и самой трагической правде всех его последних дней…
Всё двойственно в нём, как и в его писаниях. И это тот нередкий случай, о котором сказано: «…вынь прежде бревно из твоего глаза…»
1993
О величине
…Удивительный всё-таки филосуф, В.В. Розанов. Читаешь – и кажется порой, что он страдал от разжижения мозга, будто у него расшатался, расхлябался и мозг, и характер. Наивна его попытка описать любой предмет со всех сторон, в том числе и со стороны нравственной, даже удачно, порой. И тут же, в той же книге через несколько страниц о том же самом – безнравственно. Такой «приём» – потерпел полное фиаско. Яркий пример – пассажи о «микве» и прочее. И его рассуждения в «Уединённом» или в разделе «Юдаизм. Сахарна» – нередко святотатственны.
И в самом деле, он словно не замечает, что он то и дело в рассуждениях своих проваливается в инфернальное, мрачное, а ещё того чаще – в некую теплохладность (и опускается в бездны намеренно, с целью шокировать читателя, а не в поисках истины). В «Опавших листьях» совершенно нечего читать. Не чувствуешь того духа правды, который ищешь сокровенно и заведомо. Игра в интеллектуализм его надоедает очень скоро, – и тогда опустошённость вместо обретения от книги, от хвалёного этого и перехвалёного тоже со всех сторон (часто противоположных сторон) не писателя даже, а многознайки. Даже зрелый В.В. – не высок этически, всеяден, если так можно сказать… Хоть и начитан энциклопедически, бесспорно, к тому же ещё и необычайно памятлив. (Неред́ ко бывает даже и прав, но в самом корне – подпор́ чен с самого начала освоения им писательского ремесла). И всё же редко что находишь у него созвучное, редко принимаешь что-то как дар, как находку.
Чем долее живёшь и читаешь книги, тем ярче и непонятнее его некая «пресмыкающаяся эрудиция» с целью «бить читателя интеллектом»; в ответ, как следствие, неминуемы и читательские запросы к писателю. И первый из этих запросов – все эти дикие нахо́дки Розанова, – они, собственно, во имя чего у него? Какое впечатление он желает оставить по прочтении? Во имя какого смысла и с какой целью всё написано, да ещё и в таком объёме? И, конечно, внутреннее отчуждение и неприятие его: нет целостного характера, крепкого впечатления… И требование ответов на вечные вопросы-поиски, на которые он, как ему кажется, даёт ответ, а на деле запутывает ещё больше. И в этом ракурсе – так весомы и убедительны слова М.П. Лобанова о Розанове: «Гениальный умственный змий В.В. Розанов, как ядовитая капля химического реактива, неустанно долбил, подтачивая, разрушая самое ядро христианства, видя в Христе врага жизни, столь любезной Василию Васильевичу ветхозаветной иудейской плодовитости».
…Мог ли он, В.В. Розанов с его эрудицией, подняться на нравственную высоту, обрести крылья для духовного полёта? Несомненно. А что же вышло? «Нравственно невменяемая личность», – сказал о нём П.Б. Струве. Пример из писаний Розанова: «План «Мёртвых душ» – в сущности, анекдот. Как и сюжет «Ревизора» – анекдот тоже», – так написано в «Опавших листьях». Если так рассуждать, то и «Анна Каренина», и «Госпожа Бовари», и «Монт-Ориоль», и многие другие шедевры – едва ли не все они – анекдоты и составлены из анекдотов, да ведь тогда «анекдотично» даже и само творчество. Даже и мопассановская повесть «Пышка» – в сущности, из анекдота. А сколько шедевров-рассказов, романов – исполнены и додум́ аны из статей газетных, из новостей и передовиц. Удивляет даже и не только легкомысленность, легкодумность и всеядность публицистическая, которую встречаешь у Розанова – едва ли не на каждой странице (особенно в суждениях), – удивляет отношение литературной общественности – той, былой́, его времени публичности (да и нашего, нового времени тоже). И в этом видится роз́ нь небывалая необходимого со второстепенным, второсортным.
Нынешняя переоценка и новомодность Розанова сродни его же отношению к «анекдоту» как к хохме. Но уже и в то время «анекдот» относили не к хохме – но к любому неординарному событию. Анекдот, может быть, так и останется анекдотом, и не более того (смотря по тому, в какие повествовательные одежды его одеть). И сам по себе едва ли просто случай неожиданный, эксцентрический вызывает интерес, важны выводы, которые способен вынести читатель из прочитанного им. Особенно даже – если это не просто игра слов вроде тех, которые в таком обилии можно услышать где-нибудь «на Привозе» – на Одесском базаре, а есть, собственно (и это главное), и тема для раздумий, и глубина…
У больших литераторов и анекдот дотягивает до больших высот и обобщений (в меру таланта рассказчика). Таков Достоевский, который из вырезки газетной создаёт «Преступление и наказание»; так и у писателей-«стилевиков», у которых «язык повествования – хорош, как замороженная клубника», – тоже из вырезки газетной рождается некая скандальная «Лолита»… И всё-то – из случая, и всё-то – из анекдота. Но это – наши писатели, а если обратиться к зарубежным: О. Генри (Уильям Сидни Портер), а Джек Лондон – их множество… И это не единственные примеры тех авторов, кто охотно даже и перекупали анекдоты с давних времён и многажды раз сотворяли из них прямо-таки шедевры. Заметки из хроники местной газетёнки едва ли не сотни раз претворялись в книги. Но это по розановским книгам – лишь один пример из великого множества его умствований, часто просто аляповато и неряшливо написанных, – зачем?!
Розанов же сам по себе весь настолько неро́вен и противоречив, что иногда подозреваешь его в сокровенном желании хоть как-то понравиться, очаровать, околдовать, запутать читателя совершенно. Какие-то танцы с бубнами, шаманские пассы вместо сюжетов и мыслей. Купить читателя на сенсацию, «угостить» жареным, влюбить в себя «по-лёгкому» – стремление честолюбивое, но невысокое.
Он удивительно угоди́л «новому мы́шлению» перестроечному, про-демократическому «Grand Tolerant», не случайно он так активно издавался и переиздавался именно в скорбные и неустойчивые «плюралистические» 1990-е. (И именно тогда, когда ещё хоть кто-то и хоть что-нибудь читал). Его внедряли как будто и с целью подтравить советского человека с его сложившейся генетически христианской (несомненно!) моралью.
Едва ли не всё, что он написал, – исключительно игра ума, мишурный блеск и блистание «интеллекта», и ничего более. И всё же в этом мире, среди «молчащих гробниц, мумий и костей» (и в слове – особенно) – остаются прежде всего Величины, а не «умственные змии». И это справедливо.
2011
Из замет
Подмосковье. Удивительно неприятно видеть указатели, на которых рядом с русскими – английские написания наших городов и весей. Почему-то мне напоминает это кадры военной хроники, когда немцы, захватывая наши города, писали на указателях те же названия, но своими латинскими буквами… Невольно приходит на ум: но тогда была война, так, может быть, и сейчас война, только по иным, тайным правилам… И всё уже завоевано: мои часы русского производства, на которых написано по-английски, города, одежда и т. д. Моё теперь – только я сам. А когда захожу в наши московские магазины с астрономическими ценами на импорт, начинаю понимать, что и я сам-то себе не принадлежу, ведь я должен обуваться и одеваться, каждый день есть, а выбирать и еду, и одежду можно только из импорта, словно мы уже ничего не производим. Так и думается: а что же будет дальше, если цены на самые необходимые товары растут так бешено? И на лицах покупателей – уныние, скрытая озабоченность, тревога… Пока ещё нет голода, а куда ни глянь, – какое-то тайное страдание душ… Предчувствие бед… И невольно приходит на ум сказанное когда-то Ролланом: «Наше время – время трусов, бегущих от страдания и шумно требующих себе право на счастье, построенное, в сущности, на несчастье других…»
На дворе 93-й год. В наше смутное окаянное время никто не знает, какое очередное ярмо наденут на русский народ: парламент? монархию? Какой шум… Да ведь, по сути дела, Россия всегда, включая и советское время, была монархией. Монархия и сегодня. Частые вояжи великих князей и княгинь сомнительного происхождения похожи на кружения ворон… Ярмо наденут, но какое? Впрочем, какая разница. Ярмо, оно и есть ярмо. Главное – убедить людей, что это новое ярмо для каждого будет хорошо, как раз впору и легче прежнего. Из газет, телевидения, выступлений лидеров многочисленных партий видно, что появляются люди, владеющие искусством убеждать других. Платон в диалоге «Филеб» утверждает: «Искусство убеждать людей много выше всех искусств, так как оно делает своими рабами по доброй воле, а не по принуждению». Итак, – уметь убедить людей – самое важное. О духовных качествах самого убеждающего людей речи не идет. Они, эти убеждающие, самые разные. То есть тут – воля случая. «Появляется же искусство тогда, когда в результате ряда устроений опыта установится один общий взгляд относительно общих предметов» (Аристотель «Метафизика»). «Опыт создал науки и искусства, неопытность – случай». О том же: «Ты опытен – и дни твои направляет искусство, неопытен – и они катятся по прихоти случая». (Платон. «Горгий»). Россия перестраивается. Ублюдочная «демократия». Хозяйственные руководители получили свободу: неугодных, «высовывающихся» – сокращают. Самая типичная, излюбленная фраза чиновников: «Не нравится – пиши заявление на расчет».
Тип чиновника: средних лет, модно одет – куртка и брюки исписаны нерусскими словами, штаны с генеральскими кантами, яркие. Походка тихая, вкрадчивая, взгляд острый, пронизывающий, и всегда как будто думает о производстве. Но так только кажется. Все мысли такого чиновника заняты собственными делами – урвать: отвезти в гараж или на дачу доски, трубы, цемент, кирпич… И всё это на государственном транспорте. За использование транспорта в личных целях в хваленых странах Запада наказывают премьер-министров и министров. В России – такое в порядке вещей. Между тем заседают депутаты, пишутся законы: пишутся уже не так, как при Ельцине, когда Ельцин – в пику депутатам, депутаты – в пику Ельцину. Все это кончилось тем, что, чувствуя себя прочно в кресле, зарвавшийся президент разогнал зевающий парламент. Сегодня все тихо, тише воды… А пока – законы пишутся, пишутся… Мечтаем о монархе, о «царе-батюшке»… А кругом, даже в среде мелкого чиновничества, – плюют на эти «законы». Ничего не меняется, и плодится новый тип нуворишей, незнакомый до перестроечной России: тип Эжена Растиньяка. Нигде пока еще в литературе не схваченный, не выведенный. Этот тип не будет доброхотливым меценатом, как его пытаются сегодня нам расписать… О, времена! О, чиновники! …Как бы не получили мы в конце времен не такого монарха, которого ждём и просим, а такого, от которого «и восплачем, и возрыдаем»…
Запись: «Россия! Что делают с нею! В электричках, переходах метро – цветные плакаты с бегающим по сцене пастором-американцем: «Фестиваль Иисуса. В перерыве – ансамбль “Цветы жизни”». Играют на гитарах религиозные, как им кажется, гимны. Натянутый билдборд в пяти метрах над землей полноротая, толстогубая, дородная деваха с холёным лицом. На лице – полное довольство. Вытянуты два пальца. А под фотографией надпись: «Мария Деви Христос… Юсмалос…» – и ещё что-то длинное, трудно произносимое, невнятное… Какой нравственной нечистоплотностью, корыстью, чванством веет от всего этого. Можно ли вообразить себе все это в России до 1917 года? И безграмотность, бездуховность повсеместная. Перечитал и ужаснулся, ни на шаг вперед не ушли, какая уж там монархия…
1993
Благочестивому читателю
О себе: я самый бедный человек, у меня ничего нет, и самый богатый, мне ничего не надо. Когда я пишу, я нахожу для себя и для души своей какой-то посошок, костылик, сопутствующий движению и очищению. И тогда каждый человек, на которого я смотрю, становится моим другом и учителем. «Когда всё внимание людей устремлено на то, чтобы украсить земную жизнь возможно большими удобствами, трудно говорить о тех, кто, глубоко осознав и почувствовав тленность всего земного, отрешались от мира, уходили в пустыню и стремились всеми силами только к тому, чтобы, поборовши в себе самих все плотское, страстное и греховное, очистить и украсить высшую духовную сторону своего существа и приготовить полное торжество духа над плотью». Так записал религиозный писатель, мудрец, блаженный Иоанн Мосх в своем творении «Луг духовный». Книгу эту дала мне почитать дальняя родственница, милая старушка, а год издания книги – 1896! Сто лет назад так писал Иоанн Мосх, непревзойденный стилист, знаток языка, мастер формы. Такие книги прятали не так давно, читали из-под полы, и вот настало время говорить и о писателях, и о написанных ими книгах – это наше духовное наследство. Кто же этот писатель, Иоанн Мосх? Лично я ничего о нём не знаю. Мои ровесники – тоже, думаю, мало кто знает. И вот я с большим интересом читаю «Введение» к книге «Луг духовный». «Автором «Духовного луга» был, бесспорно, блаженный Иоанн Мосх. Нам неизвестны ни его родина, ни год рождения, ни то, где он получил образование». Из его творения мы можем только заключить, что он отличался обширными познаниями. Его мало занимали светские науки. Высшие вопросы религии и философии, глубокие духовные опыты – вот к чему лежала душа его, вот чем он никогда не переставал интересоваться. «Стремление к Богу и высшему нравственному совершенству руководило его научными занятиями». Так написано о писателе Иоанне Мосхе: «Стремление к Богу и высшему нравственному совершенству». Нам неизвестно, достиг ли он нравственного совершенства, думается, что само стремление к Богу и есть суть этого совершенства – вечного, бесконечного, как этот прекрасный из миров. Книга «Луг духовный» захватила в объятия мою душу, сердце… Без малого сто лет назад писано! Большой формат, твердый переплет, старая орфография… «Отъ Московского Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. 8 генваря 1896 года». И чуть ниже: «Цензор Протоиерей. Петропавловский». Много утекло воды с тех пор… Но истина не стареет. «Прогресс», взрывы научных открытий потрясали мир; человек побывал на Луне… Вырос ли человек с другой стороны, нравственной? И если вырос, то – до каких высот? Я этого не знаю. И вот писатель обращается ко мне, читателю, меньшому брату со словами напутствия: «Между тем среди огромных успехов в науке, искусстве, в обогащении, во внешнем украшении жизни можно подметить нередко глубокий вздох подавленной духовной стороны человека, порой раздается даже потрясающий вопль разочарования и отчаяния. Чувствуется какой-то глубокий внутренний разлад во всем строе современной жизни… Это происходит оттого, что все сокровища и красоты мира сего не могут дать желанного покоя бессмертному духу, созданному для Бога и вечности». Итак, сто лет тому назад чувствовался разлад «во всем строе современной жизни»… С какого же времени начался разлад в строе жизни? С появления семьи? Государства? А быть может, раньше? С началом войн начался прогресс. Научные открытия, если не все, то многие, внедрялись, прежде всего для войны. Сначала изобрели атомную бомбу, апробировали на людях, потом стали сомневаться в ценности открытия. Вторглись в гормональную, иммунную системы, в генетику человека. И вот наконец, совсем недавно открытие: существует белок тончайшей структуры, неизвестный науке прежде, с помощью которого, вводя его в кровь и пищу, можно управлять психикой человека. Внушать страх, ужас, сводить с ума, заставлять поднимать неимоверные тяжести на грани полного физического и психического истощения. И открыто это в России. «Человек-зомби» – мечта Гитлера, Муссолини – стал реальностью. Пожалуй, это пострашнее атомной бомбы. Возможно, внутренний разлад начался с того момента, когда человек убил первого мамонта и в торжестве пиршества не почувствовал, забыл или не знал слова Божьего «Не убий»?
Миллионер только что вылез из позолоченной ванны… Он заметил царапины на позолоте… – Эй, Патрикей! – крикнул миллионер слуге, оробевшему от грубого окрика. – Слушаю-с… – Чтобы сию минуту поставить золотую ванну! – Будет сделано, Ваше Сиятельство… Будет сделано…» И было сделано. И полоскались в золотых ваннах с шампанским, спали на кроватях с умеренным подогревом в зависимости от сезона. Мне приходилось слышать о ваннах в Западной Германии, которые исполняют до 170 программ с массажем, лечебно-газовым включением, с шумом морского бриза и обтиранием. Спины миллионеров Европы и Америки красны здоровьем. Только здоровье ли это, а может быть, предел разложения человеческих душ, ибо разложение, как и совершенство, – беспредельно.
«Это происходит, – пишется в обращении к благочестивому читателю, – оттого, что все сокровища и красоты мира сего не могут дать желанного покоя бессмертному духу, созданному для Бога и вечности. По мере того, как цветет и украшается внешний человек, внутренний, истинный человек как бы замирает от глада духовного.
Пристращаясь к миру и его утехам, человек живет скорее мнимой жизнью, чем настоящею, увлекается как бы призрачными сновидениями, а не бодрствует». «Ты это узнаешь, – говорит приснопамятный святитель Филарет, – когда дух твой пробудится в день благодати или в день суда». «Если мир воздвигает памятники своим великим людям, героям, поэтам и художникам, то мы не должны забывать, что были другого рода люди, для которых, как говорил митрополит Филарет, «померкли красоты мира, сладости чувственные преогорчились, земные сокровища превратились в умёты, мир явился пустынею, а пустыня – раем». Люди, которые презрели мир и всё мирское и через то явились такими, что их «не был достоин весь мир».
Охватывая мысленным взором человеческий опыт, заглядывая в «тьму времен», мы читаем «Жития» святых, мудрых старцев, опрощение человеческого бытия, и перед нами возникает образ едва ли не самого мятущегося в религии человека Руси – Льва Толстого. И тут опыт говорит нам о максимализме, с другой стороны, открываются грани русского национального характера. «Мир явился пустынею, а пустыня – раем», – по словам Филарета, а по-нынешнему – лучше пережать, чем недожать, лучше переесть, чем недоесть, или лучше вовсе голодать, чем поститься; лучше перепить, чем недопить… И даже коммунистическая мораль, внешне далекая от христианской, и та ведет к крайности: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» Может, потому так скоро и прижилась идея коммунизма именно у нас, в нашей стране, что русский человек середины не знает. Величайший знаток русской души, русского характера, Л. Толстой написал о служивом Авдееве: «– А что, Антоныч, – вдруг спросил веселый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно? – Какая же скука? – неохотно отвечал Панов. – А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал. – Вишь ты! – сказал Панов. – Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю, дай пьян нарежусь». И вот этих, «накатящих», сколько их, таких истинно русских типов в литературе! (Их можно видеть и сейчас всюду: то всё молчит, пассатижами слова не вытащишь, то – как будто полусонный… Потом вдруг накатывает… их много у Короленко в «Река играет», в рассказах Горького, Леонида Андреева, у Куприна, Скитальца и др.).
В рязанской глуши, где вся деревня разорена до мерзкого опустошения, где хоть шаром покати, заросли подворья глухой крапивой, даже там нет-нет да увидишь и услышишь «накатящего». В момент этого самого «наката», даже когда сыт, пьян и нос в табаке, когда пресыщен до предела, душа как бы выворачивается наизнанку: все дремала, выглядывала, совестилась… И вот, «нарезавшись пьян», «накатящий» выкатывается на улицу: «Все пропью, гармонь оставлю!» И крайности. И эти загибы неисправимы. И загибы эти знают, они во всех проявлениях: в частной жизни, в политике, идеологии и даже в религиозности… Уж если украшать храмы, то не иначе как серебром, золотом, так, чтобы нищие телом и духом молились иконам в серебряных или золотых окладах, а кресты самые убедительные – золотые. Но зачем Богу золото? Золото – ценность для вора. Богу же что золото, что песок. Ценность – только ве́ра. А уходит вера – храм без креста. В идеологии же – перегибы: непременно к коммунизму, и возможно скорее, и чтобы во всем мире… В политике – в каждой республике – президент, идут разговоры о президентстве в области, остановились на «мэре». Мэр же не наше словцо. «Не вмер Данило, болячкою задавило». В подражательстве, в постыдном обезьянничестве тоже не знаем границ: тащим секс-шопы из-за кордона, да что там: есть Белый дом в Америке – пусть будет и у нас. Доллар становится солнцем… И все-таки часто думается, что многое, что мы привезли с Запада, с времен Петра (первого революционера), – как бы не в коня корм, так и не пошло на пользу. Все как бы то, да не то́, как если бы мы сели и объелись французскими устрицами.
С давних времен, когда старый плотник, уже приготовившийся помирать, наказывал сыну, уходящему в извоз или отхожий промысел, где молодой встретится с самыми трудными обстоятельствами, говорил старый мастер: «Смотри в корень»… В деревне, где я родился и рос, рассказывали нечто вроде притчи: перед тем, как молодой цыган-конокрад уходил «на дело», его сначала пороли, дабы не сечь попусту, когда попадется на краже, там уже будут пороть чужие и не так, как дома…
Если вернуться к напутственному предисловию, к «Лугу духовному», – подвижник, писатель Иоанн Мосх открывает нечто такое, что не позволяет усомниться в правоте его слов, разгадывает в какой-то мере славянскую душу. С «завоеваниями» советской власти утратилась связь с религиозной культурой, которая всегда была корнем воспитания русского человека. Разорялись церкви. И что сделали самые грубые, самые недальновидные? Отделили церковь от государства. Это не Ватикан в Италии, а нечто славянское, ни на что не похожее: институт религии, духа – не в государственной обители. Между церковью и государством терялось сродство, нематериальная, духовная же связь, корни духа уходили в глубокую почву уныния, безнадежности. Если образно сравнить, то позволю себе сравнить грубо: с трибуны, перекрывая море голосов, вождь говорил об идеалах коммунизма, а люди делали вид, что слушали, и обменивались новостями: где разорили церковь, где арестовали попа, кого из подвижников сгноили в троцкистских концлагерях. И это море людское вынуждено было стоять и слушать. Эти славянские души стоят и страдают от несварения импортного «коммунизма» – очень деликатная, так и не усвоенная «прогрессивная» философская пища. Когда скопление людей рассеивалось, те, что были на трибуне и говорили о коммунизме, о светлых идеалах, дабы внушить «массам» извечную мечту «о равенстве и братстве», эти светлые головы поднимали тосты, хорошо закусывали, угощали любовниц, подумывая, однако, не отравлена ли снедь…
Тем, кому внушались идеалы братства и равенства, было хуже: они садились за стол семейно, хлебали жидкую похлебку, жевали картошку с огурцами; в угарных избах укладывались спать крестьяне, в барачной тесноте спали рабочие… И тут идеалы расходились, дух и плоть поднимали бунт. Итог всех дел на подступах антирелигиозных и коммунистических идеалов? Глубокое уныние, пессимизм, разочарование, раскаяние, как теперь говорят, не покаяние, не сожаление. Все что угодно, только не конкретные зрелые сиюминутные дела насущные. И тут, разумеется, начинает «накатывать» на носителей официальной идеологии и на «массы» – на всех. Оттого всё ширится пьянство, преступность, тупое озлобление, как злая зараза.
Крепость христианских идеалов пытались расшатать давно. Говорили и писали ереси в эпоху Грозного, казнившего будто бы и сжигавшего с «вечным поминовением» в его синодике. Великий богоискатель Толстой так и не нашел истины на пути опрощения, сближения, слияния с Богом-Отцом. Говорил одно, а жил по-другому. Идеалы коммунизма тоже оказались призрачными. Где наши идеалы? Где наша вековечная мечта, что с ней случилось? И вновь глубокое уныние. Затосковала славянская душа, закручинилась. Признак перехода всякой демократии в диктатуру – самоубийство и убийство поэтов. Пушкин, Лермонтов, Павел Васильев, Есенин, Маяковский, Клюев и др. – цепь несчастий. На каком основании мы можем судить, что цепь трагедий оборвалась? Уже в наши дни в первый год «демократии» упрятали в тюрьму таджикского поэта Л. Шерали за критику в стихах Системы, и не какой-нибудь, а «демократической». Да и не его одного. С этого и начиналась «демократия» у нас. Она была с самого начала обречена. Обречен был и СССР – именно по причине импортированной «демократии».
1992
В начале 90-х погибла русская поэтесса, народный депутат СССР Юлия Друнина, лопнула еще одна надорванная струна. Фронтовичка, труженица в нашей поэзии. «Тело было обнаружено участковым 21 ноября в 17 часов, в принадлежащем ей автомобиле ВАЗ 21–06 в поселке Советский, что рядом с Троицком…» Так заурядно, до боли обычно кончилась жизнь той, строки которой никогда не забудешь… «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
…Однажды, в середине 80-х, мы еле прорвались в ЦДЛ. Стоял ноябрь в самом начале. Часов с семнадцати, туманным вечером, долго всем подмосковным литобъединением стояли мы у входа. С нами был поэт Г.М. Левин. В его квартире тогдашней старой мы читали стихи, спорили и так надоели друг другу и так устали, что Григорий Михайлович вдруг сказал: «Поедем в ЦДЛ, у меня сегодня аванс…» Все мы, как по команде, полезли в карманы за «дотациями».
У входа Левин долго хлопотал, чтобы нас пропустили. Шли с билетами СП завсегдатаи, известные в стране поэты, писатели, журналисты. И вот мы. Никто не хотел нас пропустить.
– Это поэты, – говорил швейцару Григорий Михайлович, – мои ученики…
Одного из нас, нетрезвого, не буду называть имени, не пропускали битый час. На улице моросило с ветром, у входа было тесно. Не пускали.
И вот каким-то чудом всем литобъединением мы вошли в фешенебельную залу ресторана. Горели люстры со свечами-лампочками, было душно, стояли запахи вин, жареного лука; беспорядочный разговор повисал в дыму табака. Возле бара сидели и сосали через трубочки вино – молодая смазливая женщина и мужчина – тоже молодой, мне тогдашнему ровесник. В середине зала за столиком небрежно и разухабисто сидел тот, кто написал «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса…» Он сидел в ожидании вина, лицо его было красно, глаза блестели, улыбка не сходила с лица, весь он горел каким-то трудно выразимым «поэтическим огнем». Левин о чём-то поговорил с автором знаменитой песни, назвал нас, познакомились… «Это тот, кто написал “Тачанку”, Михаил Рудерман», – шепнул мне Левин. Подали сухое вино в запечатанных бутылках, и Григорий Михайлович начал нас совестить: «Поэты, называется, бутылки не можете открыть…» На тарелках лежали куски кровавого, сочившегося красным соком мяса, до отвращения сырого и невкусного… «Это “бифштекс по-английски”, – говорил мне Левин, – держи нож, мой острый…» И я почувствовал укор: «Эх, деревня стоеросовая…»
Через час уже было невмоготу: в зале загалдели громче, лак на перегородках тускло заблестел точно влагой, на антресолях, как бы на балкончике, читал стихи какой-то длинноносый рыжий поэт; он размахивал руками, выкрикивал по-петушиному, длинные мокрые локоны ниспадали на худые плечи сосульками. Я подумал, что этот парень – сумасшедший. «Он тут завсегдатай, – подтвердил Левин. – Стихи читает, сонеты, а сейчас балладу…» – «Странная, однако, личность, – говорил я Левину тихо, почти шептал. – «Он вот-вот свалится с балкона, надо ему сказать…» – «Ты тут впервые?» – спросил меня автор знаменитой «Тачанки». – «Я их привел, – как бы извиняясь за всех нас, сказал Левин. – Ученики мои». В зале между стойками и столами появилась Юлия Друнина. Она шла мимо и о чём-то говорила с мужчиной средних лет. Ничего в ней не было от поэтессы, как будто принарядившаяся станочница или ткачиха – ударница труда.
– Друнина, – сказал Левин. Все мы перестали жевать английский бифштекс.
Читаю и не верю: «Юлия Владимировна отравилась газом от выхлопа автомобиля в гараже на даче. Судя по оставленной Ю. Друниной записке, она покончила с жизнью самоубийством». Война, разруха, тяжелый труд… И вот уже зенит славы, любовь всенародная… И трагедия, такая неожиданная, безумная, что в горле ком… И в этой связи, чтобы хоть как-то сказать «о времени и о себе», я бы сказал в меру моих сил: «Кто говорит, что жить сейчас не страшно, тот ничего не знает о стране».
1993
Былинки
«Приступая ко всякому рассуждению, следует, как мне кажется, за основу взять нечто бесспорное» – так говорил киник Диоген Синопский, ученик знаменитого Антисфена. А записал Диоген Лаэртский. О точности записи спорят, но то, что написано пером… Возьмем же «как нечто бесспорное» вот какую, записанную Л.И. Толстым мысль: «Люди живут дурно не потому, что они злы, а потому, что они неправильно мыслят». Сколько же изречений, советов, слов простых и мудрых я пропустил мимо ушей, не запомнил, не записал, а главное – редко размышлял над их истинным смыслом… А зря. В конце концов, не так уж важны авторитеты, «кто сказал»… Что сказал и чему учит сказанное – вот что ценно. И вот антиподы бесспорные я записал у Антисфена, отца киников: «Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои погрешности»; он же изрек: «Справедливого человека цени больше, чем родного»… Чему же учат эти изречения? Правильно мыслить. Разумеется, не только афоризмы учат правильно мыслить и судить о предмете, но и жизнь, среда, наследственность, выбор книг и круг чтения…
