Незадачливый антракт
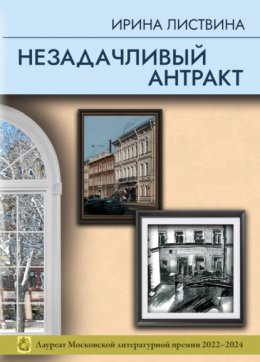
© Ирина Листвина, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Художник обложки Александра Уханёва
Эскизы, миражи, сады…
К середине двадцатого века советские люди, пережившие две мировые войны наряду с едва соединявшими их, как недостроенные мосты, периодами разрух, совершенно изверились в идее «лучшего в мире будущего». Особенно нелегка была атмосфера после смерти Сталина, в год ненадёжного и готового к развалу триумвирата (Хрущёв, Маленков, Булганин). И тогда Бог внезапно и неожиданно смилостивился над растерянными, утрачивающими веру во что бы то ни было людьми. И вновь излил на них немного Духа Святого Своего.
Конечно, это было совсем не так, как во времена Апостольской церкви, когда нужно было приобщать к вере народы и этносы, незнакомые с монотеизмом. Тогда Дух говорил в каждом из апостолов на чужих языках.
Нет, теперь Он изливался на людей во множество раз скромнее, всего лишь как светлый дар общения, ими почти утраченный. Долгие годы они не осмеливались высказывать даже те из своих мыслей, что никакого отношения к политике и экономике не имели. Они чуждались друг друга и общались почти формально, глухо, уходя в любимую работу, как в ящик стола (и безнадёжно надеясь, что он когда-нибудь чудом превратится в почтовый ящик).
Ещё не веря тому, что доносы больше не нужны, люди всё же это чувствовали. И бескорыстное общение, основанное на взаимном доверии, стало казаться им бесценным. Они не просто обернулись и взглянули друг на друга. Они глядели друг другу в глаза, вглядываясь и вслушиваясь. Взгляды, жесты и мимика значили теперь не меньше, чем слова, а обращённые друг к другу души и лица говорили так, как это бывает лишь на первых стадиях влюблённости или избирательного дружеского сродства.
И тогда, подобно тому как было во времена Апостольской церкви, но и как в капле воды под микроскопом, вдруг выяснилось, что иные из них наделены этим даром больше других. Вокруг таковых стали образовываться кружки, сливающиеся в круги. Там говорили в основном о Боге, философии и искусстве. Избранные становились педагогами-гуманитариями, притягивавшими тогдашнюю молодёжь. В разных «градах и весях» страны (иной раз и в том же городе) это происходило по-разному; кто-то, разумеется, вспомнит об этом по-другому (и о других). Здесь речь пойдёт о пяти островках литературного Ленинграда тех лет (вплоть до начала 80-х).
Образ городского сада тоже говорит о естественной радости общения – с природой, порой и с собеседником (или с самим собой). Поэтому участки, как бы выделенные из большого единого парка вокруг бывшего Петербургского Воспитательного дома, непосредственно связаны здесь с именами главных действующих лиц.
Фрагмент «Из жизни ленинградской богемы»
I. На Ковенском переулке
Я вошла в привычно гостеприимные и безалаберные комнаты на Ковенском переулке за несколько минут до произошедшего. Сняла пальто и собралась немного поиграть с Рикки в мяч. Ирины не было, а Светка, ставшая в последний месяц какой-то неприветливой, выглянув, проскрипела шёпотом, что та на минутку вышла, сейчас придёт.
Вдруг явственно послышались два выстрела на чердаке (над потолком этого надстроенного этажа). Отчётливый первый щёлк был твёрд, что говорило об опытной руке. Второй раздался через секунду-другую, словно происходила дуэль. Он был суше (истеричнее, что ли), а затем послышался стон – мужской, непродолжительный; всё это заняло не более минуты. Трёхногая сука Рикки (помесь бульдожки с дворнягой), очень ласковая, но беспринципная в своих просьбах к знакомым, заковыляла туда-сюда, подпрыгивая, через комнату по диагонали. Я застыла у стены, а Светка выскочила и бросилась наверх. Через несколько минут раздался вой двух машин, милицейской и скорой.
Раненного в плечо офицера увезли в больницу, а Ирину Чемоданову (непризнанного, но небезызвестного в узком кругу прозаика) – минуя отделение милиции, в тюрьму. Понятие тюрьмы было неоднозначным, узилища были разные. Через несколько дней стало известно, что Ирину определили в отделение судебной психиатрии в Малых Крестах у Финбана.
Часа за полтора до меня к ним заявились два офицера с запиской от кого-то из знакомых. Это ничуть не удивляло: их две комнаты напоминали постоялый (и проходной) двор. Офицеры принесли коньяк, яблоки и шоколад, сели, выпили, несколько минут шутили, но вскоре стало ясно, что говорить с ними и не о чем. Ирина похвалилась, что на чердаке у неё тир, а кто-то из троих (исключая Светку) предложил пойти поупражняться в стрельбе.
Дальнейшее так и осталось неясным. Ирину я не видела почти полгода, навещать её не разрешали, можно было только поставить в окно передачу. Через четверть часа в коридоре раздавался окрик: «Кто оставил для Чемодановой?» Я подходила, и что-то обязательно вышвыривали обратно (банку сгущёнки, например), хотя передачу обдумывали люди поопытней меня.
Странное начало для взаимосвязанных в повести-эссе рассказов? Тем более что два предстоящих: «Хмельницкая и сад Тамары» и «Стоический сад» – отличаются совсем иной, академически спокойной атмосферой. Всё же изредка и они будут прерываться эпизодами – драматическими и не очень. Таковы были семидесятые, время ведь чем-то напоминает погоду. Бывает же, что за считаные дни до раскатистой, полыхающей в окна и долгой грозы по вечерам слегка погромыхивает, как бы совсем издали и случайно.
Фрагмент
«Хмельницкая и сад Тамары»
(начало)
Знаете, кто вы? Вы молчальница из сада Тамары.
Реплика Д. Е. Максимова
I. Приглашение к чаю
…Впервые я обменялась с ней несколькими словами в 1971 году, подойдя с вопросом после её лекции в Публичной библиотеке. Я была студенткой (вечернего филфака) и как-то вдруг набралась храбрости подойти, сказать несколько слов. Что-то не просто расположило меня к ней, а задело за живое. Помню, что ни к одному незнакомому человеку я ещё не испытывала такого импульсивного доверия с желанием обменяться несколькими словами. Конечно, я не думала, что мимолётное знакомство будет иметь продолжение.
А через несколько месяцев я встретила её в доме Ирины Чемодановой (одарённой писательницы-полудиссидентки, как ни странно, сугубо советского склада; написанное ею не попало в печать и не дошло до читателя вовремя).
Ирина недавно ещё работала секретарём поэта Ольги Фёдоровны Берггольц и была её другом. Познакомилась я с ней в клинике неврозов на Васильевском, где она лечилась, а я навещала однокурсницу. Мне (в двадцать с очень небольшим) было лестно, что человек, близкий к Ольге Берггольц, одобряет мои стихи. Тамара Юрьевна была в ровных, дружеских отношениях с Ириной. Но при упоминании друзей Т. Ю., ставших (в той или иной мере) и моими знакомыми, мне придётся иногда делать пропуски. Ирина Чемоданова заслуживает отдельного рассказа, но здесь он будет дан в виде отрывков.
Итак, вначале я встречала Тамару Юрьевну на Ковенском переулке – кивок, улыбка, не более. Как-то раз Ирина вручила ей стопку моих стихов, сказав: «Вот это – настоящее!» Тамара Юрьевна ответила, что обязательно посмотрит, и дала мне свой номер телефона. Через несколько дней я получила приглашение к вечернему чаю у неё на Загородном.
Я пришла туда к восьми, а вернулась домой поздно; поздними были и мои возвращения от неё в дальнейшем – все эти долгие годы, до её последней болезни. Но сейчас о нашей первой встрече, которая могла бы и не произойти, не получиться; однако состоялась. Странно, что она говорила о моих стихах так внятно, интересно и внимательно, а я, волнуясь, всё как-то не могла сосредоточиться. Часть моего внимания поглощала комната – нет, даже и не она, а присущая ей атмосфера, резко отличительная, дышащая немного унылым, но притягательнейшим уютом «у камелька в тусклый осенний день». Поначалу даже и голос Тамары Юрьевны слегка завораживал, убаюкивая внимание необычностью звучанья: у себя дома она не старалась говорить, как принято. Её выговор был очень раздельным и внятным, но питерским, дореволюционным. К тому же в нём была возрастная приглушённость с лёгкой хрипотцой, но была и тщательность, которая делает каждое слово понятным. При этом казалось, что говорит она медленно, как бы раздумывая; дикция в целом напоминала мне костяной фарфор. Что же до манеры говорить, то все, кто слышал записи чтений Александра Блока, знают этот говор, присущий интеллигентам начала XX века: возобладавшее четвёртое сословие (в подражание дворянству) сохранило лёгкий французский прононс, но он полностью слился с уже сложившимся твёрдым питерским. В тот первый вечер мне казалось, что и мебель у неё как на сцене театра МХТ, вот только вблизи кажется потускневшей, старил её и общий зеленоватый колорит, однако она не была ни поношенной, ни потёртой. Моё воображение поразили гамбсовские стулья и беккеровский рояль, а больше всего прекрасно сохранившаяся люстра в стиле модерн (без хрустальных висюлек, отнюдь). В комнате не было следов творческого беспорядка, но были свобода и покой, давно ушедшие из быта. Был и диван с пледом, накинутым на подушку, вышитую гарусом, как бы в приглашение к отдыху. Было и одно чарующее противоречие – акварели на стенах обладали живостью свежих красок, как если бы (там и сям) стояли букетики цветов: маки, ромашки, колокольчики…
Так я и стала время от времени бывать у неё, сначала в коммуналке на Загородном, недалеко от Владимирской площади, где сама жила ещё недавно, до окончания школы. Моей ответной реакцией на неожиданно живой и глубокий отклик на мои стихи было то, что я (ещё не выбравшись толком из «детства, отрочества, юности» – на выходе у меня родился сын, и захлопнутая дверь в детскую опять приоткрылась) увидела в ней фею в обличье беличьем – отметив сходство Т. Ю. с этим убегающим и спешащим вверх существом, пусть и издали, но явно расположенным к людям. (Часть лета моя семья проводила в Прибалтике, где белки почти ручные.)
Тамара Юрьевна была на добрых сорок лет старше меня (и этого не скрывала), но ведь феи в сказках нередко были пожилыми дамами. Наверное, всё это – о белках и фее – я тогда придумала, чтобы не слишком удивляться и облегчить себе привыкание к её кротким, живым, полным интереса ко мне глазам. Может быть, мы подружились с ней отчасти из-за благодарности, выразившейся в этих выдумках? Не знаю, кажется, всё обстояло не так просто. Многие молодые литераторы бывали у неё, читали свои произведения, нередко были прекрасно приняты и встречали интересный отзыв. Иные из них (но немногие) в ответ привыкали к ней, к её дому, становились настоящими друзьями – например, Лёша Любегин, совсем молодой, но независимый (с изданным сборничком стихов, уже член СП), и его жена Галя, врач-психиатр (серьёзная профессия, ещё бы!).
Однако не время говорить о литературной молодёжи тех лет. Внешность Тамары Юрьевны как-то сразу ускользнула от меня, поэтому описывать её я и не стану. На это имелся ряд причин, часть которых мне не вполне понятна. Но, судя по воспоминаниям её сверстников (из секций критиков и переводчиков), она была среди них существом непарным и порой казалась чудачкой. В частности, пишут, что она всегда сидела в сторонке, а при ходьбе голова у неё немного опережала ноги, хотя походка была в общем ровной и сутулилась она лишь слегка. В тридцатых годах её почти не печатали, она не примыкала ни к одной из заявивших о себе группировок, в отличие от большинства сверстников. Кроме того, она была среди тех, кто не прервал знакомство с М. М. Зощенко, когда все от него отшатнулись.
В общем, она была в хороших отношениях с коллегами, но в то же время ей бывало среди них и одиноко (до возвращения из ссылки Эльги Львовны Линецкой). Было ещё кое-что, мешавшее мне однозначно воспринять её внешний облик. На стенах комнаты висели её портреты в молодости (кисти покойного мужа). Её вид на них не то чтобы пересиливал или преодолевал общее впечатление, но примешивался к нему неуловимо, как запах лаванды к белью. Её манера держаться и говорить была живой и естественной, более того, казалась намного моложе её самой. Ничего застывшего и потускневшего с возрастом (кроме черт лица) в Тамаре Юрьевне не было…
Сколько людей, столько и случаев: народу в её доме бывало больше, чем в других. Однако ни с кем из «молодых» (вставляю кавычки, так как эта дружба вышла за пределы молодости, хотя рядом с ней казалось, что и нет) она не водилась и не возилась в 70-х и 80-х, как с Нелли Ореховой и со мной. Это могло объясняться тем, что у неё не было детей, а материнский комплекс, заставляющий сильнее любить ребёнка с ущербинкой в характере, часто болеющего и не слишком способного постоять за себя в житейских обстоятельствах, у неё был и проявился по отношению к нам обеим. Но всё же могу с уверенностью сказать: это Тамара Юрьевна выбрала меня, а не я её. И дело было не в моей или Неллиной привлекательности. Разумеется, присущая молодым беззаботность (да и свой шарм) у каждой из нас были. Но вечно простуженная и курящая, легко замерзающая в неуклюжих своих пальто Нелли (хотя и с большими ярко-голубыми глазами), да и я с моим рассеянным, устремлённым вглубь и немножко совиным взором (хотя и с тонкими чертами лица) – нет, мы обе не были красотками, нас обеих, каждую по-своему, воспринимали иначе.
Тамару Юрьевну больше всего интересовал в людях талант, он мог находиться ещё и в латентной стадии неординарной одарённости. Возможно, в нас обеих она увидела случаи, когда без поддержки талант может замереть и не достичь осуществления. Разумеется, мне легче судить о Нелли, ведь себя никогда не видишь со стороны. Её большой талант, возможно, напоминал Тамаре зуб мудрости, не сумевший прорезаться вовремя, – ведь так иногда бывает. Запоздалый процесс прорезания может сопровождаться муками, и дантист (увы, судьба нередко действует именно, как он) может счесть, что зуб предпочтительней вырвать. Мне непонятно другое: как сумела Тамара разглядеть большое дарование в её первых, неловких и подражательных, стихах…
Итак, ярко запомнившееся первое чаепитие с разбором стихов, а затем и многие другие, но атмосфера в них осталась неизменной. Хотелось бы закончить строками из опубликованных (но очень нескоро) сборников стихов Нелли Ореховой:
- Вы мастер дружбы, тихая Тамара.
- Где вы берёте всех своих друзей?
- На огонёк таинственного дара
- Являются пришельцы из ночей.
- Да, мокрые – хоть выжимайте – души
- Пообсушить, погреться у стола.
- А на дорогах высыхают лужи
- От вашего крамольного тепла.
Вот, кстати, первые два слова о Нелли. Мне предстояло близко подружиться с ней позже, в восьмидесятых, а в этой повести она будет изредка мелькать – тенью или на мгновенье, как бабочка. Но Тамара Юрьевна с самого начала говорила со мной о ней, как о нашей общей знакомой, и ещё, как о человеке безбытном и неустроенном. Они с мамой приехали в Ленинград несколько лет назад, после её поступления в ЛГУ. Жить им было практически негде, и Евдокия Ивановна (в прошлом неплохо зарабатывавший инженер-экономист) нанялась в домработницы к писательнице Кетлинской, на её дачу в Комарове, неподалёку от Дома творчества писателей. После окончания университета Нелли долго не могла никуда устроиться. И Кетлинской наконец надоело выслушивать жалобы Евдокии Ивановны и видеть её заплаканное лицо. Она придумала для Нелли синекуру – ещё не существовавшую тогда должность библиотекаря Дома творчества. Библиотеки там фактически и не было, но было много старых книг, в которых следовало разобраться.
В Ленинград Нелли приезжала раз в две недели, но на целых два дня – заказать книги в коллекторе и повидаться с друзьями (главным образом из примечательного университетского выпуска 1966 года). Из мимолётных встреч с ней на Ковенском (у Тамары Юрьевны мы ещё не пересеклись) возникал некий смутный и грустный образ: печальные глаза, стеснённые обстоятельства, стихи писать начала поздно и пока не очень получается. Но года через два я впервые навестила Тамару в Доме творчества, и это впечатление изменилось. Вместе мы заглянули на часок к Ореховым (во флигель для писательской обслуги), и я была приятно удивлена: её мама создала домашний уют совсем уж из ничего, из холодной комнаты с дощатым крашеным полом и тремя предметами казённой мебели. На столе были самовар, вкуснейшие домашние пирожки с разной начинкой и вино, а разговор шёл незамысловатый, но живой и информативный – о бытовых чёрточках этого (на мой взгляд, очень небезынтересного) заведения.
Но вскоре после переезда Тамары Юрьевны на Петроградскую впечатление это как бы раздвоилось. Как-то раз при мне к Тамаре заглянула поэтесса Нонна Слепакова, жившая двумя этажами выше. Она недавно вернулась из Комарова и забежала ненадолго, на «одну чашку» чая, но успела дать Нелли иную характеристику: «Это невозможно! Она уже пять лет работает в библиотеке, а там царит полнейший хаос! И потом, она то проспит начало рабочего дня, то вдруг заболеет, то лишний день пробудет в Ленинграде. Но главное в том, что эта ваша Нелли – тоже дэтэпэ в своём роде. Только это аббревиатура не от Дома творчества, а от дорожно-транспортного происшествия. Все мы это понимаем и многое прощаем ей за это».
Нонна обладала отточенно-острым язычком, а на тех, кто не хотел попасть на него (в частности, и на меня), она негодовала и обижалась, про себя полагая, что эти гордячки просто не желают понять, что она в качестве женщины деловой, преуспевшей и доброжелательной могла бы поспособствовать их продвижению в ленинградских издательствах.
II. Труды и замыслы Хмельницкой. Перечень работ
Начну с перечня её книг и статей (напечатанных и нет). В воспоминаниях – о ком бы то ни было – это может показаться необязательным и несколько навязчивым. Но всё же, говоря о деле жизни, надо начать с работ, да послужит это мне оправданьем.
Она окончила словесное отделение ЛИИИСКа (ленинградского института истории искусств, где преподавали Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум и В. В. Шкловский) и аспирантуру при нём в 1927-м. И через три года написала работу об Андрее Белом, бо́льшая часть отрывков из неё (много лет пролежав «в столе») была опубликована во время перестройки в Англии и Швеции, а в 1987-м была удостоена Золотой медали Шведской академии наук. Её вторая книга, «Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах» (в соавторстве с Е. М. Иссерлин), оказалась своевременнее и была опубликована в 1931 году в Ленгосиздате. Но третья книга – об И. С. Тургеневе – так и осталась неизданной.
С 1936 года она занималась современной советской и зарубежной литературой, в 1938-м начали выходить её первые статьи, однако вскоре наступает Великая Отечественная война и Блокада Ленинграда. В это страшное время Т. Ю. не покидает город, хотя и находится в списке писателей, подлежащих эвакуации. Но через Союз писателей она ходатайствует о том, чтобы остаться, так как боится оставить родителей без помощи.
После войны она несколько лет занималась переводами. С 1945 по 1955 год были опубликованы статьи о В. Каверине, М. Пришвине, Ю. Тынянове, вскоре выходит и книга «Творчество Михаила Пришвина» (1959). В то же время зачастили и переводы: рассказы Г. де Мопассана, статьи и фельетоны А. де Мюссе, эссе Ж. Санд и А. Франса, письма Ф. Шиллера… Но переводы для неё – лишь приработок, и когда её близкий друг, очень талантливая переводчица Эльга Линецкая, возвращается в пятидесятых из ссылки, Т. Ю. уступает ей своё место в секции переводчиков.
Начиная с шестидесятых она много времени отдаёт чтению лекций. В 1966 году выходит её книга «Голоса времени» (статьи о литературе, советской и зарубежной), в 1988-м – сборник статей «Вглубь характера» (о психологизме позднесоветской прозы). И наконец, в 2014-м (через пятнадцать лет после её кончины) издательство журнала «Звезда» выпускает книгу «Говорить друг с другом, как с собой», содержащую её переписку (1966–1970) с замечательным и большим ленинградским поэтом Г. С. Семёновым.
Но немалая часть книг и статей, написанных ею: об И. С. Тургеневе, о М. М. Зощенко, о поэзии Даниила Хармса и обэриутов, о В. А. Каверине и «Серапионовых братьях» – так и осталась неизданной.
III. Лекции и чудаки
С конца 50-х и почти до конца своих дней она читала лекции о целом ряде западных писателей (от Фолкнера до Фаулера), сохранивших верность идеям гуманизма. Их книги печатались (по частям) в журнале «Иностранная литература». Она ездила в самые разные библиотеки, от главных (Публичной и Академии наук) до маленьких, на закрытых[1] и открытых предприятиях города – не проповедуя, не убеждая, а просто рассказывая и объясняя слушателям произведения этих авторов, писавших, казалось бы, про чужаков – своим кротким, одновременно высоким и глуховатым голосом, на безупречном русском языке. Так многие и становились наслышанными о писателях из журнала «ИЛ» (заодно об их персонажах). А те, в свою очередь, становились популярными. У неё был свой круг слушателей: гуманитарии и учёные со свободным расписанием, сидевшие в библиотеках часами, а также и те из работников ИТР, кто днями и вечерами не выходил из своих институтов и КБ. Последних условно назовём высоколобыми блондинами, слегка сутуловатыми шатенами или проще – молодыми людьми с гитарами. Эти скромные глашатаи, начитавшись (с её слов) в первую очередь Сэлинджера, популяризировали журнал «ИЛ» в своей среде.
Прошли и пятидесятые, и первая половина шестидесятых, необходимость в этих лекциях отпадала, тема утрачивала актуальность, читатели сами вошли во вкус чтения её авторов, обходясь без разъяснений, но она находила и выискивала новые имена. Надо сказать, ей очень мало платили за лекции, а она всё равно любила их – кажется, больше неплохо оплачиваемой работы литкритика и эссеиста. Смеясь, она говорила: «Я человек поверхностный, много писать не успеваю», – ставя в пример себе старых знакомцев, Д. Е. Максимова и Л. Я. Гинзбург (действительно печатавшихся больше). Откуда была в ней эта непонятная любовь – но не только к писателям и читателям журналов, а и к людям, временем изувеченным? Ведь героями её авторов чаще всего бывали одинокие чудаки (пост-Диккенс!), ничем не похожие на суперменов, появившихся лет тридцать спустя.
Отчего она так часто вспоминала этих странных, чудаковатых и душевно колченогих («тронутых») современников, покалеченных не только «этим безумным миром», но и временем? В советской литературе (шестидесятых оттепельных и семидесятых мирного сосуществования) про таких ведь не писали. Да и какое ей, в сущности, было дело до иностранных писателей? Все свои книги, напечатанные и нет (кроме половины одной из первых), она посвятила совсем не им. Но если её интерес к гуманистически настроенным авторам журнала «ИЛ» был просто разделён широкой читательской публикой, то любовь ко всевозможным чудакам не раз бывала и взаимной: ведь таковые тянулись к ней, чувствуя защитницу и своего рода ходатая, даже адвоката.
Так, например, она считала, что сосед-алкоголик, дружно презираемый всей их вороньей слободкой, гораздо душевнее других соседей, более благополучных и адаптированных. Я не могу судить, была ли она (в этом конкретном случае) права. Не раз, пытаясь заговорить по-человечески с этим Антоном Горемыкой (его вообще-то звали Олегом Михайловичем), я терпела полное фиаско. Кажется, один раз он даже кинулся на меня с ножом, хотя и совершенно не всерьёз, однако будучи в крепком запое. За что, совсем уже не помню. Многие её друзья боялись идти на эксперимент общения с ним. А сама она была неизменно верна (но, конечно же, не ему, а всем им) вышеупомянутым – такое уж у неё было мировосприятие…
Да, она дружила и с Зощенко. Они познакомились перед его изгнанием из Союза писателей вместе с Ахматовой. А подружились, когда он был в опале и незадолго до его кончины. Она объясняла мне Зощенко, однако не как юмориста («Ирина, стыдитесь, разве вам в самом деле всего лишь смешно?»). Объясняла как большого (не просто советского, а классически русского, несмотря на характерный совсленг) писателя, продолжавшего традиции «Смеха и горя» Лескова и грибоедовского «Горя от ума». Михаил Михайлович нарочито не старался выправить безграмотную косноязычность своих персонажей, не тщился «олитературить» их, сделав приемлемо-приличными для читателей с образованием. И не потому, что принимал их такими, как есть, а тоскуя и болея о жестокости времени, его прокрустовом ложе и неправедном суде, превращавших людей в кого попало, иногда и в топорных, деревянно-оловянных солдатиков.
Как же мне рассказать о деле её жизни, если я тогда ещё и не могла представить себе всё это в полноте? А была ли сама она чудачкой? Может, и да; но в первую очередь она была очень трезвым, даже трезвомыслящим человеком. Да, ей были чем-то до́роги всевозможные чудаки. Но мне кажется, что именно в связи с этой её особенностью, также и послевоенная западная литература с её духом человечности, свободы, чувством локтя. И с заявкой на право каждого быть самим собой, в конце концов, и чудаком.
Фрагмент
«Из жизни ленинградской богемы»
II. Интермеццо мансарды и двора между упомянутыми садами
Попробую вернуться на миг в далёкий 1971 год, при этом в клинику неврозов на Васильевском, где я посещала (раза три, кажется) приятельницу, временно потерявшую почву под ногами из-за несчастной любви. У Маши (так её звали) ничего особенного врачи не нашли, поэтому поместили её в большую общую палату – не знаю, на сколько человек. Ей нравились мои стихи, и я читала их вслух (но с перерывами, негромко и понемногу). На выходе я столкнулась в дверях с коренастой и худощавой женщиной (лет под сорок на вид) в казённом халате, сером и застиранном; в левой руке она небрежно держала зажжённую болгарскую сигарету. Рука была очень приметна – скорее, мужская, но красивая, как бы выточенная из одного куска (но не воска, а дерева светлого тона). То есть я и не сталкивалась с ней, а натолкнулась на её взгляд в упор и невольно остановилась. Не отводя глаз, она представилась, протянув мне правую руку: «Ирина Чемоданова, литератор, будем знакомы. Сразу вас заметила, ведь вы в своём роде редкость». Я была немного ошеломлена, но протянутую руку пожала, сказав: «Очень приятно, Ирина Литвин». В дверях мы не задержались, и разговор не продолжился. Я спустилась в гардероб, подумав: «Да, конечно, здесь бывают чудачки и покруче».
А в свой следующий визит (дней через десять) я с недоумением убедилась, что вся палата хорошо меня знает, девушки и женщины разных лет улыбаются, говорят со мной запросто, называя кто Ирой, а кто даже Иришей. Я слегка вздрогнула и даже обиделась на мою Машу, но совершенно напрасно, она была тут ни при чём.
Дальше у меня лёгкий провал в памяти, хотя они мне и несвойственны (особенно же тогда, в двадцать с коротким хвостиком). Мне в общих чертах кажется, что я довольно долго не видела Ирину и ничего о ней не слышала.
Как и у других девушек, у меня бывали мимолётные знакомства, случались и вечеринки – в прежнем институтском и в новом (для меня) университетском общежитиях. Среди моих знакомцев был итальянец Лео Сфорцини, он мне нравился; кстати, его соотечественники были в моде в городе. Роман наш оборвался в самом начале, на первых же поцелуях, но мы успели побывать на фестивале старых французских фильмов (в частности, на «Детях райка» Марселя Карне). И ещё успели по одному разу побывать у друзей: сначала у моих (общежитских), а потом у его знакомых на Ковенском. Как и везде тогда, было шумно и людно, пили вино и громко разговаривали, но не танцевали (а в общежитиях умудрялись курить и танцевать где угодно – в коридоре и даже в простенках между шкафами). Я спросила у Лео, кто хозяйка этого дома, он показал, и я узнала Ирину. Как только наши глаза встретились, она подошла, обняла как старую знакомую и представила всем: «Знакомьтесь, это Ирина Литвин, она пишет хорошие стихи».
Пока никакого провала в памяти ещё не было, но теперь пришло его время. Я абсолютно не помню, как происходило моё сближение с ней, оно шло на фоне поначалу коротких, но запоминающихся разговоров. И главным образом через Светку, которая была (примерно) моей ровесницей. Та умела быть и приветливо обаятельной, как киноактриса, и скрытно неприступной («Что вам угодно?»). Она попала к Ирине в качестве машинистки – после неудачной попытки самоубийства. Банальная для того времени история – роман с афро-арабским шейхом, обещавшим жениться и сделавшим ей ребёнка, которому не суждено было родиться на свет, так как шейх внезапно испарился и как ни в чём не бывало уехал в Африку (адреса не оставив). Постепенно беседы с Ириной становились длиннее и откровеннее, собственно говоря, это были её рассказы – то об одном, то о другом. О довоенной семье и детстве (её растила бабушка из рода Нелидовых, возможно, что и из потомков императора Павла. А её мама, тоже писательница, находилась тем временем в ссылке в Магадане). И о беспризорщине во время войны – детей вывезли из города перед объявлением Блокады, а поезд, на котором была восьмилетняя Ира, разбомбили. Дети рассыпались, как горох, кто куда; это было в средней России и далеко от дома. Да, конечно, у Ирины были аристократические руки (без маникюра, но всё равно обращали на себя внимание). Однако её вполне литературная речь была разбавлена изощрённым матом, это осталось с тех самых пор.
Квартира была большой коммуналкой, но она умудрилась проживать там «отдельно в маленькой семье», состоявшей из двух комнат, Светки и трёхногой полубульдожки Рикки, которую Ирина извлекла из-под машины, доставила в ветеринарную клинику, а недели через две взяла к себе.
Медленно и с трудом познавала я всю необычность места, в которое попала. На вид это были самые невзрачные и обшарпанные комнаты. Но по мере осознания они превращались в нечто похожее на пещеру Али-Бабы. Заходившие туда ненадолго незнакомцы и незнакомки приносили и оставляли еду (от невкусных батонов с колбасой или сарделькой до жареных кур пополам с копчёными сигами), а также самые разные вещи, которые потом раздавались другим. Постепенно меня стали звать и на вечера, бывавшие примерно раз в две недели. Посетителей на них было б немного – один-два литературных критика с именем и кто-нибудь из писателей, временно попавший в немилость (например, А. Битов), – если бы они не приводили с собой знакомых. Откуда-то брались старинные фарфоровые, но также и простые чашки с блюдцами, хрустальные рюмки и стеклянные стаканы, к чаю всегда были пирожные и сухое грузинское вино, а общий разговор носил самый оживлённый характер. Помнится, на дворе был 1973 год, в журнале «Новый мир» недавно появились первые статьи о «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова, а за столом восседала худая и седая, несколько вертлявая дама, автор этих самых статей. Бывала иногда и Тамара Юрьевна – к моему удивлению, она меня узнавала и приветливо кивала, входя. Бывали и другие люди, очень разные, но «кто из них кто», я так и не разобралась в силу непринадлежности к литературному миру тех лет.
В частности, там впервые промелькнула передо мной и Нелли Орехова, чем-то очень расстроенная. Она курила на холодной лестничной площадке, набросив, а не надев зимнее пальто стандартного пошива с сереньким недорогим воротником. Казалось, она вот-вот разрыдается, большие голубые глаза были полны слёз и буквально прыгали от обиды, да и губы тоже – но только слегка и реже. Я так и не узнала впоследствии, кто же и чем обидел её. Она меня в тот вечер не заметила, а годы спустя решительно ничего не могла припомнить.
Ирина ни разу не просила меня читать на этих вечерах, но время от времени передавала машинописные листки с моими стихами кому-нибудь из посетителей со словами: «Вот это – настоящее!»
А дальше пошли настоящие фантасмагории, одна другой невероятней. Так, например, запросто иногда заходившая к ним важная немолодая дама, высокая и не лишённая привлекательности (с обилием колец на пальцах), оказалась родной сестрой поэтессы Ольги Берггольц, Марией Фёдоровной. И как-то заодно выяснилось, что Ирина несколько лет (ещё совсем недавно!) была секретарём и другом Ольги Фёдоровны.
Вот и ещё один фантастический пример: я еду в Москву, командировка, видимо, будет лёгкой (зайти в два места – что-то передать), останется время на знакомство с окрестностями. Ирина просит меня заглянуть в Третьяковку и обратить внимание на парсуну боярина Чемоданова, одного из её родовых предков. А заодно даёт мне записку к известному московскому экскурсоводу (по бывшим поместьям невдалеке от столицы). Пожалуй, на этом пора остановиться, не перегружая читателя чересчур разнородными, к тому же и маловероятными впечатлениями.
III. Визит в редакцию
…Постепенно я привыкла к этим двум комнатам, в которых обшарпанность сочеталась с пещерой Али-Бабы. (А кто знает, как на самом деле выглядела та изнутри? Может, сверкание сокровищ сочеталось там с заплесневелой чернотой сводов и закоулков.) Искренне привязавшись ко всем трём обитательницам жилища, я иной раз даже оставалась там ночевать, как совсем недавно – в общежитской скученности, на случайно свободной койке. Хотя мне и не случалось быть так бесприютно одинокой, как герою «Лестницы» талантливейшего А. Н. Житинского, но его кочующий образ жизни был кое в чём сходен со студенческим моим. Ночлег на Ковенском был не лучше и не хуже других, но больше запомнился. Комнаты были смежные, в задней была спальня, а на входе из коридора в большую комнату был простенок, отделённый портьерой. Там находились три предмета: гардеробная вешалка (громоздкая и обветшалая), диван и стул. Ложе приходилось поневоле иногда делить с Рикки, вначале я бурно протестовала, но потом научилась так заворачиваться в одеяло, что она не очень мешала спать. Не знаю, кто из нас при этом обходился с другой бесцеремонней, я или она. Кажется, ей приходилось труднее, так как она забиралась с краю, тесня меня к стенке. Вообще не понимаю, за что меня любили собаки: у меня ни одной своей в жизни не было. Впрочем, Рикки любила всех, кто не отшвыривал её, а только отпихивал, тузил и ворчал, ведь ласковость и доверчивость были у неё врождёнными, как и бесцеремонность.
Хозяйки дома вскоре со мной освоились, выразилось это в том, что Ирина стала изредка давать мне ответственные поручения, а Светка посылала за продуктами в магазин; о её заданьях сказать мне нечего, но об иных Ирининых – другое дело. Первое я получила в конце года нашего приятельства, ещё одно – намного позже.
Круг знакомств и родства Ирины был довольно широким. В частности, Ирина Александровна, жена поэта Всеволода Рождественского (бывшего акмеиста и ученика Н. Гумилёва), приходилась ей тёткой по линии Нелидовых, если не ошибаюсь. Ирина ценила мои стихи и решила, что должна проводить их (вместе со мной) в редакцию журнала «Нева». Для этого она специально договорилась с женой Всеволода Александровича по телефону, потратив на это полчаса. С ним самим она давно не разговаривала, считая чинушей и ретроградом.
Итак, «мне было назначено», и я появилась в его приёмной[2] в час дня. За письменным столом восседал человек в высшей степени почтенной и благородной наружности, лет семидесяти пяти. Два слова о том, что представляла собой внешне я сама. В двадцать пять я выглядела двадцатилетней, на мне были болгарская дублёнка, привезённая отцом той осенью (впоследствии их стало очень много, но тогда была редкостью), и пушистая шапочка с выбившейся на лоб чёлкой. Очки я носила только на работе, дома и в сумке – так что их просто как бы не было. Боюсь, что я произвела на него не совсем взрослое впечатление. Всеволод Александрович был инструктирован супругой, поэтому изучал мои вирши долго, минут двенадцать. Затем он вздохнул, слегка откашлялся и обратился ко мне с не самой краткой (для него в подобном случае) речью: «Вы человек, безусловно, способный, вот тут у вас (тычет пальцем) хорошо, да и тут вот (ещё раз тыкает…), и далее в том же духе. Но зачем вам искать свою тропинку в поэзии, идти непроторённым путём? Вы достаточно владеете стихом, чтобы начать выход на шоссе советской поэзии. Прошу вас понять это и самостоятельно исправить… именно в этом духе. И тогда я охотно поспособствую их публикации в журнале “Юность”. Так как в “Неву” вам, пожалуй, обращаться пока что рано».
Сама не понимаю (даже и до сих пор), почему я ждала от него каких-то других слов. Нет, не похвал; я, наоборот, боялась упрёков в неточности рифм и необоснованности метафор. А других – просто в память моих любимых Гумилёва и Мандельштама. Ведь мне казалось, что он может сказать мне словечко от их лица, как это вышло в Комарове с Анной Андреевной. Поэтому я растерянно молчала и не сразу встала, чтобы уйти. Видимо, Всеволод Александрович подумал, что я жду от него чего-то ещё. Он понял меня на свой лад (мало ли девочек шляется в редакцию, предварительно заявив о своём визите телефонным звонком от разок кутнувшей с ними персоны) – и предложил мне поужинать с ним завтра вечером в ресторане.
Тут я встала, поблагодарила за внимание, вежливо откланялась и ушла. Как-никак он был бывшим акмеистом, отшивать его всё же не следовало. Но если бы дело этим и кончилось! Нет, конец этой сценки предстоял мне в парадной напротив кинотеатра «Баррикада» на Герцена (Большой Морской). Я зашла туда на две минуты в состоянии полной растерянности, остановилась лицом к окну на втором этаже и закурила сигарету, положив перчатки на подоконник… И вдруг совсем неожиданно разрыдалась. Продолжалось это недолго, а придя в себя, я поскорей убежала оттуда, чтобы это не могло повториться. Так закончилось моё посещение журнала «по знакомству».
Реакция Ирины была бурной, но предсказуемой. Конечно, она ругала свойственника последними словами. Но дала понять, что так обычно ведь и бывает. Она иной раз называла меня лопушком[3], но как-то по-доброму.
Фрагмент
«Хмельницкая и сад Тамары»
(продолжение)
IV. О краеугольном камне её трудов и лекций
Хмельницкая, как и все старые интеллигенты, надеялась (наивно, наверное) на возобновление настоящей великой русской литературы через посредство западноевропейской (и американской, латиноамериканской, etc., которые на стыке двух последних истекших веков «много взяли у неё взаймы»). Им казалось, что наступает пора возврата долгов; когда, вернув на русскую почву человечность и гражданство мира, о которых писал Ф. М. Достоевский, молодые писатели обретут высокий статус, вернут многоименитую славу российской словесности…
На самом деле всё обстояло сложнее – и не только оттого, что шестидесятые были коротки, как бы отправлены за штат. Не стану писать об этом «долго и всерьёз», но дело было также в том, что гуманистической культуры (и просто человеческой, с образом-подобием Божиим) на само́м Западе было уж на донышке. Тогдашнее возобновляемое окно в Европу приоткрылось – но оказалось зеркальным с обеих сторон. Обращённая к нам сторона отразила пустое, как и прежде, металлически белое, клубящееся европейское небо – всё того же XX века. Оттуда ещё сильнее прежнего (XVIII и XIX века́) пахну́ло на нас трёхмерной буржуазностью с характерными для неё примесями: нигилизма, деловых и деловитых игр – в бизнес, секс, нуклеарную семью, etc. И ничем иным более.
Но этой прекрасной иллюзии моё поколение было обязано многим… А в частных случаях, упоминаемых здесь, тем её отношением к нам, которое удивляло на первых порах так, что трудно было поверить.
Теперь я должна перейти к значительно менее проявленной[4] части дела её жизни. К тому же не одной Тамары Юрьевны, а всего редеющего ряда её друзей. Их общей затаённой любовью оставался переходный период между классической русской литературой и революцией. Или период конца и первого тридцатилетия двух истекших веков. Но если условиться считать конец XIX и начало XX первой и второй третью этого недолгого времени (обе принято называть Серебряным веком[5]), то ведь имелась и завершающая треть, раздвоившаяся на советскую и эмигрантскую. В двадцатых годах XX века известные писатели и поэты довольно-таки прерывисто курсировали между советской Россией и Европой, то уезжая, то возвращаясь. Исключением из правила не стал ни «большевик» Максим Горький, ни «граф» Алексей Толстой (красный, в отличие от великого и зеркального Льва Николаевича[6]). В конце двадцатых и в начале тридцатых часть писателей-эмигрантов (в том числе Андрей Белый) вернулись в СССР, а другие опоздали.
Далее идёт мой краткий пересказ некоторых мыслей Тамары Юрьевны с вкраплениями её запомнившихся реплик. «Нужно признать, что этот “третий акт”[7] оказался судьбоносно трагическим – как для ряда писательских имён, так и для отечественной литературы…»[8] Не станем писать здесь о тех, кто нашёл дорогу к советскому, а затем и к российскому читателю, невзирая на множество препон, эти имена всем известны. «В качестве примера обделения и обеднения нашей литературы назову лишь два имени: Нину Берберову и Бориса Поплавского (или просто мельком упомяну их) – им как-то особенно не повезло. Начну с Берберовой. Её великолепно написанная и трепетно проникновенная (пусть и приправленная чёрным юмором с солью, которая по-другому именуется боль) проза “Биянкурские рассказы” заслуживает стоять на книжной полке рядом с “Летом Господним” Ивана Шмелёва».
Но Нина Берберова принадлежала к эмигрантской молодёжи, не успевшей обрести популярность в России, к тому же она была женой известнейшего поэта Владислава Ходасевича, обладавшего нелёгким характером. И вышло так, что на этот сборник (такой единый, что его можно счесть романом, составленным из рассказов)[9] дружно набросились эмигрантские писатели-классики, включая А. И. Куприна. «Причина – необычный язык, которым написана книга, язык сказа, но не фольклорного, а разговорно-сленгового; главным персонажем является рассказчик, а говорит он на том русском, который характерен для его героев. Эта сленговая примесь была не так заметна на слух, но оказалась броской в печати». Герои книги – юнкера и курсанты (вроде Николки Турбина), младшие офицеры, которых крымская волна выбросила из России вместе с армией Деникина. Большинство не успели окончить высшие учебные заведения, их понизили, списали; так они стали рабочими на заводе «Рено» под Парижем. «Ни одной равноценной книги (кроме ещё нескольких небольших повестей) Н. Берберова не написала. Эмигранты-классики стреножили её, как норовистую скаковую лошадь». Её романы из серии «ЖЗЛ» и воспоминания о Максиме Горьком (включая «Железную женщину»), написанные позже, да и личные воспоминания «Курсив мой» по мастерству и красочности пера ни в какое сравнение с «Биянкурскими рассказами» идти не могут.
Ещё сильней не повезло Борису Поплавскому, «чей дар поначалу сравнивали с огромным талантом В. Ходасевича, даже с гением Бориса Пастернака. Но ему выпало совсем иное – раннее самоубийство». Его печатные сборники (за исключением «Флагов» и немногих отдельных стихотворений) остались едва известны русскому читателю. Его поэзия по истокам близка к позднейшей классике: к Н. Гумилёву, Г. Ива́нову, относительно раннему О. Мандельштаму (до 30-х годов), но затем в ней стали преобладать черты эмигрантского романса и раннего шансона (вспомним, что первым шансонье на Западе считался А. Вертинский, который был старше него, но вначале на одной волне с ним).
«Однако лирика Б. Поплавского по настрою темнее, пессимистичнее и прозападнее. С юности он впитал в себя декаданс и струю французского постромантизма (идущую не от В. Гюго, А. де Мюссе и Э. де Ростана, а от поздних романтиков – Ш. Бодлера, А. Рембо… и вплоть до первой послевоенной волны[10]).
А потом была вторая, ещё более страшная война, до которой он и не дожил».
«К сожалению, современная поэтесса Елена Шварц глубоко неправа, утверждая, что в начале XX века гении как сорняки росли. Нет, во все времена они нуждались в бережном выращивании. Б. Поплавского не вырастили, был сам по себе и впоследствии внезапно впал в мрачноватую мелодекламацию (“В небе розы реют”)».
Добавлю от себя, что его проза «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» могла бы прийтись по вкусу российским олигархам девяностых, но те читать не любили, предпочитая «делать дела». Тамара Юрьевна продолжала: «Да, но и великая поэтесса Марина Цветаева дошла до нас почти случайно, она вернулась в СССР вслед за дочерью Ариадной, против собственной воли и воли сына Георгия. В Москве из поэтов её поддержали только Борис Пастернак и три-четыре молодых – Арсений Тарковский и поэты близкого к нему круга (известные нам в качестве фронтовых; иные из них не вернулись в 1945 г.). Благодаря присущей (именно и только им) ответственности перед отечественной литературой мы и имеем М. Цветаеву».
Казалось бы, какое отношение имеет эта краткая вставка о писателях-эмигрантах к рассказу о самой Тамаре Юрьевне? Напротив, в своё время она была ученицей тех профессоров, которые считаются основателями школ конструктивизма и формализма. Они жили и мирно скончались в СССР, однако был и Роман Якобсон, основатель наследовавшего этим течениям структурализма, который жил не в СССР, а в США. Дело в том, что годы окончания Т. Ю. аспирантуры в ЛИИИСКе (конец 20-х, преддверие 30-х) совпали с переломным моментом, когда СССР закрывал свои границы. Те, кто смог вернуться, остались в России; а иные из тех, кто не вернулся, остались в относительной безвестности надолго, если не навсегда. Их имена живут лишь в относительно узком кругу литкритиков и литературоведов.
Тамара Юрьевна и тогда обладала даром общения, но трудно представить, с кем могла бы она переписываться в те годы. Не исключено, что её литературный круг был не так уж и узок. Впоследствии кому-то из её знакомцев предстояло физически исчезнуть, а кому-то таиться, не предпринимая попыток печататься до конца тридцатых. Всё же можно сказать с уверенностью, что она не входила в оба круга – Михаила Кузмина и Анны Ахматовой, живших в том же районе, наподалёку от Литейного проспекта. С Анной Андреевной она познакомилась после войны, но с людьми, знавшими в своё время и А. Белого, и Н. Гумилёва, и М. Кузмина, всё же знакома была. Однако впоследствии глухо молчала об этом, так как в тридцатых её неоднократно вызывали из-за них в Большой Дом. Судя по выпискам из дневника её мужа, оба они были ближе знакомы с «малыми обэриутами», возможно, из кружка К. Вагинова. И даже с так называемыми уличными поэтами тех лет – примером последних может служить Алик Ривин.
Но ей всегда была близка тема великой русской литературы – и внутри страны, и в эмиграции. Этим, по всей вероятности, объяснялся её пристальный интерес к творчеству И. С. Тургенева, жившего по большей части во Франции. Жаль, что нет возможности взглянуть на страницы её книги о нём, да и на рукопись её статьи о Данииле Хармсе (и других обэриутах); к сожалению, они пока недоступны.
Автору хотелось бы прибегнуть к одной несколько спорной гипотезе, нуждающейся в подтверждении. Главным для Хмельницкой всегда являлась гармония, она всем своим существом стремилась к скромной, незаметной и притом естественной гармонизации окружавшего её мира. Подобное восприятие строится на нахождении ряда тонких взаимосвязей между явлениями, порой имеющими не так уж и много общего между собой.
Ей, знатоку русской литературы XIX–XX веков, не могло не бросаться в глаза, что ряд оборванных революцией литературных связей стремился на протяжении лет как бы вновь выстроиться в устойчивые цепочки. Но только совсем по-другому, с учётом изменившихся парадигм власти и сопутствующих обстоятельств. К семидесятым годам эти связующие цепочки были фактически выстроены реконструктивно. Но им (почему-то) не хватило простора и сил для дальнейшего роста. Кроме того, была резко прервана (оборвана?) акмеистическая линия, идущая от Н. Гумилёва и О. Мандельштама (до тридцатых годов), которая обещала дать намного больше. «Широко известными последователями этой линии в шестидесятых остались Анна Ахматова и Самуил Маршак (последний – через Елизавету Дмитриеву-Васильеву[11], в юности привившую ему основы стихосложения и введшую в советскую детскую поэзию. Сама она возникла как поэт под влиянием двух родственных школ[12] – М. Волошина и Н. Гумилёва)».
Отсутствие простора и перспектив роста грозило ущербностью, это хорошо понимали Тамара Юрьевна и её собратья по перу: Д. Е. Максимов, Л. Я. Гинзбург. В конечном счёте всех их интересовала не зарубежная и даже не эмигрантская литература. А та большая (более того, великая) русская литература, которая в двадцатых годах XX века взяла да и разделилась на рукава, подобно дельте реки Невы на входе в Финский залив. Напоследок должна добавить к сказанному о ней, что со мной она могла говорить о Н. Берберовой и Б. Поплавском, как о примерах обеднения русской литературы. А с кем-то другим – о совсем иных именах, в частности А. Платонове, Е. Замятине, Б. Пильняке… и ещё о многих. Она была «ходячей энциклопедией» русской литературы XX века и глубоким её знатоком века XIX.
V. Автор (в свою очередь) знакомит читателя с Тамарой Юрьевной
Её речь с выделенными репликами
…Да, её речь была старомодно учтивой, но её взгляд на упомянутых выше «подзащитных» был лишён той сентиментальной виноватости, которую (к сожалению, надолго) ввели в русскую литературу шестидесятники XIX века. Напротив, осмелюсь утверждать, что её речи, при всей мягкости и бережности, была присуща саркастическая вежливость (т. е. в какой-то мере острая, не без соли).
Кроме того, ей была свойственна совершенно вневозрастная живость реакции. Точность речи не исключала ни противоречивости оценок, ни их полнейшей естественности. Вот одно из её высказываний мимоходом – о известной тогда писательнице В. Ф. Пановой: «Она была человек мягкий, но душевно грубый, недоверчивый».
Однажды в 50-х, ещё при И. В. Сталине, Т. Ю. не побоялась уйти с выборов писательской секции после высокомерного высказывания Пановой о критиках. «Мне здесь делать нечего», – сказала и вышла. Она вступилась не за себя, а по собственному её выражению, «за корпорацию». На следующий же день Панова прислала извинения через своего мужа, Давида Яковлевича Дара. Этот незаурядный человек вырастил и «оперил» многих молодых тогда (по сути дела, а не по рангу) ленинградских поэтов и прозаиков. После этого случая Давид Яковлевич и Тамара Юрьевна стали друзьями.
Нас (или её собеседников помоложе) просто зачаровывали её голос и дикция, нам самим уже ни в коей мере не присущие. Старинное «э» вместо «е» (но отнюдь не всегда, а как полагалось в те «бывшие» времена, когда она училась)… Это была речь петербурженки, а не ленинградки, хотя бо́льшую часть жизни и главные её события Т. Ю. довелось пережить в Ленинграде. Если бы не старинность речи и не явность её лет, нам бы казалось, что её разговор[13] отличается скорей уж не важностью, а живостью… Да, это был именно лёгкий, но и «осторожный разговор»[14].
Перехожу к её репликам – выборочно, как запомнилось. И как подсказывает запись её голоса на магнитофон, смонтированная Алексеем и Галиной Любегиными. Как жаль, однако – что-то осталось, запомнилось, а многое исчезло…
«…Злоба дня уходит, и является голод по вечности, а настоящее искусство – это скрещение современного и вечного».
…Да, не скрою, она привила мне (и далеко не мне одной) это странное чувство тоски по вечному и просторному миру, которого мы толком и не знаем, это детское желание перейти через линию горизонта…
«…Читаю “Дневники” Бунина. Бросается в глаза, что главное испытываемое им чувство – то, что он больше уж ничего не напишет, что всё позади, всё ушло вместе с той Россией. Боязнь того, что ты сделаешь хуже, что ты деградируешь, – это свойство всякого художника. Искусство – область болезненно честолюбивая. Художник мучается, что уже не может или что его не поняли, недооценили, и в этом нет смирения. Казалось бы, люди, не пишущие пером или красками, с возрастом должны смиряться и начинать воспринимать жизнь, как она есть, с благодарностью и естественностью. Но у них то же самое переходит на детей, у них чувство, что те за них должны что-то успеть. Возникает всё та же честолюбивая боль, но уже за детей…»
«…Интеллект – это не только рассуждения, это прежде всего интуиция». Т. Ю. не раз говорила мне: «То, что человек пишет, – это свыше, но необходимо самой понимать написанное, хотя бы на интуитивном уровне, а потом непременно стараться перейти на разумный. Вам это нелегко, но поймите, что не вам одной, это трудно всегда…»
Об известном литкритике Лидии Яковлевне Гинзбург, которую она «при всём при том» высоко ценила: «У неё одно рацио, одно рассуждение, всегда безошибочное; а сердце иногда и ошибается». И тут же следовал острый (но с отрешённо уважительным отношением) пересказ высказывания домработницы Нюши, которая нашла пропавшее махровое полотенце и принесла Лидии Яковлевне. А та сказала: «Как хорошо, что вы его нашли, я уж начала сердиться». Нюша в ответ: «Это Вы-то – сердиться? Да у Вас и сердца нет – а значит, сердиться Вы не можете».
Тамара Юрьевна искренне восхищалась писательской честностью Лидии Яковлевны, которая (тоже высоко ценя точное, острое словцо) ввела этот эпизод в свои воспоминания. Анекдот этот не был злословием со стороны Т. Ю., так как она считала, что сплетни – всё равно что донос. Да так оно фактически и было во времена их молодости. Она понимала и ценила, что писатель возобладал над человеком, не пощадил себя. И тем не менее искренно забавлялась острым словцом Нюши: «Она своим утробным чутьём попала в самую точку».
VI. Немного о ней самой
Возвращаюсь к своему рассказу о ней. Тамара Юрьевна жила на Загородном, в доме 21, кв. 41. Как удивительно было это сочетание цифр: «двадцать первое июня, сорок первый год…», последний день накануне войны, ещё по-прежнему беспечный. Ведь в войну она потеряла всех близких – родителей и мужа, пропавшего без вести, а самой ей довелось пережить Блокаду.
Похоронив мать и получив похоронку, она тоже собралась умереть – тихо, отрешённо и безразлично. Неожиданный звонок из Союза писателей привёл её в общежитие санаторного типа (на Петроградской) для пострадавших от голода, которое просуществовало недолго, но спасло несколько жизней. Там она оставалась до 1944 года, там подружилась с переводчицей «Дон Жуана» Дж. Г. Байрона Татьяной Гнедич.
После войны она осталась одна в сорок лет с небольшим. Всё пришлось начинать заново, но она была неспособна «жить сначала». Правда, были работа и друзья, был уже некоторый успех, её печатали в предвоенные годы (как исключение, без них правил и не бывает). Немногочисленные собратья по перу (сколь удивительно безошибочно чувствовали они тогда друг друга!) сразу оценили её как критика и «веда». В тридцатых же её долго не печатали, она служила секретарём в библиотеке Академии художеств. По странному совпадению одной из её коллег (кажется, там было три секретарши) была моя будущая мама, но они почти не были знакомы. Маму (студентку консерватории по классу вокала, недавно приехавшую из провинции) интересовала только музыка, а Тамару Юрьевну литература. Однако кое-что ещё в их жизни совпадало: Т. Ю. в те годы много позировала мужу, а мама подрабатывала как натурщица и фотомодель.
Талантливый художник Иван Петровский (муж Тамары Юрьевны) был человеком своеобразным, своего рода однодумом[15]. В предвоенные годы он вёл дневник, сохранить который не удалось, но она читала мне вслух свои выписки из него. Эти отрывки отличались угловато афористической прямотой мысли, поразительной на фоне тогдашнего (иезуитски лжепокаянного) тона пишущей братии. Они имели нечто общее с прозой Хармса и вполне могли бы войти в литературную летопись тех лет. Иван Алексеевич был близко знаком с юродивым поэтом Аликом Ривиным, написавшим в 1936 году стихи со строкой: «Вот придёт война большая», надолго оставшейся в устном ленинградском фольклоре.
Петровский погиб на фронте в возрасте тридцати семи лет, оставив немало картин, которые пропали бы без вести, как и он сам, если б не верность Тамары Юрьевны, сохранившей их и на стенах комнаты, и «в запа́снике» (или попросту в кладовке). Я не знаток современной живописи, городской пейзаж и портрет 30-х годов говорят мне не так уж много. Но я понимала, что картины неотъемлемы от неё и атмосферы дома. Они столько рассказывали о Тамаре тех лет (как он видел её, как она была любима). С удивительной живостью и тонкостью были переданы выражение и очерк её глаз, её мимолётные (юные тогда) движенья… Да и некий ангельский ореол, исходивший от её горбоносого и нежного, окружённого лёгким блеском светлых волос, отнюдь не типажно красивого, но удивительно милого лица.
Бо́льшую часть своей жизни Тамара Юрьевна провела в коммуналке на Загородном. Когда-то это была квартира её семьи, а потом вселили соседей и бывшим хозяевам оставили комнату. Она к этому привыкла со временем, но так и не смогла смириться с условными звукопроницаемыми перегородками, пристроенными для разделения семей (что превращало большие питерские квартиры в грязные запущенные закулисья или же в помещения дачного типа).
Она говорила, что коммунальщина и порождала доносы: соседи всё время что-то слышали сквозь тонкие стены из чужих комнат, но недослышивали, не понимали. И тут начинали работать фантазии, домыслы, никак не творческие, а находившиеся в соответствии со стереотипами доносов (на «освобождённую жилплощадь» в первую очередь могли претендовать соседи). Рассказов о коммуналке № 41, одновременно страшных и смешных, у неё было множество. Кажется, жизнь в этой квартире в немалой мере отразилась и на её ощущении времени как второго пространства (или как пространства временного, с тонкими коммунальными перегородками). Вот ещё одно её высказывание – о старости: «Ощущение, что меня выписали, у человека есть также и квартира возраста. Вот пришла старость, а прежний возраст не хочет уходить и прячется по углам, как непрописанный».
По-видимому, дело было не только в возрасте. Это чувство частичной непрописанности (неприкаянности) было в Ленинграде присуще многим петербуржцам, чьё детство прошло до революции. Именно это заставляло их чувствовать себя прежде времени постаревшими, но они не «давались» (и не сдавали раньше времени).
Немало было (и есть ещё) у неё друзей; люди помнят, как гостеприимна она была. Нет, не потому, что из-за стойкого и упрямого уважения к памяти близких она не рассталась с родительской мебелью. На приведение её в порядок денег не хватало, но она продолжала держаться за эти (впрочем, привлекательные, опрятные) обломки кораблекрушения.
Нет, дело было далеко не только в этом. Попав в эту комнату, сев за стол, накрытый к чаю (скорей, уж по-английски плотному, с бутербродами, консервами и пирожными), крепкому и свежезаваренному, приглашённый вдруг ощущал себя гостем с большой буквы, оказывался в атмосфере старинной питерской квартиры, со всем тем, что явно и неявно в ней присутствовало. В числе прочего – давно исчезнувшие в ломбарде фарфор и серебро; а явно – множество не всем доступных книг и то учтивое, мягкое вежество, которое не имеет ничего общего с холодной, полуофициальной вежливостью. Оно легко сочеталось с тёплым и живым гостеприимством, исстари присущим интеллигентскому кругу (и дому как таковому). Дружелюбие без тени высокомерья, «без чинов»; в этой атмосфере каждый из нас оттаивал, как замёрзшая птица в «Дюймовочке», и начинал живо, весело чирикать. Но при этом (говорю о себе, не о других) я не переставала чувствовать себя немного «на отлёте, на краешке стула», хотя и понимала, что она любит меня, и знала, как обижается, когда мои визиты становятся реже.
Должна отметить ещё одну её особенность общения (думаю, что далеко не со мной одной). У Тамары Юрьевны имелся большой запас историй из своей жизни – коротких устных рассказов. Обычно она начинала разговор с одного из них, заряжая собеседника своей открытостью и тем почти неуловимым, лёгким и колким юмором, который был присущ ей как рассказчице. Но стоило гостю оттаять и разговориться, как интерес сосредоточивался на нём самом, на его стихах или прозаических отрывках, на его разговоре о себе. И если её всерьёз интересовало то, чем он занимался (а его – её мнение об этом), то чтения и разборы продолжались чуть ли не за полночь, так что он едва успевал попасть в метро до закрытия. А когда оба они уставали, хотелось сделать перерыв, на столе сразу же появлялся вместительный чайник, и на несколько минут возникал лёгкий разговор про общих знакомых.
Именно так мы с Нелли Ореховой и познакомились заочно (то есть почти), намного раньше, чем реально подружились. Вернее, теперь мне кажется, что именно так мы с ней в конце-то концов подружились на самом деле. Разумеется, я не смогу ни перечислить, ни пересказать все эти Тамарины рассказы (а очень жаль!) – в частности, о её дружбах военных лет (с переводчицей Татьяной Гнедич, с популярной в Москве 70-х годов писательницей Е. Грековой и её мужем генералом (военкомом?) Венцелем…). Или о круге друзей Ивана Петровского, или же, на худой конец, о её подзащитных – впоследствии ограничусь очень немногим из всего этого.
К сожалению, мне приходится прервать рассказ о «саде Тамары», так как пора переходить к другим героям и персонажам повести-эссе. Ведь, говоря о развитии событий (как бы скромны они ни были), надо придерживаться и хронологического порядка…
Фрагмент
«Кабинет с садовым балконом»
I. Зелёный балкон
«Но как это?» – раздастся возглас его маститых учеников. Ведь никакого балкона у него и не было. Они с женой жили на четвёртом этаже, выше Тамары Юрьевны (но уже на Петроградской), в трёхкомнатной квартире переходного типа, между сталинками и хрущёвками-брежневками. Но я собираюсь говорить не о квартире с балконом, а совсем о другом; упомяну лишь, что мебель там была в отличном состоянии и выглядела антикварно. Домашний круг общения у него был у́же, чем у Тамары Юрьевны, он включал лишь коллег, учеников и двух-трёх соседей по дому. Из большого «сада Тамары» он звал к себе кого-то иногда, в том числе Нелли Орехову и меня. Быть званой к нему и означало попасть в узкий избранный круг. Но этого всё же маловато для объяснения словосочетания «садовый балкон».
Дело в том, что Дмитрий Евгеньевич был не только известным университетским профессором (филологом и литкритиком), но и прекрасным, хотя никак не парковым, садовником. Он растил (даже и вырастил) учеников, иные из которых впоследствии обрели известность. Всех мне не перечислить, назову критика Долгополова, написавшего книгу об Андрее Белом, поэта Виктора Кривулина, защитившего у Д. Е. Максимова университетский диплом по Иннокентию Анненскому, поэтессу Елену Шварц, по неясным причинам сбежавшую с русского отделения филфака (и перешедшую в театральный институт, на факультет киноведения), и поэта Сергея Стратановского, с которыми я была знакома. Но круг его учеников был значительно шире.
Это по поводу названия фрагмента, так как садовый балкон – крайне ограниченное пространство для выращивания всевозможных кустарниковых насаждений. В данном же случае тех, с кем нужно было как следует повозиться, или тех, кто был несколько оторван от земли. Этот невидимый балкон был его личным экспериментальным участком. Если же говорить о критическо-профессорском поприще Дмитрия Евгеньевича, то место для него могло скорее б найтись чуть ли не в Михайловском саду. Его книги издавались большими тиражами, с ним в высшей степени считались коллеги (в том числе из Тартуского университета), среди его давних друзей был и академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв…
Но пора переходить к общению, уклоняясь от общих замечаний и слов. Должна оговориться, что ввожу Дмитрия Евгеньевича в повесть-эссе преждевременно (знакомство с ним предстояло мне после переезда Тамары Юрьевны на Петроградскую), но некая зацепка в памяти заставляет меня сделать это. Так как впервые он запомнился мне на лекциях и блоковских семинарах в ЛГУ, а остальные действующие лица появились позже.
Познакомившись с Дмитрием Евгеньевичем (и несколько с ним освоившись), я узнала, что он имел склонность к спору – бескомпромиссному, даже язвительному. В этой области он был магистром фехтовального клинка, но только с истинными противниками, равными по мастерству. Я же отделывалась лёгкими ученическими туше, сразу испуганно сообщая, что «задета» в темпераментном словесном поединке. Вообще говоря, он был человеком сложнейшим: сдержанность, учтивость и доброжелательность уживались в нём со страстностью – кажется, почти во всём. Вместе с тем, он не столько жил, сколько обитал и присутствовал в своей эпохе (впрочем, довольно спокойно и комфортабельно). А на самом деле являлся живым воплощением человека-перекрёстка. В нём и пересекались, и как-то сотрудничали весьма разные культурные линии, иной раз довольно спорные и неуживчивые. Первая из них – немецкий романтизм школы «бури и натиска», но в современном (с его точки зрения) представлении кружка «Серапионовы братья» двадцатых – тридцатых годов XX века. А из немецких классиков ему был ближе И. В. Гёте, но это было присуще Дмитрию Евгеньевичу скорее личностно, чем как филологу.
Кроме всего прочего, он был одним из последних, кто провёл отрочество и юность в Царском, имея полное право повторить слова великого поэта: «Отечество нам Царское Село». Однако на первом месте для него было всё же «не то и не это», а русский символизм, притом лично избирательный, что и было характерно для его университетского семинара по Блоку. Дмитрий Евгеньевич всю жизнь хранил верность своему Александру Блоку, видя в нём, как это нам ни кажется странно, хранителя обрывающихся культурных связей с русской литературой классического XIX века. Но также и рыцаря бедного – в самом глубоком, прекрасном и печальном смысле этого слова (опять-таки, по отношению к литературе, не только к Прекрасной Даме). Это первая тема для целой статьи (о нём и его Блоке) – одна из двух главных. Вторая же – о стихах Дмитрия Евгеньевича. Разумеется, статьи эти будут написаны не мной[16], право на них предоставлено его ученикам. К тому же я смогу подойти к этим двум темам только в дальнейшем, этот первый отрывок имеет обзорный и ознакомительный характер. О его стихах – тоже потом; скажу только, что долго ждала знакомства с этой коричневой старой тетрадью в сухом коленкоровом переплёте.
Ещё Дмитрий Евгеньевич очень любил животных, но я уже не застала их в доме. Сам же он слегка напоминал мне учтивейшего ворона из сказки «Снежная королева», но лишь внешним обликом и манерами, а никак не речью. Его искривленные пальцы, отмороженные и обезображенные во время войны, прекрасно держали перо, да и со всем остальным отлично справлялись. Но, бросаясь в глаза, они внушали мне чувство бережной и сочувственно ранимой жалости. Надеюсь, что он об этом не догадывался, иначе – может, и не простил бы.
Впрочем, ни руки, ни возраст его не портили (хотя и не красили), ведь в разговоре с ним собеседники о таких вещах забывали. Дамы разных лет готовы были сражаться за его благосклонность, в соответствии с феминистическим духом эпохи. Это очень осложняло жизнь его жены Лины Яковлевны, принимавшей подобные вещи всерьёз. Впрочем, я не знаю, насколько серьёзным это могло быть раньше, на всём протяжении их многолетнего брака. Тамара Юрьевна высоко ценила её, считая человеком тончайшим – и не столько при этом раздёрганным, сколько ранимым, а её отношение к мужу скорее материнским. Цитирую: «Это вечное материнство к сверстнику мужу давно уж как воспалилось в ней». Однако всё это – пока лишь вводные слова. Так как познакомилась я с Дмитрием Евгеньевичем по-настоящему и стала регулярно бывать у него дома (а затем и почти подружилась) только года через три-четыре после первого чаепития на Загородном.
А сейчас наступает время переводческого семинара Эльги Львовны Линецкой в Доме писателей на Шпалерной, который начался (для меня) года на полтора раньше знакомства с ним. Свой несколько несвоевременно начатый рассказ о Дмитрии Евгеньевиче я вскоре продолжу.
Пора вновь заглянуть на одно из чаепитий на Загородном. Вскользь и как бы между прочим Т. Ю. замечает:
– Ирина, я недавно говорила о вас с Эльгой Львовной Линецкой. Она не стала всерьёз просматривать ваши стихи, только взглянула и пролистала. Они её не поразили, но вместе с тем произвели некоторое впечатление.
– Тамара Юрьевна, вы не могли бы вспомнить, что она сказала?
– Она сказала: «Какие все они сейчас всё-таки незрелые – ни пунктуации, ни чистоты слога. Но, может, это даже не без таланта, вернее – обещает быть». А вы не хотели бы попробовать посещать её переводческий семинар? Вы ведь довольно свободно читаете по-французски и по-английски?
Я что-то ей тогда ответила, но полупропуская мимо ушей. Так как ни разу в жизни не пыталась переводить стихи. Однако в моей памяти что-то из её слов – не знаю, как сказать – отпечаталось или застряло; пусть неясно и с вопросительным знаком.
Фрагмент
«Стоический сад»
Елена Шварц. «Чудище»
- ………………………………………
- Отдайте нам чудище в башне —
- И более ничего!
- И тут была страшная битва,
- И дым, и грохот, и снова
- Наш город тихий
- Живёт задумчивой жизнью,
- Похожий с высот на гвоздику,
- Империи остров великой.
- И перипатетики-духи
- Гуляют в прохладных аллеях,
- И чуткое чудище в башне
- Их слушает странные речи.
I. О семинаре романских переводов Линецкой – в общих чертах
Начну с традиционной фразы – как это начиналось. Я впервые побывала на переводческом семинаре Эльги Львовны Линецкой в середине 70-х. В последний же раз была там (как участница) в 84-м, а потом только «забегала на огонёк»…
Нет, я не вознамерилась вдруг стать переводчиком, никогда раньше об этом не помышляя: с юности я хотела стать «просто литератором». Боюсь, что начать на этот раз мне придётся из дальней дали институтских лет (переход на 4-й курс, мне девятнадцать). Я хотела уйти из ЛИТМО, чтобы поступить на филфак в университет, но дома начались скандалы, отец (от которого обе мы с мамой материально зависели) «встал на дыбы», хотя и я не сдавалась: «Папа, я не умею чертить и не хочу быть инженером, хватит с меня диплома техника. Я хочу быть образованным человеком, а не белым воротничком в конторе». Мама была на моей стороне и сумела уговорить отца устроить мне зачисление на заочное отделение филфака ЛГУ – при условии, что я всё же кончу институт. Почему же «устроить», разве я не была способна сдать вступительные экзамены? Но недавно был принят закон, согласно которому нельзя учиться в двух высших учебных заведениях одновременно, а также и поступать во второе из них, не отработав три года по распределению. Поэтому отец именно «устроил» меня – притом не на русское отделение, куда мне хотелось, а на французское, где конкурс (даже и на заочном) был меньше. К тому же так больше «устраивало его самого»: «Будешь по крайней мере прилично знать французский и английский, сможешь прожить уроками и переводами».
С тех пор прошло пять лет, я работала в инженерной конторе и тайком писала там стихи, заодно учась на французском (вечернем) отделении и посещая лекции на русском и на истфаке. Вышло, что на французском я оказалась случайно, хотя любила этот язык больше других с детства – ведь он имел прямое отношение к русской литературе.
У меня не зафиксировалось в памяти, когда (и как) я начала работать техническим переводчиком с английского и французского. Когда учишься на вечернем, приходится работать, особенно если ты молодой специалист по распределению, а конструктором быть не можешь. Впрочем, вначале служба мне попалась очень удачная: нужно было каждый вечер относить готовые переводы статей на физфак (совсем рядом с филфаком). И два раза в неделю, ранним утром, ездить на производственный объект. Между лекциями в университете и забрасыванием готовых переводов на факультет напротив – приходилось сидеть часа по три в библиотеке (БАН) и переводить. Впоследствии, года через три, это незаметно превратилось в профессию, в обычный рабочий день (уже на другом предприятии). Не стоит и говорить, что занятие это имело мало общего с литературой, было из области «хлеб насущный даждь нам днесь». Но по-прежнему я разбиралась с накопившимися трудными местами в библиотеке, теперь уже в Публичной и раз в неделю, это называлось «библиотечный день». Работы хватало до закрытия (с десяти утра почти до десяти вечера).
Технические справочники и словари полностью забивали голову, порой она переставала работать. В свободный час я уходила на прогулку или заходила в зал основного фонда почитать (по старой памяти) любимых поэтов начала века. Если же на это времени не было, то в узеньком Справочном зале (около Технического) можно было получать литературу на иностранных языках. Так постепенно и случилось, что моими постоянными спутниками стали три «тамиздатных» тома стихов, схожих лишь толщиной: Эмили Дикинсон, Поля Верлена и Т. С. Элиота.
Я хотела бы объяснить кое-что ещё, перед тем как продолжить. Нет, чтение стихов на иностранных языках не было и не стало моим любимым занятием, я больше любила русские стихи, как прежде. Более того, иноязычные стихи в подлиннике я до того и не встречала, и почти не знала. Но в Публичке было два главных читальных зала (огромные, типа вокзальных) – Читательский и Технический, оба на вторых этажах весьма солидных лестниц, находившихся на немалом расстоянии одна от другой. Я их не любила, но по диплому и роду занятий относилась к Техническому. Однако сосредоточенно работать в нём я не могла, поэтому сидела рядом, в Справочном зальце, где выдавали технические журналы на разных языках, словари по специальности[17], а заодно и иноязычные книги по предварительному заказу.
Итак, выходит, что «всё это вместе взятое» было из области предопределения, а не личным выбором занятий. Но выбор авторов всё же был моим. Однако надо отметить, что мои ранние стихи (часть их вошла в «Привал в облаках», а часть и нет) были написаны в соответствии лишь с двумя традициями – с русской классической (XIX и Серебряного веков) и с менее проявленной, как бы скользнувшей мимо – из второй половины пятидесятых и начала шестидесятых. Примерами второй, довольно пунктирной, традиции могли бы служить стихи Новеллы Матвеевой («Я леплю из пластилина, / Пластилин нежней, чем глина…») и несколько наивные строки Р. Рождественского («А весною я в несчастья не верю / И капели не боюсь моросящей. / А весной линяют разные звери, / Не линяет только солнечный зайчик…»). Да ещё, пожалуй, мой любимый французский шансон – во всех его проявлениях.
Что до первой из традиций (классической), то в полном соответствии с нею мои ранние стихи делились на лирические, гражданственные и о природе. Именно они нравились моим однокурсникам и Ирине Чемодановой. Если не лень, можно заглянуть на «Литрес» и «Озон» в избранное: «Прогулки вдоль линии горизонта» и найти там «Конец осени» («Дождь, захлёбываясь, крошится / Голышами хлеба. / Тучи, пегие, как лошади, / Вытоптали небо…») – это о природе. Но там есть и гражданственное: «Вершители судеб, творцы и палачи, / Тираны, стоики, строители, солдаты…»; что же до стихов о любви, то их намного больше.
И всё же было кое-что ещё – нет, не в этих ранних стихах, а где-то возле них, около. Я любила многих поэтов, особенно же некоторых (перечислять не стану). Но знала наизусть около половины стихов двух русских поэтов-акмеистов – Н. Гумилёва и О. Мандельштама. И только их, хотя также по нескольку стихотворений других поэтов, начиная с Ломоносова и далее. Не стану объяснять эту странность, хотя самой мне ясно, что она была плодом восторгов отроческого сердца перед двумя его избранниками.
Теперь два слова о выборе иноязычных поэтов в Публичке. Верлен (эта всеобщая любовь русских лириков), конечно же, был выбран за музыкальность. Мелодия у него не царит, а живёт над строфами, то и дело не просто появляясь в тексте, но и являя себя – почти как в музыке. Американку Эмили Дикинсон я выбрала как поэта, замкнувшегося в мире особых пространства и времени, мире высокогорном и «существующем где-то над», хотя притом вполне реальном, во всяком случае, ничем реальности не противоречащем.
И наконец, Ти Эс Элиот… Пожалуй, с ним дело обстояло сложнее. Вначале он привлёк меня тем, что мыслил абстрактнее, шире и обобщённее многих современных (или XX века) поэтов. И ещё – поистине латинским лаконизмом. Институт ЛИТМО каким-то непонятным образом развил во мне склонность к абстрактному мышлению, без которой невозможно освоить целый ряд предметов, например теоретическую механику и высшую математику. Но если б дело было только в этом, Элиот вскоре бы мне наскучил, как это случилось (на несколько лет раньше) с Ломоносовым. Однако вскоре я поняла, что в Элиоте заключена энциклопедия западной поэзии XX века. И что он многое в ней издавна задал и определил, создав свою поэтику, как запустелый новый материк вроде Австралии, имеющий свой рельеф и вполне определённые, заданные границы. Кроме всего прочего, Ти Эс Эля нужно было разгадывать, в его текстах было немало пазлов, аккуратно, ловко и почти незаметно вписанных в текст (во всяком случае, не торчащих из него и не мешающих пониманию всего остального).
Ограничусь пока этими краткими и неглубокими характеристиками. Притом должна заметить, что эти спутники неприметно оказывали влияние на мои стихи, которые за эти два с половиной года (1971–1974) стали меняться. Кстати, и Верлена, и Ти Эс Элиота приметили тогда в Публичке многие, а не я одна. Вообще-то в Справочном зале, как правило, выдавали для чтения только книги, востребованные неоднократно. Эмили Дикинсон не была так популярна, поэтому я сочла её нежданным и личным подарком.
Утомившись от долгих разбирательств с агрегатами насосов и их деталями, я забиралась взглядом то в облака в окне, то в эти стихи. В них мне тоже следовало бы «вчитаться» серьёзнее, со словарём, но они были для души. Можно было иной раз читать их, просто скользя, а забираться вглубь – наугад и как придётся… Так почему-то проходила головная боль, и мысли оживлялись, и всё успевалось. Однако неожиданно выяснилось, что мои новые стихи нравятся немногочисленным поклонникам меньше прежних. Новый, усложнённый стиль не вызвал у них восторгов, а Ирина Чемоданова прямо сказала: «Ирка, ты начинаешь развиваться куда-то не туда. Тебя заносит!»
Лёши Хвостенко (с которым я давно не виделась) в городе не было, кажется, он уехал в Москву или его уже выслали как тунеядца. И показать эти стихи было просто и некому, кроме Тамары Юрьевны, которая, напротив, как-то больше заинтересовалась ими, чем прежними. Но поначалу тоже была недовольна, назвав сгоряча парниковыми: «Ирина, вам не кажется, что они эклектичны? Не знаю, можно ли так свободно смешивать ваш современный и постакмеистический стиль с сугубо западным». Я промолчала, избегая искреннего ответа, что только этот стиль кажется мне действительно современным. Что Т. С. Элиот и Эмили Дикинсон жили много лет тому назад, хотя у нас их «считают современными» – наверное, с лёгкой руки Иосифа Бродского или кого-нибудь ещё. Кстати, именно тогда у Т. Ю., возможно, и возникла мысль пристроить меня в семинар Э. Л. Линецкой.
Затем как-то раз, в магазине старой книги на углу Литейного и Жуковского нашлась для меня прелестная и недорогая книжечка стихов Бодлера на французском. Начав её листать, я удивилась лёгкости понимания и увлеклась. И вдруг перевела вечером дома два стихотворения. Точнее, они как-то «перевелись» сами; впрочем, это удивило меня не больше, чем появление моих стихов. И всё же я не поленилась справиться (всё там же, в Публичке) об имеющихся переводах, опасаясь, что кто-то перевёл их в точности так же, но раньше. Очень уж как-то легко получилось, а вдруг я просто вспомнила что-то? Но нет, оказалось, что их никто так не перевёл. Мои переводы Бодлера ничуть не привели меня в восторг, но всё же я показала их Тамаре Юрьевне, а та передала маститой переводчице Э. Л. Линецкой.
Следующая ступенька в семинар была примерно такой же, как у всех его участников: мне предложили разок побывать в секции переводчиков, которые показались мне строгими и важными профессорами-медиками филологии, выполнявшими некую серьёзную операцию (не хирургическую ли?) над текстами прозы. Надо признать, они делали это самозабвенно и ответственно. Естественно, никто из них не обратил на меня внимания (и слава Богу!). Но в перерыве Эльга Львовна (к которой я подошла, как было условлено) устало и небрежно спросила, какие языки я знаю. Спросила, не то чтобы сняв, а как бы откинув на миг с лица – вместо вуали – серо-белую «хирургическую маску», его обесцвечивающую. Я ответила, что не знаю испанского. Это прозвучало до нелепости самоуверенно, хотя я всего лишь вспомнила в тот миг, что она ведёт наполовину испанский, наполовину французский семинар. Она повторила свой вопрос – резко и устало. У меня отчего-то не хватило духа ответить, что я училась на французском отделении, это облегчило мою участь. Последовали простые вопросы о персонажах пьес Жана Расина. Я не очень жаловала его трагедии, но нас заставляли разбирать их, к тому же я любила древнегреческие мифы (и трагедии Эврипида в переводах И. Анненского). Лицо у Э. Л. было отсутствующее, она ещё обитала в полемике, мысленно продолжая и заканчивая разрезку и расчистку текстов.
Я её в тот раз как-то не увидела, не разглядела, хотя подумала, что облик у неё запоминающийся; и с почтением отошла. А недели через две мне позвонили из семинара, сообщив дату и время очередного занятия. При этом разбирать должны были не кого-то, а Бодлера, но заодно и меня. Я приготовилась к операции, было жаль моего Бодлера, сама же я надеялась как-то через это пройти. Но шла я на семинар без должного энтузиазма, даже «через не могу». Сам маршрут в Союз писателей (вплотную мимо Большого дома и Арсенала, который выглядел просто тяжеловесно-военным, но составлял с БД как бы нарочно подобранный ансамбль) вызывал у меня смутные и тягостные ассоциации.
Однако попала я не на операцию (и не на экзекуцию), нет… А куда же, собственно? Где это я вдруг оказалась? Нет, конечно, не на балу и не на премьере, но на действе, бывшем – при всей своей внешней скромности – чем-то им и сродни. Я увидела совершенно другую Эльгу Львовну, блистательную, даже немного бальную – в дорогом и простом английском сером костюме. Но так легко и строго выпрямленную, что казалась она высокой и стройной. А её серые с зелёными искорками глаза с крылатыми веками (хочется сказать веждами, вслед за кем-то из классиков) то говорили, то призывали к молчанию. Словом, она была балетмейстером и дирижёром, но также и хозяйкой – салона?! Нет, она просто и естественно царила в своём кругу… И она совершенно очаровала меня. Я смотрела на неё, не видя больше ничего и никого вокруг. В голове моей начинали складываться стихи «Лебединое озеро, не улетай» (они, впрочем, вышли так себе и едва ли здесь появятся).
А на остальных стоило посмотреть повнимательнее. Они знакомились, они были сдержанно, но явно приветливы. И почти каждый представлял собой нечто – эрудицию, остроту ли, весомость. В частности, переводчик эпиграмм Владимир Васильев, испанистка Алла (Александра) Марковна Косс, Майя (тогда ещё без отчества) Квятковская – да, пожалуй, почти все. Ведь это был период окончания первого, старшего семинара и начала второго, следующего (о чём я, разумеется, понятия не имела).
Радость же началась ещё на входе, хотя на семинар я умудрилась (как всегда) минут на семь опоздать. Я ещё не увидела как следует ни Эльгу Львовну, ни прекрасную гостиную – ровным счётом ничего. Но, входя осторожно и неохотно, я услышала стихи. Те самые, которые читала не так уж часто, но из месяца в месяц, из года в год в зале основного фонда Публички; хотя уж не помню, кого читали в тот раз – М. Кузмина, О. Мандельштама или В. Ходасевича. По традиции все семинары начинались с чтения стихов, так бывало каждый раз неизменно. Помню, как я изумилась тому, что в гостиной (скорее, как мне показалось, в небольшом зале) сидит не менее десяти человек, интересующихся тем же, что и я (и, кажется, способных слушать эти стихи часами). Нигде, даже в лито Глеба Семёнова (конечно же, нет!) жизнь ещё не представлялась мне с порога столь лучезарной.
Так прошла короткая вступительная, а за ней и первая часть – с беседой о Бодлере, его времени и с чтением известных переводов его стихов… А после перерыва был мой нелицеприятный разбор. Но досталось почему-то не мне, а моему Бодлеру, недаром мне заранее было его жаль. Текст был разобран по камушку… «Камня на камне» не то чтоб не осталось, но сохранилось в целости не очень много… А затем было сказано: «Но всё же это, по всей видимости, Бодлер» – из чего я и заключила, что досталось больше ему (моему, разумеется), чем мне самой. Перевод раскритиковали, меня же похвалили. Я ушла и опечаленной, и окрылённой, во мне зародились смутные надежды.
И только через год я поняла, что это было традиционное начало для тех, кто был принят Эльгой Львовной… Хотя принимала она далеко не всех желающих. Впрочем, упомянутое «действо» было на самом деле не менее серьёзно, чем в секции. Оно также требовало полной самоотдачи от всех участников. В секции разбиралась работа уже выполненная (так или иначе, но мастерски). И если сравнение с операционной хоть сколько-нибудь правомерно, там речь шла уже о хирургии пластической. При этом отнюдь не обходилось без полемики о лепке или выразительности черт воссозданного лица большого художника, не только заговорившего (снова или впервые) на русском, но и входившего в отечественную литературу торжественно, наподобие посла.
А на семинаре хирургия (кстати, безжалостная и не пластическая) играла пусть важную, но второстепенную роль. На первом же месте было выращивание[18] молодых переводчиков (это было как в саду из каких-то странных, большеруких и не слишком «уклюжих» растений). Несколько лет спустя я узнала, как любит Эльга Львовна лес и всё в нём: не просто деревья, траву и птиц, а весь лес с его тишиной, живностью, гущей и плавностью как таковыми.
На втором месте было совсем другое – то, что (не вдаваясь в объяснения) назову точно так же, как назвал одну свою миниатюру Мусоргский – «балет невылупившихся птенцов». Выяснялось при этом и «чьи вы, чьи вы?»[19], и кому какие достанутся ветки на деревьях-кустах, также вовсю шло обучение и воспитанье. При этом ещё важнее был (пожалуй, и не существующий в природе) «балет танцующих дерев». Но, однако, сами они – то ли саженцы, то ли чурбаны, а то и почти
