Бешвар (Повесть)
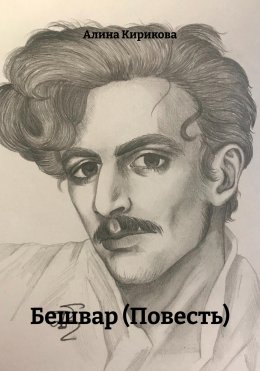
Бешвар
Пребывая в забытьи в тот день, когда началась первая глава моей жизни, я, двадцатипятилетний молодой человек, шел у пруда, смотрел под ноги и о чем-то бесконечно думал. Одна мысль сменялась другою с грязным непостоянством. Все мешалось в серый ком, оставшийся после жизни в Европе. Ком этот выглядел точно так, как снежная баба, слепленная по первому снегу в ноябре: тело ее и голова были запятнаны землей, гнилыми листьями, желтой травою и истлевшими прутьями. «Что же теперь делать, куда податься? Связи прервал, не служу, кругом решительно ничего и никого, последние деньги спустил заграницей. Гол как сокол!» – размышлял я. – «Надо бы взяться за дело какое-нибудь, что ли, иначе растрачу последние гроши. Только за какое дело? Мир и без меня переполнен всевозможными идеями, которые меж тем друг друга повторяют, а новое скажешь – удушат. Жениться тоже пристало, да на ком, ежели я никого не любил и не люблю?».
– Это же Сергей Романов! Серж, идите сюда! – закричали голоса, заставив меня обернуться.
К берегу причалила лодка, в ней сидели давние знакомые: Никита Малютин, Семеоновский, Тамара Несвицкая и Фирсова. С ними я дружил первые годы пребывания в Петербурге, когда еще состоял при училище. Ну как дружил, скорее, только думал, что дружу. То ли сельское воспитание повлияло, то ли бабушкина любовь, то ли свойства души, но вырос я в плане дружбы глубоко наивным человеком, поэтому всякий новый знакомый жадно становился мне другом. Отсюда и следствие – впервые оказавшись в светском салоне, до которого все пытался дорваться, всецело отдался столичным лицам. Как слепой дикарь, я не знал, что такое хорошо, что плохо, дозволял петербургскому кругу вести себя со мною, как будет угодно – это и было мне куском черствой дружбы. Стоит сделать оговорку, одного человека я знал давно и сразу – Тамару. К столичному кругу она от рождения имела положительные свойства. Ее взяли в свои тотчас, чуть она показала превосходные способности к лицемерию, которым так дорожат в свете. Итак, несмотря на плохое расставание, на лице моем прорезалась ностальгическая улыбка по минувшему, как будто в нем было что-то пригожее; я смело залез в лодку.
– Романов, каковы вы теперь, а! Заметно поправились! Женились, что ли? – утягивая меня, веселилась Фирсова. – Или вы то же, что Семеоновский, – отъедаетесь на покое да по армии тоскуете?
– Да, к слову, теперь на отдыхе, – заводя руки за голову, растянулся Семеоновский, передавая мне весла. – Вы, Сергей Георгиевич, видно не собираетесь восстанавливаться, раз усы еще не отрастили?
– Во Франции не модно усы носить, пытался соответствовать, – отвечал я, отвлекаясь на задумчиво улыбающегося Малютина. – А вы как, Никита? Не молчите.
– А я, Серж, безвылазно в городе живу, чиновничаю в состоянии предобморочном. Помогаю отцу писать законы. Приехал к матери на недельку, – отвечал Малютин. – Однако, как удачно совпал наш с вами приезд! Надо будет вспомнить прошедшее, пропустить партишку. Мне не с кем досуг проводить, а вы, помнится, хорошо в карты играли…
Я почему-то промолчал, не нашел, что сказать. Тамара упорно строила из себя равнодушную, глядела то в одну сторону, то в другую, теребила веер, но, заметив мою улыбку и то, что я обличил для себя ее чувства, прорвалась:
– Еще не устроила вас бабуся? – фыркнула она.
Тут Семеоновскому да Малютину чего-то стало смешно, и я начал жалеть о том, что сел в злополучную лодку и взялся грести. Грустные воспоминания и прошлые обиды всколыхнулись в моем сердце, как подымается ил, если на дно сквозь спокойную и чистую воду опускается камень.
– Я только что вернулся. Мы давно не виделись, – выдал я.
– Бедная ваша бабуся! – пальнула Несвицкая. – А я-то думаю, чего она со мною и маменькою неприветлива, оказывается, внук у нее бестолочь: нервы трепет, везде катается и ничего не делает!
– Как вам в Европах, хороши школы? – наскоро внедрилась Фирсова, чтобы потушить пыл Тамары.
– Печально в Европах. Не нашел в ней того, за что все детство меня заставляли ее любить. Зря только время тратил на заграничные языки. Зато повстречал любопытных соотечественников, которые мнят из себя чистокровных французов, считая все русское варварским отродьем. Это хорошенько меня встряхнуло и разрешило многие вопросы, – высказался я. – Школы тоже неважные. Право слова, у нас учат намного лучше. Я удивлен, что все расхваливают Европу, когда хвалить ее стыдно.
– Если вы хотите быть принятым в обществе, Сергей Георгиевич, французский вам необходим, как и европейские школы! – яро проскрежетала Несвицкая.
– Кому именно необходим? Голицыну, Нарышкину, кому? Считаю, что русский человек должен знать прежде всего свой язык и свое отечество, – спокойно отвечал я.
Все, кроме Тамары, напряженно затихли.
– Что же хотите сказать, вы своему не учились? – раздражалась Несвицкая, вздергивая головою.
– Хочу сказать, что наши школы не учат любить русскую словесность, не помогают постигать нашу культуру, нашу историю, именно нашу, а не чью-нибудь, потому что преподаватели, в большинстве своем, немцы, швейцарцы или, на худой конец, французы. А если уж ни то и ни другое, то у всякого существует тетушка, расхваливающая Европу сверху до низу. Чему такие учителя или тетушки могут научить русского человека?
– Мирок ваш резко ограничится, если вы будете почитать только наше, – завершающим аккордом перебила Тамара.
– Как мы начали этот разговор? – закрывая уши, пикнула Фирсова. – Друзья, не бранитесь, пожалуйста!
Несвицкая была мне как младшая сестра, с детства я любил ее донимать, поэтому и теперь хотел, чтобы последнее слово непременно осталось за мною.
– Мы и не бранимся. Во-первых, Тамара Викторовна, я не говорил, что нужно забыть об остальном мире, кроме русского, во-вторых, заграница пагубно влияет на молодую неокрепшую душу, которая не сама выбирает путь, а идет строго по тому, какой маменька с папенькой выдумали. Мы с вами росли обольщенными, но обольщение это началось задолго до нашего с вами рождения. До Петра первого русский народ и думать не думал, что заграничное лучше своего. А теперь что? Народ стыдится своей культуры, на русском пишет с дичайшими ошибками, платья носит французские.
– Сами-то сидите в английском костюме! Что ж не в косоворотке и с картузом?! Так что извините, Сергей Георгиевич, но довольно. Вам надо с г-ном Хомяковым познакомиться, он представитель таких же глупостей, что и вы. Как бишь он называет-то себя? А! Славянолюбом! Вот вам туда же, – остановила Несвицкая и показательно отвлеклась на Малютина. – К слову, забыла рассказать, Никита! Представьте себе, Алексей Степанович целый час городил моей матушке то же самое, что и наш Романов, довел ее до приступа. Нет, чтобы вовремя замолчать, все-таки говорил с дамой, правда? Он планомерно заставлял ее уверовать…
– Уверовать в то, к чему она была не готова потому, что с рожденья ей внушали любовь к загранице, будто там воздух пахнет духами, и птицы распевают оперные песни. Все мы жертвы этих убеждений, Тамара Викторовна. Только стоило бы всем нам понять уже сейчас, что эдакая методика воспитания чревата тем, что в стране начнут рождаться дети без отечества, полурóдные, русские полурусские, которые будут до конца дней мучиться неприкаянностью на Родине и на чужбине одинаково: в России им будет не хватать заграницы, а заграницей – России. Не злитесь, прелестная Тамара, я не провоцирую вас, вы просто не способны меня понять, потому что никогда не жили там, как я жил. Вы отдыхали, не пересекались с простыми жителями, не ютились с ними в одной комнате. Между отдыхом и жизнью огромная разница. Вспомните, Тамара Викторовна, до некоторых пор я вас поддерживал в суждениях, но все потому, что в Европе отдыхал. Теперь наши мнения различны, потому что мои розовые очки треснули – я там жил. Вам тамошняя жизнь неизвестна. Вы видели только наружную картинку, она вам красива, но эта картинка всего-навсего искусно нарисованная декорация, за которой прячется грязь. А насчет платья не удивляйтесь, мы – продукт нашего времени; я в английском, вы во французском, шляпку вам вовсе шил немец Брахман. В том-то и дело, что своего в нашей стране даже не пошить, а если пошьешь, то только картуз на маскерад.
– Славянолюбы, видно, заражены общей болезнью, и называется она невежеством! Вы говорите с дамой, умейте замолчать вовремя.
– Господа, умоляю! – зажмурилась Фирсова.
– Кроме того, что вы дама, у вас больше нет аргументов? – усмехнулся я, Малютин тоже хихикнул.
Несвицкая думала осыпать меня замечаниями, но шляпа, унесенная порывом ветра, смешала ей замыслы. «Брахман!» – только-то успела выкрикнуть Тамара, имя мастера прозвучало у ней ругательством. В то же время небосвод заполонило тучами. Налетел и ветер, разнося угрожающие раскаты грома; ливень не заставил себя ждать. Иногда переходящий в град, он хлынул, точно где-то на небесах прорвало плотину. Оказавшись на берегу, мы бросились к дому Семеоновского – он жил ближе всех. Пока четверня кушала чай, отогревалась под пледами и не желала продолжать со мною бывший диалог, а потому молчала, я пребывал на террасе, окна которой были раскрыты настежь. Иногда высовывал руку, принимая к коже дождь, иногда разглядывал ладонь, наблюдая за тем, как небесные слезы растекаются по ней, оставляя влажные следы. Порою ветер задувал мне в спину, по коже пробегали мурашки. Пахло сыростью старых половиц и измокшей землей. Вдохновившись, я обтер мокрую руку о фрак и, вынув маленький альбомчик да обломок карандаша, почти до конца истертый, принялся записывать новое стихотворение.
Только дочиркал, как откуда ни возьмись выпрыгнула Несвицкая и, выхватив книжечку, затрепыхав ею, побежала к остальным. В гостиной она принялась громко и весело читать стихи, но стоило мне попытаться отобрать свои произведения, альбом полетел в следующие руки. Так я и бегал по кругу, как косолапый щенок, пока не встал в стороне. Заметив, что перестал бегать, Несвицкая сделала злобную мину и швырнула книжку в камин. Вне себя я метнулся к огню и, вытащив кочергою дрова, а вместе с ними и альбом, сунул руку да заплевал, задул, зажал горящее местечко. Пальцы мои несколько обгорели и покраснели, а ногти почернели. Когда тление остановилось, я веером пролистнул страницы и, к счастью своему, обнаружил, что поэзию удалось спасти. Двумя ладонями прижав к сердцу маленький альбом, я закрыл глаза. Руки мои продолжало жечь, голова обливалась потом. Чувствовал себя так, будто вот-вот чуть не потерял своего единственного родного человека.
– Это же просто стишки, Романов! – отмахиваясь от дыма опаленного ковра, кашляла Несвицкая наперебой с Фирсовой.
– Турецкий заказной ковер испортили! Что вы натворили? Чуть нас не подожгли! – бурчал Семеоновский, закрывая нос платком.
– Да лучше бы вы сгорели! Вы что не понимаете, сколько трудов мне стоило заполнять эту книжку? – выпалил я, слезы сами собою прыснули из моих глаз и размазали лица, интерьеры и свечи, все слилось в неразличимую мазню.
Пробормотав что-то, я бросился из гостиной и выбежал на улицу. Ливень шел стеною, молнии тянулись к земле и разрывали небо оглушительным грохотом. «Романов, вернитесь! Простите нас!» – кричали мне сзади. Скоро голоса четверни омрачились, постепенно угасли. Они смотрели мне вслед и молчали до тех пор, пока я не растворился в дожде. Почти сразу ноги мои совершенно промокли из-за давнишней дырки в подошве. Но я не замечал ничего. Мне было тяжко и грустно.
Уже у себя на даче, сидя мокрый, оплеванный тучами, я бесцельно смотрел перед собою, задавался извечным вопросом: почему? Не понимал, за что со мною так обходятся всю жизнь, за что издеваются и ненавидят. Причем, если претворялся глупым и добрым, меня одинаково не любили, как если был резок и груб. Порвавшись с места, я встал, суетно походил по неосвещенным комнатам, закрыл окна и положил собираться. Мне было страшно показаться бабушке, я не знал, как сказать ей, что предал ее мечту о Европе, что приехал в Россию насовсем, а не на короткий период. Уложив в чемодан перво-наперво попавшееся, наскоро переодевшись, я выехал из Павловска.
Дорогой вслушивался в скрип колес и цокот тройки. Ночь была синей, туманной, она застилала проносящиеся мимо окон пейзажи, внедрялась во встречные ветхие дома. Выделялось в черноте только развешенное на веревке белье белого цвета, но и то обливалось темной голубизною, становилось призраком, не желающим, чтоб проезжий узнал в нем знакомое. Моя жизнь была тем же призрачным бельем на веревке, так же подо что-то маскировалась, но все-таки была видна – тем грустнее становилось на нее смотреть. Спать в экипаже было неудобно, я никак не мог понять, почему одежда жмет в груди и плечах. Только с рассветом заметил, что в спешке оделся в старый мундир поручика. Своего рода перепутанный костюм был знаком, что я, как мужчина, не вырос статусом и на толику. Сказать, что страдало самолюбие? Понимал, что если у меня появится возлюбленная, то нечего будет ей дать, что в глазах любой матери я выходил бы очень невыгодным голодранцем с европейским образованием. Можно было бы, конечно, выехать на уме, но романтичных до бедности девушек, тем более мам девушек, в природе нет.
Отдыхать лакей прикатил в Руссу. Город меня явно не принял, нелюбовь демонстрировал с большою охотой. К моему приезду даже самые захудалые постоялые дворы набились гостями битком, лавки и прочее подобное заколотились досками, а одна единственная ресторация сгорела. Но делать было нечего, лошадям стоило отстояться, так что проторчал на улице, к прискорбию Руссы, четыре лишних часа, шатаясь бродягой. Даже на воды не попал в лечебницу. Меня не пустили потому, что я, как выразились на карауле, странного вида и распугаю девиц с их мамашами, которые именно в тот день всем городом собрались в парке.
– Вы знаете, всяко меня оскорбляли, но никто еще не говорил, что лицом не вышел, – возмущался я, пока мимо меня проходила толпа дам с кружечками для воды.
– То-то и оно, что вышли. Не пущу и все! Сначала приезжают всякие, а у нас потом дуэли, потом разборки, потом нас наказывают! Уходите, – отвечал мне красный воротничок у ворот, но я не двигался с места уже из принципа. – Смотри на него! Пристава сейчас позову! Извольте представиться, сударь!
– Романов Сергей Георгиевич, – ухмыляясь, ответил я, наверняка зная, что моя фамилия произведет эффект. – Зовите хоть городничего!
Красный воротничок как стоял, так и упал сплошняком на спину. Другой же, подскочив к нам, принялся передо мною извиняться, пропускал в парк, но я, раскланявшись, задрал нос и ушел. Сначала меня забавляла сложившаяся ситуация, потом стало скверно оттого, что я со скуки стал радоваться глупостям.
Следуя по обрывистой набережной, понурив голову, я скучал от одиночества, сочинял рядом с собою прекрасную компаньонку. Сперва выдуманная девушка радовала меня, потом стала досаждать тем, что каждый раз, только я возвращался в реальность, она исчезала. Тоненький, безвольный ветерок обдувал мне лицо и гладил по голове. Невдалеке звенел церковный колокол. Я остановился, поднял взор на купола. Стаи птиц кружились над золотыми крестами. Задумав перекреститься, сделал это только мысленно. Душа моя тяжелела нестерпимо, я был опустошен, как битый сосуд: ни во что не верил, ничего не хотел, не мог как следует печалиться, уж тем более не думал и радоваться. Старушка, просящая милостыню у врат храма, откуда раздавалось чистое многоголосое пение и запах лилий, с интересом глядела на меня. Она видела, что денег ей не дам, потому что самому лишь бы хватило. Было в ее взгляде что-то понятливое, но не доброе, а злорадственное: «холеный домашний кот вдруг стал оборванцем», – думала она и улыбалась.
Ночевать остановился не в Твери, а в Торжке у Пожарских, заодно знаменитых котлет отведал. Началось с одной, закончилось тремя, поэтому ко сну вышел на променад. Торжок полюбился моему сердцу. Улицы его были пустынны, смирны, томно придавались пению птиц. Некоторые дома Торжка были огорожены забором, некоторые стояли просто: в гуще кустарников и желтых деревьев. Местные жители между собою были очень дружны: где-то соседи собрались на ужин, где-то встали за забором вести разговор о делах насущных. За одной торжокской семьей я даже подглядел. Все сидели в кружевной столовой, озаренной множеством свечей, были дружны и веселы. Толстый мещанин, глава семейства, пил наливку и балагурил с другим мужчиною, бас его раздавался раскатистым громом. Полная баба ухаживала за остальными, молодые девушки шушукались, дети баловались и хохотали. Я завидовал им, тоже хотелось быть дружным с кем-нибудь, сидеть за большим столом, желал большую крепкую семью. Мне не хватало той прежней простоты, в которой я вырос, не хватало гостей. Хотя принимать никогда не любил, но общность помогала мне чувствовать, что вокруг меня есть хоть кто-то, кто всплакнет, если я вдруг умру. Как сейчас помню, родственники, соседи и друзья каждую субботу собирались в нашем с бабушкой поместье за общим столом. Шум-гам стоял сумасшедший, всем было чего-то весело. Один мой дядя постоянно курил, стоя у пруда и наблюдая за плещущимися сыновьями, другой пил и временами выдавал философские мысли. Вот этот второй дядя был рыжеват, имел длинные усы и бакенбарды, которые постоянно чесал. Жизнь свою тот посвятил математическим наукам, думал, что выйдет из него ученый, но вышел только умный пьяница; я любил с ним потолковать вечерами, он один понимал мою тонкую натуру. И вот, некоторые из ранее собиравшихся умерли, другие переругались. Семья наша разрослась, но больше никто ни с кем никогда не соберется.
Вернувшись к Пожарским, я испросил чаю и, пока он готовился, бродил по коридорам, рассматривал картины. Ноги вывели меня в общий кулуар, где я встретил барышню двадцати лет, она перебирала бруснику, разделяя ее на чистую и на грязную.
– Добрый вечер, – проявился я.
Девушка безучастно на меня посмотрела и вновь занялась прежним делом. Не скажу, что было приятно перетерпеть неуважительное отношение к себе, но уже так привык к этому, что просто решил уйти. С укоризною посмотрев на барышню, поймав еще один взгляд ее, я развернулся, но она остановила: опередила и выдвинулась поперек дороги.
– Простите, милостивый государь! Я думала-думала, а тут вы вошли, и мне показалось, что поздоровалась с вами, а потом очнулась… – суетилась она. – Если не поздоровалась, простите мне эту выходку, не желала оскорбить вас! У меня часто такое бывает, что задумываюсь и…
– Не беспокойтесь, понимаю вас. Сам знаю, что значит никого не видеть и не слышать, когда о чем-то думаешь, – отвечал я. – Разрешите представиться, имя мое Сергей Георгиевич.
– Антонина Сергеевна. Очень приятно, – произнесла барышня, пожимая мне руку. – Ой! Замарала вас ягодой! Весь день кувырком! То все рассыпалось, то с вами не поздоровалась, еще и замарала. Сегодня не мой день, определенно!
– Давайте помогу вам ягоду перебрать? Заняться здесь нечем, – предложил я, усаживаясь на табуретку.
– Да что вы, не стоит! – останавливала Антонина, но увидав, что я уже принялся за ягоду, присмирела и приземлилась на прежнее место.
Так мы с барышней начали говорить. Я узнал, что она возвращалась из Твери в Петербург, что по дороге у нее сломался экипаж, что пока она, поймав попутчика, ездила за помощью в Торжок, ее ограбили. Несмотря на заданную тему, беседа наша была легка, без напряжения, какое бывает в разговоре с малознакомыми людьми. Когда незатейливый диалог прервался, я украдкой поглядел на Антонину. Наши взгляды пересеклись. В первый раз в жизни я ощутил, что душа моя затрепетала. Волнение охватило такое, что невольно замер. Барышня не выдержала моего взгляда, покраснела и отворотилась. Грудь ее тяжело вздымалась, корсет скрипел.
– Вы прелестны, Антонина Сергеевна, – смущенно произнес я.
Барышня думала ответить, стыдливо поворотилась, но появившийся сухой старик смешал ей замыслы. Он был богат, но неопрятен, весь в каких-то сдобных крошках и трухе сгоревшего табака. Барышня с его появлением вскочила и сделала порывистый жест рукою, как будто желала стряхнуть что-то.
– Вы кто еще такой?! Антонина, опять ты нацепила кого-то! – с претензией тарахтел старик.
– Князь Сергей Георгиевич, – поднявшись, представился я.
– Вижу, вы поручик! – злобно проскрежетал старик, будто в моем звании таилось что-то невообразимо для него оскорбительное. – Антонина, молчишь?! Ягоду перебрала, спрашиваю?
– Почти, Федор Федорович. Принесу вам, как закончу, – обронила барышня.
– Вижу, что ты тут заканчиваешь! – вспылил старик и, шаркнув ногой, заторопился назад.
Не выдержав, Антонина заплакала и, прижав обмаранные ягодой пальчики к лицу, ушла в угол. Не мешкая, я усадил барышню на прежнее место и, поставив перед нами таз с водою, отнял ее ручки да с всею заботою принялся отмывать их от ягоды. Недолго Антонина еще всхлипывала, но вскоре отвлеклась и стала наблюдать за мною.
– Еще на лице наверно, – улыбалась барышня.
– Совсем нет, – внимательно осмотрев милое личико с ямочками на щеках, заверил я. – Строгий у вас дедушка. Вы не обижайтесь на него, к старости мы все становимся невыносимы.
– Это мой муж, – понурив голову, призналась Антонина и снова заплакала, я жалеючи обнял ее.
Так мы просидели до тех пор, пока барышня совсем не успокоилась. За это время нам принесли чаю, который просил давным-давно. Пили его в кристальной тишине. Антонина сильно стеснялась, изо всех сил старалась не глядеть на меня, но тем ценнее становился мне каждый взор ее. Немного погодя барышня вспомнила, что должна была унести своему престарелому мужу ягоду и, поднявшись, стыдливо поклонившись, заторопилась с блюдцем вниз. Пока Антонины не было, я подошел к зеркалу, причесал пальцами кудри, развязал шейный платок, а сев на место, съел мяты из чая. Посидев чуть-чуть, я подскочил и стал искать что-нибудь занимательное к приходу барышни. За комодом стояла старая гитара. Взяв ее, я перебрал струны, парой аккордов проверяя настрой. Послышались шаги: «идет!» – подумал я, весь трепеща от счастья.
– Барин, вы не засиживайтесь, – пришла г-жа Пожарская со слугой, который внес нам железный чайничек чаю и забрал пустой фарфоровый. – Конечно, все понимаю – муж у нее старый, но наглеть-то тоже не надо.
– Договорились, – покраснел я.
– Ох ты ж Бог мой, а горите-то пламенем! – по-доброму подстегнула г-жа Пожарская. – Давайте-ка, барин, закругляйтесь. Вы выглядите умным, вот и поступайте умно. Она-то ладно девица, все мы бабы глупые, но вы-то другое дело. Сворачивайтесь, я спать.
– Дарья Евдокимовна, подождите! Мы ягоду перебирали, осталась порченая. Прикажите, чтоб ее высыпали птицам.
– Ничего себе птицам! Не жирно им, птицам-то, кушать ягоду? – забухтела г-жа Пожарская, собирая в газетку просыпанное. – Сделаю наливку, все равно давить!
Сразу, как ушла Дарья Евдокимовна, ко мне вернулась Антонина. Она подправила прическу, накинула на себя синий платок с красными лилиями, который к ней очень шел, и надухарилась. На гитаре хотел играть я, но барышня попросила инструмент себе. Хоть извлекаемая мелодия состояла из простых аккордов, а романс не был замысловат, слушал я с упоением, даже сентиментально прослезился, отворотив притом голову, чтоб Антонина не заметила.
– Вы плачете!.. – с тихим восторгом произнесла она. – Как вы чудесны, Сергей Георгиевич, как чувственны!
– Нет, просто плакса, – отшутился я, утерев нелепую слезу.
– Не наговаривайте! – тепло улыбалась барышня, уместив ручку на моем плече. – Какие у вас глаза, Сергей Георгиевич…
– Мы уже породнились, называйте меня просто: Женя, – тоже заулыбался я, заглядываясь на Антонину.
– Тогда меня зовите Ниной, – смутилась она и обыкновенно покраснела. – У вас такие глубокие глаза, Женечка, такие большие, глубокие, как океан. Но вы грустны, и глаза ваши печальны. Заметила, что вы, кажется, редко улыбаетесь.
– Говорю же, я плакса, – вновь отшутился я.
– Вы, должно быть, писатель? Такие чувственные натуры всегда писатели, – предположила барышня. – Если пишете, то послушала бы что-нибудь.
Долго я упирался, не хотел вставать с дивана, но Нина вытолкала меня за стихами. Когда принес в кулуар свою обгоревшую книжечку и начал читать, то ожидаемо довел барышню до слез.
– Вот и вас сделал несчастной, – обнявшись с Ниной, прошептал я. – Говорил же, не надо сочинений.
– Надо, очень надо! Как вы пишете, как вы одарены! – рыдала барышня. – Напишите в мой альбом! Пожалуйста, Сереженька, хотя бы маленькое стихотвореньице!
Сбегав в комнату, Нина принесла бархатный альбомчик, куда я начиркал два сочинения: давнишнее и мадригал, вот-вот придуманный на диване. Второе стихотворение попросил ее не читать при мне, а только перед сном; стеснялся, что мои чувства, которым на бумаге дал волю вполне, неправильно поймут.
– Господа, совесть имейте. Два часа ночи, – вышла к нам г-жа Пожарская. – Спать, пожалуйста. На вас уже жалуются. Говорят, шумите.
На этом пришлось расходиться. Наши с Антониной комнаты были напротив. Прощаясь в коридоре, мы обнялись, простояв так, прижавшись друг к другу, довольно долго. От Антонины пахло сладко – лилиями, да и она сама как будто была этим цветком. Лишь едва прижимая Нину к себе, я боялся, что ненароком покалечу ее хрупкость и нежность. Она была столь изящна, что любое неверное движение, казалось, могло повредить ее хрустальному телу, расписанному бирюзовыми арабесками вен. Плечики ее аккуратно умещались в моей ладони. Она была высшим творением Бога, я не мог ею налюбоваться.
Уснуть так и не смог, все переживал насчет мадригала в альбоме. В конце концов довел себя до того, что решил не являться на завтраки, утром отослав хозяйке записку с прошением о продлении комнаты, сбежал на рыбалку. Пока сидел с удочкой, вокруг меня шумели сухие камыши и прощающиеся с бабьим летом птицы. Наслаждаясь ласковыми дуновениями ветра, я вспоминал искусное лицо Нины, но чем больше думал о ней, тем сильнее страшился возвращаться. На ужин не явился; ушел на прогулку, по дороге найдя чайную, где скушал кофе и персиковый пирог. Ночевать, конечно, вернулся к Пожарским, хотя до последнего оттягивал этот момент, даже закат проводил до полного его исчезновения. Прокравшись в гостиницу, как вор, а затем и к себе в комнату, я вслушался в звуки пространства: было смирно. Небо обсыпало звездами и, глядя на них, я вновь задумывался о возлюбленной – тончайший месяц напоминал мне бровки Нины, а тишина ночи ее кротость и непоколебимое спокойствие. Вызвав слугу, я спросил об Антонине и ее старом муже, он мне ответил, что те отбыли сразу после завтрака. «Уехала… ну и славно!» – еще больше загрустил я, просив себе чая в кулуар, где сидел вчера. Затушив все свечи, кроме одной, я придвинул кресло ближе к окну. «Лучше бы задушил ее своею любовью, чем так глупо поступил… И зачем, спрашивается, убежал от нее?» – думал я. Кулуар, казалось, еще хранил лилиевый запах Антонины. Недолго аромат этот был неуловим, лишь едва щекотал мне сердце, но в некий момент усилился и, подкравшись сзади, тоненькими пальчиками закрыл мне глаза.
– Нина! – воскликнул я, подпрыгнув с места.
– Тш-ш! – улыбнулась она, шикнув мне; я бросился ее обнимать.
– Господи, что творится? Так рад вам, Нина, будто не видел вас два столетия, а между тем мы знакомы-то с вами один только вечер и не виделись лишь день! Как вы, милая? Признаться, я такой глупый: сбежал утром, потому что думал, что вас разозлит мой мадригал! И вообще, я думал, что вы уехали навсегда!.. О, как рад вам! Сидел тут, укорял себя, что просто так вас отпустил! А вы не уехали, вы вернулись!
– Как вы милы, Женечка, как открыты, чисты и прямолинейны! Вы настоящий ребенок, все мне с участием рассказали! – улыбаясь на меня и обнимая, произносила барышня. – Как же могу злиться на вас за вашу симпатию? На такое светлое чувство не обижаются, его ценят!
– Бог со мной! Рассказывайте, Нина, где вы были! Хочу знать все! – радовался я, отводя нас на диван.
Пока волновался, задыхался от счастья видеть, прикасаться к барышне, глядеть на нее, она с девственной стыдливостью бегала по лицу моему очами, изредка заглядывая прямо в глаза. Антонина рассказала, как ездила с мужем за подарками для его сына и ее маменьки, как все время думала обо мне и скучала. Стоило барышне договорить, в отражении стеклянных дверей показался огонек, который хоть и с раскачкою, хоть и с шарканьем, но медленно и верно приближался к нам. Подскочив, Нина скользнула за книжный шкаф, а я торопливо уселся на прежнее место у окна и взял остывший чай. Покряхтев для привлечения внимания, шаркнув ногою, престарелый муж Нины все-таки обратился ко мне.
– Поручик! – процедил Федор Федорович. – Где моя жена?!
– Разве вы с женой приехали? – как бы удивился я, оборачиваясь.
– А тебя не научили вставать, когда со старшими говоришь?! – вновь зашипел старик; я поднялся и, отставив кружку, заложил руки за спину. – Где Антонина?!
– Ах, правнучка ваша!.. Откуда мне-то знать?
– Правнучка?! – брызнул слюной старик. – Наглец!
– Простите? – издевался я.
– Ты сказал: правнучка! – зверел Федор Федорович.
– Внучка, я сказал! – наигранно выдвинул я.
Нина чуть не выдала себя, некстати хихикнув, но глухой старик не услышал и дернулся к ее комнате. Не отперев дверь супруги, Федор Федорович злобно зыркнул на меня своими острыми глазенками и зашаркал к лестнице, там и вниз. Выведя Нину из-за угла, я отвел ее в свой нумер, который делился на три части: гостиную, спальню и кабинет. Гостиная была первой, в ней находились четыре кресла, круглый стол, разные шкафчики, натюрморты и букет сухостоя. Поначалу Антонина стеснялась быть у меня, но вскоре, убедившись в моем благонравном настрое, расслабилась. Муж ее нас больше не беспокоил, мы проговорили всю ночь. Так я узнал подробности брака Нины со стариком. «Нас три сестры, первые вышли замуж неудачно – муж старшей вдребезги проигрался, муж средней, Наденьки, запил. Еще у нас умер отец, долго мы жили на его состояние, но однажды все закончилось… Федор Федорович был другом моего отца и часто помогал деньгами. Мне пришлось выйти за него, иначе мы бы по миру пошли», – рассказывала Нина. В остальном я не слушал свою барышню, а любовался ею. «Если она что-нибудь теперь у меня спросит, ведь не отвечу ни на один вопрос. Словно пьянею, глядя на нее», – все время проулыбался я. Но и она, когда наступала моя очередь говорить, моргала осоловелыми глазками бездумно, любуясь то моими руками, то волосами, по-прежнему избегая прямого взгляда. Я только тогда получал ее взор, когда нагибался и нарочно подлавливал. Что-то особенное было в нашей чувственной игре. Безмолвные уговоры, ласка без прикосновения будоражили душу, как самые горячие поцелуи.
В пять утра было положено расходиться. Поднявшись с дивана, Нина заспешила к выходу. «Отдать или не отдать?» – на секунду задумавшись, я глядел то на барышню, то на платок с лилиями, который она оставила. Не успел решиться, как Антонина принялась со мною прощаться, обняв напоследок. Только она ушла, я взял в руки платок и, прижав его к носу, развалился на кресле. «Может, она нарочно оставила?» – лукаво прищурился я, вдыхая аромат лилий, но тотчас услышал стук в дверь. – «Нет, не нарочно».
– Забыла свой платок, Женя. Простите, что потревожила вас снова. Вы наверно подумаете, что я специально… – лепетала она.
– Ничего такого не подумаю, – накрывая барышню платком с лилиями, прервал я. – Сладких снов, милая Нина.
Здесь мы снова обнялись и долго еще не желали выпускать друг друга. Я прижимался к голове ее носом и дышал, хоть и тайком, но как в последний раз. Антонина уперлась в грудь мою щекой, слушала сердцебиение. Иногда ее маленький кулачек сжимал мою рубашку, а порой расслаблялся и теплился на груди. Жар от Нины шел, как от печки.
– Как от вас вкусно пахнет, Женечка, будто персиковым пирогом. Когда была маленькой, моя няня пекла мне его. Вы как связующий элемент между настоящим и моим счастливым беззаботным детством.
– Более того, завтра приглашаю вас в чайную, пойдем есть персиковые пироги. Вы их попробуете и скажете мне, такие же они, как в вашем детстве, или нет, – предложил я, заметив на милом лице тень печали. – …мужа вашего возьмем с собой!
– Балагурите? Ну а если без шуток, в Торжок приезжает давний знакомый Федора Федоровича, бывший сановник. Мне придется делать визит.
– Значит, до вечера, – грустно вздохнул я, легко сжав плечи Нины.
Когда барышня ушла, я еще долго стоял напротив ее двери и глядел куда-то вперед себя: «чего же добиваюсь, у нее есть муж, а я лишь случайный знакомый… или рискнуть, постучаться? Хотя зачем?» – крутилось в голове. Тогда казалось, что Нина тоже прислушивается и ждет, что зачем-нибудь постучусь. Но я все-таки не стал этого делать. Войдя к себе, устало пал на кровать и глянул в окно: рассвет начинался, горизонт светлел бледной желтизной.
Выйдя на завтрак, а он происходил на веранде, где стоял длинный овальный стол, я поздоровался с присутствующими. Почти никто не отозвался на мой возглас, только Нина и негодующий на общество сановник, он же друг Федора Федоровича. Я так зарделся, так потерялся от неуважения к своей персоне, что сделался оловянным: руки и ноги мне свело, я не мог сделать ни одного плавного движения. Назло своей чванливой физиономии еще и скатерть зацепил, когда отодвигал стул. Скатерть эта потянула на себя блюда, чуть не опрокинула самовар и прыснула солянкой в одного господина. Федор Федорович, напротив которого я сел, побагровел от моей неуклюжести и думал ковырнуть меня острым словечком. Заметив злость супруга, Антонина поднялась и, поцеловав его плешивую голову, заботливо накрыла плечи пледом, который вот-вот грозился сползти со спинки стула.
– Мест полно, сядьте в другой край, – шепнула мне на ухо г-жа Пожарская, притом сжимая мне руку.
Но тут вошла толпа всевозможных полицейских чинов и стремительно направилась ко мне.
– О, пришли твоего любовника в каталажку забирать! – прошипел Федор Федорович Нине.
– Сергей Георгиевич? – строго вопросила центральная фигура.
– Да, – ответил я, нелепо поднявшись.
– Романов? – вновь повторил тот с напором.
– Правильно, Романов Сергей Георгиевич, – утвердил я, начиная трусить.
Но тут строгая фигура, а то был сам городничий Руссы, как по заказу начала рыдать и повалилась передо мною на колена.
– Прошу, князь батюшка, не велите казнить! Я их туда поставил, оборванцев этих!
– Не понимаю? – опешил я. – Встаньте же, наконец!
– Оборванцев этих! – подавилась фигура, махнув рукою в толпу, откуда показались знакомые головы воротничков, некогда не пустивших меня в лечебницу Руссы. – Князь батюшка, уволены они!
Не сдержавшись, я прыснул смехом. Все решительно недоумевали, особенно г-жа Пожарская, та только крестилась и нашептывала молитвы.
– Да полно вам! Не увольняйте своих оборванцев! – смеялся я.
– Как же не увольнять, если они вас не пустили! – удивился городничий, вопросительно поглядев на своих подчиненных.
– Вот так! Правильно сделали, что не пустили меня. Видите ли, не успел приехать в Торжок, на меня уже повесили клеймо любовника. А представьте, что было бы, если б вы пустили меня в парк к юным барышням, их молодым мамашам и тетушкам, ведь мне пришлось бы жениться на всей Старой Руссе, Бог ее сохрани, – веселился я. – Ступайте, а оборванцев верните и наградите чем-нибудь, вот вам мой царский указ!
– Князь батюшка! – кинулся целовать мои руки городничий.
– Полно, ступайте, – забавлялся я. – Но впредь пускай ваши оборванцы вежливее разговаривают!
– Сделаем, князь батюшка! – залебезил городничий, кланяясь мне в ноги, и повел толпу из столовой.
Усевшись назад, я взял себе булку и, разломав ее, съел кусок. Смех буквально распирал меня, но я держался, давясь кушаньем. Г-жа Пожарская, уместившись подле меня, долго что-то придумывала, но после выдала:
– Любят нас Романовы! Одни котлеты прославляют, другие пирожки уминают! Вы попробуйте еще с вишневым вареньем, князь батюшка.
– Благодарю, возьму после, – улыбался я.
– Так вы Романов? Доброго дня, ваше высочество! – проявились те, кто не приветствовали ранее.
– Романов, позвольте? А я думаю-с, кого же вы мне напоминаете! А вот кого! – озарился сановник. – Мы с Федором Федоровичем собираемся ко мне, а я хорошо когда-то знал Романовых… поедете с нами?
– Меня уже нарекли любовником. Следовательно, дочь вашу уведу, жену, сестру, племянницу. Для вашего же блага не поеду, милостивый государь, – язвил я.
– Да на здоровье, уводите! Никак не могу отделаться от этого семейства! – прыснул сановник и не сейчас начал рассказывать какую-то нелепицу про свою жену, что она неаккуратна и глупа, стараясь тем самым как бы отговорить меня забирать ее у него.
После завтрака вернулся к себе, засел в кабинете и, достав листы бумаги, начал рисовать, выводя на них нерешительный профиль Нины. Не видя ее лишь пять минут, я ужасно тосковал, мне хотелось к ней вновь, ловить нежный невинный взгляд, вдыхать ее аромат. Сердце зудело, я весь издергался и исчесался, пока Нина нежданно не постучала.
– Женя, вчера вы звали меня на пироги… – смутилась барышня, увидав мой огненный взгляд. – Ваше предложение еще в силе? Остаюсь на весь день здесь, Федор Федорович положил ехать без меня.
– Я быстро! – вскрикнул я, метнувшись за сюртуком.
Реакция у меня была предикая, потом вспоминая ее, я стыдился. Сначала мы с барышней просто бродили по улицам. Затем зашли в чайную, где Антонина попробовала персиковый пирог и заключила, что он хоть и вкусный, но не такой, как у няни. Потом участвовали в уличных танцах, а вечером побывали в ресторации, где я спустил много денег, потому что кроме еды заказывал еще и музыкантов. Когда завечерело, мы ходили провожать закат на набережную с высокой сухою травой. Покуда мы внимали тишине и слушали запахи осени, наблюдали плеск рыбы в воде, яркое оранжевое солнце ласкало наши лица. Антонина сидела на скамье, склонив головку на мое плечо. Я гладил ее ручку, целовал пальчики с тоненькими белесыми ноготочками.
– Вы взаправду Романов, Женечка? – как-то спросила Нина, подняв на меня взор.
– Нет, конечно, – усмехнулся я. – Точнее, я не тот Романов, что наш Государь. Прадедушка моей бабушки был немец Романн. Когда переселился в Россию и принял православие, стал Романов. Вот так.
– Да, в вас есть что-то немецкое, но как будто и восточное тоже.
– Кавказское; у меня отец грузин, – вздохнул я.
– Вы грустите, почему?
– Потому что, Нина, до сих пор не знаю, какой я национальности. Нельзя сказать, что русский, хотя дед мой был самый настоящий наш, степной. Так же нельзя сказать, что я немец, хотя европейское влияние в какой-то степени сказалось на мне: во-первых, как уже говорил, повлияли корни, во-вторых, взращенный на Европах, я забыл, чтó есть Россия. Меня от нее так отучали, что долгое время слепо верил в свою европеечность. Нельзя же и сказать, что я грузин, хотя отец мой был самый грузинский грузин из всех грузин на планете. В Грузии я никогда не был, грузинского не знаю, отца потерял, когда был ребенком, то есть, получается, что из грузинского во мне только кровь, но и та не совсем грузинская. Видите, милая, какая каша? В России не дорос, в Европах не прирос, в Грузии не вырос. Я чужд решительно всем и всему, как пальма, вырванная в песках, брошенная в землю соснового бора. Это меня угнетает.
Нина ничего не ответила, любовалась мною, гладила волосы, мизинчиком дотрагиваясь до уха. Она не могла понять сказанного, но сожалела. Притянув к себе, она быстро поцеловала меня и отпрянула, отвернувшись. Не мешкая, я развернул ее и тоже поцеловал. В жизни моей не так много моментов, которые можно припомнить с замиранием сердца. Но наш первый поцелуй был одним из таких, которые составляют самые ценные находки в сундуке с сокровищами.
– Я вас люблю, Нина. Знаю, не должен этого говорить спустя столь немногие дни знакомства. Вас, должно быть, отпугнуло мое признание, и вы подумали, что человек я несерьезный? Право, мне бы очень не хотелось, чтобы вы сложили обо мне эдакое мнение. Обычно я держусь и в чувствах, и в словах, но теперь не могу.
– Совсем так не подумала, – улыбнулась она, на лице ее обыкновенно проступили ямочки; я зацеловал лицо ее сумасшедше, с чрезмерной горячностью. – Я тоже вас люблю, Женечка. И это так прекрасно! Никогда бы не подумала, что любовь вправду может разлить зарево света в душе. Раньше слышала только нехорошее, страшные истории разочарований. Вы подарили мне надежду. И вы так добры, так чисты, Женя. Моя речь так нескладна, Господи? Совсем не умею сказать так же хорошо, как вы.
Умилившись, я еще раз поцеловал Нину и обнял ее.
– Все равно, главное, вас понимаю, – отвечал я.
– Как вы хороши, чувствуете ли это? Вы благодушны, как ангел или древний монастырский старец, которому можно поверить любую тайну. Странный комплимент, понимаю, но такое всеобъятное тепло, как в вас, я встречаю впервые. Вы ассоциируетесь у меня с церковью.
Я промолчал и сильнее сжал барышню в объятиях. Скоро стемнело, солнце скрылось за горизонт. Явился прохладный ветер. Накрыв Антонину сюртуком, я приобнял ее. Так мы и прошагали до Пожарских, не страшась, что нас может заметить вернувшийся Федор Федорович. Расставшись во все том же коридоре, мы договорились встретиться на чай. Пока я дожидался самовара, Нина, что-то взяв из комнаты, ушла вниз. Когда вернулась, то сообщила, что Федор Федорович простыл, и что она уложила его спать. Еще долго мы сидели, как и в первый день знакомства, за чаем. Все так же брынчали на гитаре, читали стихи. Опять Пожарская нас согнала, и снова мы сели в моем нумере. Чем дольше общался с Ниной, тем сильнее она мне нравилась, но чем сильнее я влюблялся в нее, и надвигалась ночь, тем скорее рассеивалось мое и без того небрежное внимание, тем ниже я опускался от поэтических чувств.
Луч рассветного солнца, блеснувший в очи красным пламенем, заставил пробудиться. Хрупкое плечо Антонины алело зарей и ровно подымалось то вверх, то вниз. Сначала я поцеловал ее тонкую руку, украшенную родинками, затем провел по ней пальцами, не подразумевая разбудить, но Нина без того не спала. Поворотившись ко мне, она боязливо поглядела и кивнула, как бы спрашивая, зачем я смотрю.
– Уедем, Нина? – предложил я, лобзая ее пальцы.
– Как же?.. – удивилась она.
– Просто! Собирайся, поедем до Твери.
– Ты хочешь?..
– Да, хочу. Ты не должна жить с этим стариком. Никакое богатство не стоит мучений, которые ты на себя взвалила, нет таких денег, из-за которых стоит ухаживать за человеком, изливающим не слова благодарности, а нескончаемые упреки. Нет таких злат, ради которых стоит жертвовать собой. Надо жить согласно с душой, а не с деньгами, – поднялся я, накидывая вещи в чемодан.
Сперва Антонина, натянув на себя одеяло, наблюдала за мною, приподнявшись на кровати. Лицо барышни было сонным, волосы растрепанными, но вместе с тем она выглядела вдвое краше, чем с бесконечными завитками сложной прически. Замечая, что я решителен и не отступаю, она смущенно накинула на себя мой халат, собрала свое раскиданное платье и ушла собираться. На сборы мы потратили немного времени, уже вскоре мчались до Твери. Пока во мне бесновались пылкие чувства, пока я улыбался и любовался всему сущему, Антонина пребывала подавленной и смутной. Тогда не желал думать, что она боится, не уверенна, что в голове ее могут возникнуть самые опасные мысли. Наслушавшись и насмотревшись предательства, она ждала от меня подвоха и усиленно выглядывала во мне любое изменение настроения.
Остановились мы в одной из самых дорогих Тверских гостиниц, на нее ушли оставшиеся деньги, что не могло меня не расстроить. Перед тем, как лечь спать, я обшарил панталоны, потряс сапогами, нашел в конце концов только десять рублей. «Еще в сюртуке вшита заначка на рукаве, две тысячи, но этого нам не хватит на двоих на долгое время», – омрачился я, поглядев через щелку на свою барышню. – «И зачем увез ее, ведь у меня нет средств на двоих. Десять рублей уйдут завтра же, а две тысячи заготовлены на самый крайний случай, их нельзя просто так вспарывать». Стоило лечь к возлюбленной, она одарила меня поцелуями. Глаза ее постоянно бегали по моему лицу.
– Отчего ты грустен? – опасливо спросила она.
– Нет, ничего, – всего лишь ответил я, вздохнув горько и улыбнувшись неказисто.
Объятия мои стали холодны, взор больше не смотрел прямо, но не потому, что я вдруг разлюбил Антонину, а оттого, что мне было стыдно перед нею: «украл, то есть пообещал беззаботное будущее, а сам даже не знаю, на какие шиши ее кормить завтра!» – думал я. Слова мои и настроенье Нина истолковала прямо наоборот, ей увиделось, что я ее не люблю, что использовал и готов бросить. Пока засыпали, она лежала ко мне спиною. Знал, что она плачет, но делал вид, будто не замечаю.
Резко проснувшись, я подскочил на кровати, скинул одеяло – Антонины не было. Тогда бросился в следующую комнату, служившую как бы будуаром – там тоже никого и ничего. Когда принялся собираться в погоню, судорожно носясь с вещами, то заметил, что на столике у окна лежит Нинин платок с лилиями, а сверху него записка, развернув которую, я прочел:
«Никогда еще не была так счастлива, как с вами, Женя, но я решила, что не имею права ломать вашу жизнь. Я уже сломала свою, выйдя замуж за старика, купившись на деньги, но и жизнь этого старика тоже сломала: сначала тем, что не любила его, даже как отца или дедушку, а затем побегом с вами. Федор Федорович немощен, ему восемьдесят пять лет, он не может даже передвигаться на большие расстояния сам, ему нужна моя помощь всюду. Сбежав с вами, я начала ломать еще и вашу жизнь. Знаю, пока вы влюблены в меня, но ваша влюбленность уже начала проходить… Не подумайте, Женечка, вас не осуждаю ни за что. Напротив, я счастлива, что вы любили меня хотя бы один день, что я впервые полюбила и именно вас.
Вы должны быть свободны, Женя, я не хочу вас сковывать и обременять заботой о моем благополучии.
Я вас люблю.
Навеки ваша Нина».
Вылетев из гостиницы, я помчался в преследование. В Твери сказали, что моя Антонина, она же дама в синем платье, уехала в Торжок, уже там меня отправили в Вышний Волочек, откуда я помчался в Руссу, прибыв туда на полумертвых, запыхавшихся лошадях к единственной станции. Свидетелей, видавших даму в синем, я отыскал сразу, они мне объяснили, что «барышня с дедушкой» держат курс до Петербурга. Долго я бегал от одного ямщика до другого, требуя лошадей, но все отвечали, что лошади загнаны. Когда отчаяние мое достигло дна, нашелся-таки добрый человек. «Кому там конь был нужен-то, а?» – спрашивая, восклицал любезный. Только я вскочил на лошадь, этот купец прибавил, что ехать надо по окружной, что барышня в синем отбыла недавно, что успею нагнать. Сперва жеребец брыкался, не слушался меня, но вскоре сдался и перестал противиться, мчал во всю прыть послушно. Спустя значительное время погони показалось два экипажа – первый ехал мне на встречу, по левой стороне, второй двигался по правой, был Антонины и ее престарелого мужа. К тому времени мой конь уже хрипел, пот его и пена брызгали мне на лицо. Неожиданно изнеможенное животное издало резкий хрип. Лошадь повалилась головою вперед, а я, знатно вылетев из седла, покатился по ямам, кочкам и камням. Меня швырнуло до приближающейся кареты прямо в ноги встречных лошадей.
Очнулся в госпитале спустя два дня. Подле меня сидел доктор: седоватый, умного вида мужчина в простых овальных очках. Недалеко от него я заметил свои вещи, то есть чемодан, оставленный у того доброго купца, который подал лошадь. Попытавшись окликнуть врача, я издал хрип.
– Ну слава Всевышнему! Доброго здоровьичка! – просмеялся доктор, намереваясь напоить меня водою.
– Д-дай-те мне, я с-сам! – едва произнес я, дернув руку к стакану, но ощутил, что привязан к кровати.
Не сейчас члены затряслись конвульсивно, меня начло колотить в разные стороны и буквально приподымать. Доктор засуетился, позвал медбратов, которые налегли на меня, чтоб сдержать порывы рук, ног и туловища. Влив мне в уста жгучую гадость, растекшуюся по губам и закравшуюся в нос, врач взял в руки тетрадь и начал, пристально глядя на меня, что-то записывать.
– Вы припадочный? – спросил доктор.
– Не-нет, – произнес я, заикаясь.
– Куда же вы мчались, несчастный? Чуть насмерть не убились. Вы помните что-нибудь? – вновь поинтересовался врач, и тогда я начал, хоть и запинаясь, рассказывать ему, что помню. – Тоже интересно. Память отличная, не отшибло при падении. Удивлен, как вы вообще выжили! Вас так перевернуло, так пронесло, что любой другой человек умер бы.
– Ч-ч-то со мной, д-док-ктор?
– Вы про заикание? Ну теперь это, возможно, с вами навсегда. Но заикаться – еще цветочки, главное, чтоб вы сами пошли. Вам колено ушибло, голову разбило. Наткнулись вы прямо на камень. Отвязать вас не могу пока, с вами каждые полчаса происходят судороги. Поэтому и спросил, была ли у вас падучая прежде? Если вы вдруг стесняетесь сказать, то спешу растолковать, что никуда дальше стен этих болячки ваши не пойдут. Очень бы рекомендовал вам признаться.
И я вновь заверил, что у меня никогда не было припадков.
– Дамочка в синем, которая с дедом со своим ехала в ту же сторону, куда вас несло, аж выскочила из экипажа, спросила, живы ли вы? Я сказал, что насчет вас не знаю, но лошадь точно померла. Мамзель вскричала, как ошпаренная, бросилась к вам, начала трепыхать! Странная, право слова! Делает же Бог таких участливых дамочек, – вставил доктор. – Забыл представиться, я Чурсов (с ударением на вторую гласную), по совместительству ваш лечащий врач. Кстати, заметили ли вы, что мы нашли ваши вещи?
Но я не ответил, зажмурился. Хотелось плакать, едва держался от этого, правда, тело предательски выдало все роившиеся в сердце чувства. Меня снова начало трясти, а потом и подбрасывать вверх.
Описанные припадки, только с изменением реплик, продолжались еще три дня. Потом доктор поклялся обеспечить мне спокойствие, забрал к себе домой безвозмездно. У него за мною ухаживал его младший брат, жена, мать и дочка Варенька, девушка семнадцати лет. В течение недели судороги ослабли и почти оставили меня, только изредка напоминали о себе небольшим дрожанием в пальцах. Говорить я старался меньше, стыдился заикания, да и затем, чтоб не докучать приютившим. Когда начал сам вставать, выходить на прогулки в сад, дочь Чурсова без спроса разобрала мой чемодан, отыскав среди белья горелую книжку стихов. Прочтя произведения, она сделала вывод, что я глубоко несчастный, многое перетерпевший страдалец. Относиться ко мне стала с сожалением и, всякий раз говоря со мною, подымала бровки и делала без того писклявый голосочек еще более писклявым, как бы нежным. Вечерами Варя любила, чтобы я сидел подле ее, пока она вышивает. Ей нравились мои рассуждения, как я пересказывал прочитанное когда-то или сочинял истории. Бывало мы с нею играли в карты. От проигрышей Варенька расстраивалась, могла целый день потом со мною не разговаривать.
К середине ноября я и Чурсовы окончательно привыкли друг к другу. Правда, расклад дел смешал товарищ доктора. Им был тот самый городничий, который еще при г-же Пожарской стоял предо мною на коленах и извинялся. К той поре городничий уже понял, что его подурачили, так что встретившись со мною вновь, он взбесился как по щелчку. Все Чурсовы поддались влиянию городничего и возненавидели меня мгновенно, начали бранить и поминутно делать какие-нибудь замечания. Даже Варенька стала фыркать и бросать в мою сторону неоднозначные взгляды, хотя до откровений городничего испытывала ко мне самую милую любовь. Под покровом ночи я решил сбежать. Когда Чурсовы уснули, я тихо собрал вещи и навестил комнату Вари, забрал от нее свою книжечку, всегда укладываемую ею под подушку. Выйдя в столовую, оставил на листке: «не побрезгуйте моею благодарностью за вашу милость», положив с запиской тысячу, присланную бабушкой, пока жил у Чурсовых. Выехав из Руссы, я вернулся в Тверь, пересел там на свой экипаж и отправился в Москву. Дорога была непостижимо однообразной и скучной, один туманный простор сменялся другим, и этому всему, казалось, не было конца и края.
Восходя к бабушке по старинной лестнице, устланной красным ковром, я ощущал себя поднимающимся в суд. Бабушка всегда находилась вдалеке от меня, являлась недосягаемой ледяной глыбой. Проворачивая в голове тысячу оправданий, почему сорвался из Павловска и не заехал в Москву, зачем вернулся в Россию, я замедлял шаг. Немного простояв у белых дверей квартиры, я все-таки постучал. Встретив меня, слуги взяли чемодан и препроводили в кабинет, отделанный карельской березой, где Катерина Михайловна пересчитывала расходы. Когда вошел, она держала счеты и переставляла их, в уме запоминая цифры.
– Ну здравствуй, Серж. Садись, пожалуйста, – поглядев на меня поверх очочков, недоброжелательно пригласила она.
– И вам доброго вечера, Катерина Михайловна, – присел я.
– Ну-с? Надолго в родные пенаты? – прозвучал первый ее вопрос.
– Нав-сег-да! – с расстановкою прошептал я.
– Сижу, считаю твои траты в Европе. Столько денег вложила в твое образование, и ты говоришь мне, что приволочился навсегда? На тебя ушли миллионы, – строго сказала она. – Обзавелся ты там связями?
– Никак нет.
– Чего катался тогда, богатым себя почувствовал? – напирала она, по-мужски сложив руки в замок; я молчал. – Стыдишься, раз сказать нечего? И недавно, зачем ты попросил у меня еще, куда ты потратил предыдущие, на актрис? Еще не хватало, чтоб лешовок твоих содержала! Итак, колись, зачем ты просил много недавно?
– Бездумно потратил предыдущие, Катерина Михайловна.
– И так пашу как лошадь, управляю имением! Между прочим, твоим имением с твоими крестьянами, а ты Европу бросил, не служишь, шататься по России вздумал, еще и бездумно тратишь! Ты кого возомнил из себя?! Пора бы закатать губу, Серж, из-за тебя мы уходим в разорение!
Катерина Михайловна хотела дальше раскричаться, но странный припадок, вновь охвативший мое тело, напугал ее до полусмерти. Забегав по квартире, она выбрала рослых людей и приказала уложить меня на диван. Около часу я дергался, не мог дышать из-за сбивчивого ритма сердца. Бабушка не понимала, что со мною делается, порывалась позвать за доктором, разворошила всех и все, что можно. Штат слуг стоял на цыпочках, выдрессировано бегал по ее поручениям то за водою, то за каплями валерианы, то за мокрыми платками, в общем, подносил ей все, что бы она ни придумала. Напившись всевозможными настойками, я спокойно сел и, наконец, ровно задышал.
– Женя, лопушок, тебе бы на минеральные, а?.. Дам сколько хочешь денег, ты только поезжай, а, родненький? – затрепетала Катерина Михайловна. – Какой-то ты нервный, что у тебя?
– Ничего, – тихо проговорил я, расстегивая ворот.
– Я же вижу, что чего, кровинушка, – вздохнула бабушка. – Может, свадьба Фирсовой тебя развеселит, а? Тетка ей такого забавного жениха наковыряла, обхохочешься, Женька. Представь: у него два передних зуба торчат, точно у кролика, он шепелявит, картавит, уши его как пришиты – огромные донельзя, ходит в круглых очках, лыс не по возрасту, глазюшки маленькие, как мухи. Это ужас что такое, зато лорд! Поедешь на свадьбу, а, Жень? Тем более нас пригласили. Все наши соберутся, как в старые добрые времена. Туда и Несвицкая придет! Помнишь Тамарку Несвицкую, а?
– Такую не забудешь!
– Не кричи, лопушок. Я хоть и старая перечница, да не оглохла еще. Тебе как, лучше, нет? Дать пиона?
– У вас годовые запасы что ли, Катерина Михайловна? Не надо мне. Уже опьянел от ваших настоек.
– Ну и замечательно. Тогда знаешь что, давай поговорим о службе? Намерена восстановить тебя, раз уж ты насовсем приволочиться изволил. К тому же, вижу, ты и так поручиком ходишь. Недавно с важным лицом познакомилась в салоне. Лицо это тебя протолкнет на службу. Чего хмуришься-то? Когда умру, ты думаешь, проживешь на отставные, что ли? Тебе платят гроши, а к сладкой жизни ты привык.
– Придется раньше вас помереть.
– Возражений не потерплю. Все служат, и ты служить будешь, никаких «но»! Мне, как женщине, положено дома сидеть и вышивать, но все-таки не сижу и не вышиваю, я помещица и работаю, а ведь должна противиться. Ты мужчина, у тебя должно быть дело серьезное, ты должен быть пристроенным, понимаешь? На стихах своих, если еще надеешься, далеко не уедешь, так что не вредничай. Скоро тебе невесту найдем, женим, а там и детки у вас будут, поэтому работа тебе нужна. Все работают. Вон даже Пушкин устроен.
– И ни дня на посту не появлялся.
– Сказала, что будешь служить, значит, ты будешь! И чтоб не слышала я выпендрежей твоих! Завтра же полетишь к генералу! Серж, куда встал-то, а?
– Зачем вы мне теперь все это говорите, бабушка? Разве вы не видите, я болен? – нервно ответил я.
– Вижу, – с намеком процедила она и, махнув рукою, снова села за стол и взяла счеты.
Еле выйдя из кабинета, я направился по стеночке в комнаты правой части квартиры. Часть эта всегда принадлежала мне, мебель в ней не изменяла местам, обои не переклеивались, так что комнаты встретили меня с прежнею гостеприимностью дома. Переодевшись в ночное, я упал в кресла. Перечитав свои старые произведения, дневник, я немножко покурил и, испив до дна толстый самовар чаю, лег спать. Но сон долго не шел, несмотря на головную боль от настоек и губительную слабость. Я размышлял о земной жизни, мне становилось грустно от мирской суеты, от разного рода мошенничества, от скопившейся в людях ненависти, от существования ради денег, а принцип: выживает наглейший, щипал мне сердце. Замечал, что у многих не было никакой высшей цели бытия, а тех, у кого она была, давили как клопов, травили точно тараканов. «Ведь даже Пушкина некоторые ненавидят! Какая-то жалкая Полетика – черт-те кто, человек без единого таланта, создала против него целую коалицию, это раз, второе – бесконечные издевательские эпиграммы, пересуды на него хлещут водопадом. И судьи кто? А судьи ничтожества вроде моей четверни, которые сами по себе ничего не могут, даже мозг один общий на толпу, зато бросить чужой труд в костер, сжечь, растоптать, покусать – им за счастье. Я никогда не знал Пушкина лично, только мечтал, но через знакомых не раз слышал, скольких усилий ему стоило что-нибудь издать! И эти усилия чертями, а по-другому их никак нельзя именовать, ни во что не ставятся. Всякую сволочь пропускают сразу, видят в ней Иисуса, а настоящего Иисуса вешают на распятье всякий раз, чуть он появится. В низшей конторке сидит чей-нибудь малограмотный племянник с отбитым чувством вкуса, с отращенным династическим пузом, а в инстанциях повыше – чей-нибудь бездарный сынок с правом отбирать зерна от плевел. Душа болит нестерпимо! Сколько мест занято людьми, которые не должны занимать эти места, сколько талантов прозябает в частях или в нищете, или без нужных связей! Как страшно!» – думал я, бесконечно разглядывая лепнину потолка.
Всю следующую неделю я разгуливал по бабушкиным связям, как по булевару, восстанавливался на службе. Вернувшись в столицу, в Петербург, все восемь дней делал визиты. Никто, к моему сожалению, не интересовался, написал ли я новые стихи или прозу, всем было глубоко все равно, если не сказать совсем прямо – наплевать. Один только знакомый раз спросил с меня о писательстве. Глупо обрадовавшись вниманию, по его же просьбе дал ему на почитать четыре своих рассказа. Он прочел только один, даже прелюбезно похвалил, но стоило мне через пару дней спросить, ознакомился ли он со следующими, тот отрезал: «нет, у меня и так дел по горло!». За день до свадьбы Фирсовой свет собрался в салоне Несвицких. Там между мною и Тамарой вновь разошелся прежний спор о Европе. Пощады подруга дней суровых не давала мне, а я не спускал ей ни одной фразы. Ссора наша закончилась ее звонким выкриком: полоумный! Так что уже на свадьбе Фирсовой, каждый пятый считал меня неадекватным. За ужином Несвицкая подмешала мне какой-то несусветной гадости в кушанье, чем снова выставила сумасшедшим – меня затошнило и я, подорвавшись на глазах у многочисленной публики, пулей выбежал из столовой. Еле сдерживаясь, я проделал значительное расстояние до сада и, свесившись там на перилах, отплевался. Почти следом явился один из моих давних знакомых, древний дворянин, род которого проявился еще при Грозном. Выхватив один из бокалов, которые тот принес, я залпом выпил содержимое.
– Это было мое… – не успел сказать пришедший и коротко рассмеялся. – В самом деле, вы какой-то несдержанный! Чего бросаетесь-то?
– Что за гадость? – задыхался я.
– Чача, мой хороший! – улыбался тот, глазки его стали вдвое уже. – А вам я принес вино, я-то вино не люблю! Закуску надо вам? У меня шоколадная конфекта завалялась, дать?
– Нет! – выпалил я. – Давайте лучше постоим, отдышусь. Расскажите мне что-нибудь.
– Что-нибудь? Ну даже не знаю… Ведаете ли, что ваша Несвицкая собирается замуж? За ней приударил один богатенький немчик. Слышали вы про фон Кнауса? Вот, это ее будущий муж и есть. Он уже сделал ей предложение, она дала согласие.
– Неужели?
Я всерьез задумался о том, что нужно отмстить за брошенную в камин книжку стихов и слухи о сумасшествии.
– Да-да, мой хороший! Пока вы где-то там катались, она успела состряпать себе выгоднейшую партию, – подтвердил древний молодой дворянин. – А еще у нас в Петербурге лилия цветет! Мы так ее и называем: лилия севера. Вы-то ее, кажется, еще не видели?.. Она никогда не приезжает на ужины, сразу на танцы, так что увидите ее сегодня, я вам укажу издалека. Лилия наша жена владетеля золотых приисков на Урале. Красивейшая особа, не хуже Несвицкой… хотя, куда не хуже, в сто раз лучше! Зовут ее Антонина Сергеевна Барт, но она просит величать ее мило и коротко – Тоней! Ниной зваться не любит. Ваша Несвицкая, к слову, с нею большие подруги. Если вы упросите ее познакомить вас, то непременно прочтите Тоне свои стишки… вы же пишете еще? Короче, если еще пишете, она вас протежирует повыше, станете известным писакой.
– Давно вы ее знаете? – нахмурился я.
– Да вот, как вы уехали, так сразу. Сколько времени вас не было в наших краях, года три?
– Четыре.
– Ну все равно. Вот столько, мой хороший, – выливая вино в клумбу, вздыхал собеседник. – А знаете что! Жаль, что вы не застали на Тоне ее расшитого лилиями платка! Казалось бы, да, что может быть примечательного в платке? Но вы представить себе не можете, как он нас всех околдовал!
Когда молодой дворянин задумчиво прервался, я вспомнил, что буквально перед выездом на свадьбу Фирсовой обмотал тело платком Антонины – единственной теплой вещью, которая оказалась под рукой. Буквально ощутил, как пестрая тонкая шерсть с красными лилиями на синем полотнище обвивает мои плечи и грудь под парадной военной формой. Общий план мести Нине и Тамаре родился сам собою, стал подсасывать и требовать скорейшего воплощения, правда, в ту минуту я не совсем понимал, как его осуществить.
– Несвицкая, вы говорили, замуж выходит за г-на фон Кнауса? – переспросил я.
– Да не выходит еще, мой хороший, а только собирается! Как вы слушаете? Там, кстати, танцы пошли! Давайте в зал, – прекратил древний дворянин, заторопившись со мною обратно.
Пока общество танцевало, я таки заметил Нину в толпе. Она тоже меня узнала, но посмотрела, как на отребье. Взгляд ее был таков, будто это она страдала отверженной, как я страдал, будто она летела с коня, как я летел, будто она потом мучилась судорогами и заикалась, а не я. Взгляд ее пылал бешеной ненавистью, высокомерием и отвращением. В ней не было ничего от той девственной девушки, которую я познал. Нину утягивало красное газовое платье на атласном чехле. Декольте ее было глубоко, плечи и руки вызывающе обнажены. Она нарочно привлекала внимание своей крайней оголенностью, бросала вызов толпе, в том числе и мне. Она не могла не знать, что мы встретимся и, возможно, подбирала наряд исключительно для встречи со мною. Конечно, находились смельчаки, а то были только престарелые дамы, которые могли в компании обсудить укоризненно наряд Нины, но в основном все раболепно молчали.
Выискав Несвицкую, я принялся за нею волочиться, выставляя себя то посмешищем, то заступником, то обиженным влюбленным. Поначалу Тамара разыгрывала предо мною прежнюю личину неприятия. Но, когда в удачный миг маменька Несвицкой оставила нас, притворство ее не выдержало моих слез, разжалобилось и лопнуло.
– Устал ссориться с тобою, Тамара! Неужели ты не видишь, что я постоянно выпрашиваю толики внимания твоего? Мне сказали накануне, что ты замуж собралась, и я подумал: пусть лихие пули убьют меня, если любовь моя другому отдана, если милая особа, с которой меня связывает многое, не хочет обратить на меня даже взгляда! – выступал я, задыхаясь от театральных слез. – И всегда, слышишь? Всегда я дорожил тобой! Когда меж нами произошел разлад, я начал страдать! Считай, именно из-за тебя я укатил в Европу, когда мог учиться здесь! Сбежал! Но знаешь, если в твоих глазах я уже погиб, то осмелюсь вскрыть карты: по сей день трепетно храню одну памятную вещь, которая всегда служила мне напоминанием о твоей любви…
Вынув кулон с половинкой сердечка, который нашел в барахле за несколько дней до свадьбы Фирсовой и собирался выкинуть, я показал его Тамаре.
– Ах! Ты хранишь? Я тоже, Сержик! Он всегда со мной! – расчувствовалась девушка, вынимая кулон со второй половиной сердечка. – Сержик, а ведь думала, что ты меня не любишь! Да еще и случай этот давнишний… впрочем, не важно! Все не важно! Только теперь сознала, какая я злая, мстительная! Прости меня за все, дорогой! Я специально издевалась над тобой! Все назло! Сержик, прости! Какая я гадкая! Но как счастлива, что мы теперь помирились!
По мере своих откровений Несвицкая все больше дрожала и даже заплакала, то есть использовала излюбленный женский прием, чтобы окончательно примириться и разжалобить.
– И я счастлив, что меж нами настал долгожданный штиль! – утерев Тамаре слезы, сфальшивил я. – Давно нам следовало объясниться.
Недолго Несвицкая еще пускала в мою грудь слезы, утиралась платочком и жалостливым взглядом сверлила меня, пока, наконец, не придумала, что сказать.
– Как хочу представить тебя своей подруге, Сержик. Вы непременно понравитесь друг другу, уверена! Кроме того, она будет полезна твоему творчеству, у нее капитальные связи. Вижу, ты не хочешь, но послушай: твои стихи она протолкнет, Пушкин у нее часто гостит. Тебе стоит только заделаться в знакомые к Александру Сергеевичу, как каждый заинтересуется, что же ты там пишешь. Пожалуйста, Сержик, не отнекивайся! Я так хочу сделать тебе приятное во искупление всех своих прегрешений!
– Твои друзья – мои, с радостью познакомлюсь. Сейчас только утру слезы и выйду. Ты ступай пока без меня, – просил я.
– Мы совсем-совсем помирились? Я могу порадовать папеньку? – переспросила Несвицкая.
– Порадуй, – ненатурально улыбнулся я.
Поцеловав мне щеку, Тамара вышла из-за колонны и торопливо пошла к отцу. Г-н Несвицкий так же, как и Тамара обычно, сперва всем своим существом пародировал глубоко обиженного, потом таинственно улыбнулся и отошел к жене. Это значило только одно: он меня простил, уже обдумывал, что делать с фон Кнаусом. Пока ему на ум приходили несложные мысли, я знал, что предпринять. Оглядев залу, выискав жениха Несвицкой, я взял старый смятый листок и чиркнул ошеломительную характеристику фон Кнауса, которую, якобы, дала Тамара. Целенаправленно двинувшись в его сторону, я пошел тараном и врезался, как бы нечаянно выронив записку.
– Ах, это вы! Как вы очаровательны! – улыбался немец, примечая комочек бумаги возле себя. – Совсем даже не сумасшедший! Признаться, про вас такое насочинять успели!
– Мне про вас тоже многое наговорили! – насмешливо бросил я и скрылся, оставив немца в замешательстве.
Когда оборотился, он, возмущенно бледнея и вытягиваясь, бегал глазами по нежданной почте. Не умея выговорить членораздельно, он пыхтел, глотая воздуха. Зашагав было к Тамаре, он прошел середину расстояния и, оскорбленно покраснев, передумал, резко изменив маршрут. Пристанищем его стал Виктор Степанович Несвицкий. Прочтя записку, отец Тамары вытянулся и побледнел, его длинные закрученные усы обвисли. Заядлые светские сплетники стояли тогда сзади их двоих, но в лорнеты хорошо могли рассмотреть написанный текст. Уже через минуту по залу пробежал чей-то остроумный анекдот про фон Кнауса, и понеслось! Встав рядом с Тамарой, я чуть прокашлял для привлечения внимания. Несвицкая обрадовалась и, схватив меня за руку, ввела в визгливый и льстивый кружок, сформированный вокруг Антонины.
– Тоня, позвольте представить вам моего давнего друга – Сергея Георгиевича Романова. Серж у нас бывает жутким занудой, но человек крайне интересный, стихи пишет необыкновенные. Вам обязательно надо послушать!
Подойдя к Антонине, продолжающей глядеть на меня с отвращением, я поцеловал у ней протянутую вниз ручку. Мое прикосновение, томное лобзанье заставило ее встрепенуться, точно током ее ударило. Лицо Нины резко изменилось, она покраснела, стала беззащитна и будто только осознала, какое откровенное платье надела. Она устыдилась решительно за все. Глаза барышни забегали, точно каждый видел ее насквозь и знал, что между нами был роман. Усевшись на диване напротив Пушкина, который любопытно поглядел сперва на Нину, потом на меня, оценивая отношения, я задумчиво соединил пальцы перед собою. Антонина трепетала и искала помощи, но льстивые глазенки вокруг не могли ее спасти. Подметив возникшее волнение барышни, свет стал пристальнее всматриваться в нее и пытаться разгадать причину.
– Почему прежде о вас не слышал? Задайте нам что-то из своего! – добродушно просил Александр Сергеевич, спасая обнажившуюся тайну от полного раскрытия.
– Признаться, я мечтал с вами познакомиться, но, как назло, не взял с собою книжки со стихами. Сейчас что-нибудь вспомню, – покраснел я.
Только задумался, отыскивая в мозговой библиотеке подходящее стихотворение, настроение поэта резко изменилось. Глядя в одну точку, Пушкин извинился и, энергичным жестом схватив свои перчатки, стремительно вошел в толпу вальсирующих. Это вызвало общее замешательство, все мы оборотились, начали выглядывать поэта в пляшущем сонме. С досадою поднявшись, я поклонился и тоже собрался идти.
– Разве не прочтете нам своих сочинений? – насмешливо спросила Антонина.
Был бы у Нины другой тон, я бы не стал продолжать месть, но уж проведение точно само подтолкнуло ее спровоцировать меня. Еще поклонившись, я учтиво промолчал и ушел за колонны в конце зала. Пока вытаскивал из-под формы платок, подле Нины собралось еще больше народу: вышли статс-дамы, появился Федор Федорович и прочие сановники старых да новых времен. Даже Фирсова и ее ушастый муж, ради которых устраивалось пиршество, присоединились к Нине, словно праздник был у нее, а не у них. Подойдя к Антонине со спины, я накинул на нее синий платок с лилиями, который, как заметил, был знаком каждому. Многие переглянулись, кто-то подавился напитком, а Тамара подскочила на месте и взвизгнула. Поглядев сначала на хвостик своего платка, затем на мои руки, следом в мои глаза, сев в пол-оборота, Антонина раскрыла ротик.
– Ваш платок, Нина, – произнес я и, улыбнувшись, мерно отправился к выходу.
Катерина Михайловна, издалека наблюдавшая, тоже заторопилась следом. Одевшись, мы отправились в нашу Петербургскую квартиру. Ехали при полной тишине, которая продлилась и после, когда я собирался в дорогу. Бабушка хоть и стояла подле, но не смела, да и страшилась прервать поток моих мыслей, решительность действий. Дважды, замечая неаккуратность, она присоединялась складывать мои рубахи в чемодан. Перед выходом, правда, Катерина Михайловна все-таки не выдержала. Схватив меня за руку, она остановила и заговорила.
– Да куда же ты опять сбегаешь?
– Служить. Вы же хотели, чтобы я служил? Как послушный внук исполняю ваши желания. Пока буду служить, авось, выпрошусь на Кавказ. До свидания.
– Подожди, лопушок, да возьми денег-то, а! – толкая мне в грудь конвертом, умоляюще растянула бабушка.
Положив деньги на консоль, я поцеловал ее высеченное немецкое лицо и отбыл. Сердце мое было печальным. Пока ехал, глаза постоянно слезились, но я пересиливал себя. До Европы, к слову, я много плакал, много смеялся, но тяготы, которые пришлось там перенесть, отбили всякую способность порядочно ощущать мир. Если я хотел плакать, то лишь небольшая влага проступала на глазах моих, если хотел смеяться, то только улыбался, если мне было грустно, печально и одиноко, то я чувствовал это поверхностно, то есть не было такого чувства, которое задело бы меня глубоко. Сердце мое закрылось. Одна только Нина смогла возбудить мурашки, волнение и неописуемое беспечное счастье. Дорогой до части я не вспоминал взгляд Антонины на балу, напротив, тосковал исключительно по хорошему былому. Правда, все мысли мои были о Нине не как о реальном человеке, а как о мечте, которая когда-то давно грела меня.
Прибыв на место, я ушел доложить, что явился к службе. Начальник штаба отметил, что на мне нет лица, что я бледен и, по его мнению, заболел. Слал он меня домой, но я изъявил настойчивое желание остаться. Две недели служил добротно, ко мне не было нареканий. Вместе с тем пытался выпросить Кавказ, но так как сплошь и рядом в части все высшие чины приходились бабушке моей друзьями, они неумолимо отговаривали ехать под тем обоснованием, что для Кавказа я слишком слаб нервами. Все как один твердили, что такому нежному, как я, там нечего делать. Но я рвался именно в горы, туда, где опаснее. Итак, уехать мне помог удачный случай. На смотре, когда великий князь похвалил меня персонально, я обнаглел и попросил его отослать меня на боевые действия. Великий князь был недоволен самовольничеству, командиры оскорблены выходкой, но все-таки с отправкой не задержали.
Прибыв на Кавказ, сразу же ринулся в экспедицию. Внимание сослуживцев завоевал быстро. Начальным позывным моим стал «малыш» за невинность в сражениях, и до поры до времени все относились ко мне, как к своему детенышу, то есть с покровительством. Недели через две я начал ухарствовать, но не потому, что не боялся свиста пуль, а, напротив, только от страха, поэтому следующим позывным стал «ухарек», отсюда и «хорек». Это прозвище честно держалось за мною два месяца, но уже после, когда ухарство достигло пика, меня нарекли сумасшедшим. Первые видели в моем лице хвастуна и безумца, бессмысленно бросающегося в опасность, вторые жестоким воротилой, так что следующим позывным стал «Бешвар», произведенный от слияния двух кличек: бешеный и варвар. В итоге мое настоящее имя стало диковинкой, решительно никто не мог вспомнить, что я Сергей Георгиевич, а не Бешвар Георгиевич.
Когда нас приставили к награждению, высочайшим указом мне выписали повышение на имя Романова Бешвара Георгиевича. Едва переспорил командира, что я не Бешвар Романов, а Сергей Романов. В связи с этим мое награждение значительно затянулось, пока не переделали документы. Самое неприятное во всей этой ситуации то, что меня же потом за Бешвара и наказали, во-первых, отправили на губу, где я заработал себе насморк, во-вторых, зачеркнули повышение в чине. Так я и остался поручиком, зато с наградной саблей и медалями, которым впоследствии бабушка порадовалась.
Но подробнее о позывном. Я будто вжился в этого Бешвара: кожа моя потемнела под палящим солнцем, лицо осунулось, глаза стали острее и расширеннее, отрасли бакенбарды и усы; характер стал груб и резок, я язвил без надобности, задирался на мелочи, порол правду-матку в лоб и напрашивался на поединки. Меня боялись, связываться не хотели вообще, извинялись даже там, где не были виноваты, почти раболепствовали и преклонялись. Кавказ, где я мог творить что угодно, быть злым, черствым проходимцем, пока судии столичные не видят, страшно распоясал меня. И к этой распоясанности я так привык, так выдрессировал себя быть грубияном, что в самом деле поверил, будто злость – моя натура. Сергей стал для меня чужим человеком, сопливым поэтом, плесневеющим в Петербурге. Прошлое отвращало меня за, как мне думалось в те дни, слабость: мечтательность и наивность души, а я хотел быть сильным. Притом эта агрессивная маска отнимала у меня много сил, каждый вечер я валился на кровать, точно подкошенный.
С возвращением в столицу я мешкал. Нарочно выдумал лечение и нанял доктора, который всюду за мною ходил, советуя воду и расписывая нормы. Всякое мое появление в салонах кавказских пленников соображалось со страхом и сплетнями: то ко мне привязывали беспричинную жестокость, то чрезвычайную пылкость характера. Хотя нельзя сказать, что сплетни эти были неправыми, я любезно подкреплял их новыми жертвами. Унижения, которыми травил бывших сослуживцев или случайных встречных, доставляли мне удовольствие, в них я видел свою силу. Был кровожаден до нового человека, которого мог покусать, а покусать смел большинство, потому что знал, куда метить. Господа питали ко мне самую жгучую неприязнь, но все-таки ничего не могли поделать ни со мною, ни с собою. А вот дамы, напротив, отыскали в моем лице некое геройство, которое их соблазняло. Иногда оставаясь в одиночестве, переставая балагурить, я нередко задумывался: «почему женщинам, даже самым хорошим, не нужны добрые, чувственные, нежно-любящие, верные мужчины, настоящие джентльмены, зачем они всегда выбирают сторону зла и вешаются на проходимцев?». Ответа положенному вопросу не было. Чем чаще я знакомился или меня представляли, тем больше я убеждался, что многие девушки обращают внимание только на тех, кто их ни во что не ставит…
Торгующие на базаре мирные кавказцы принимали меня за своего, диалоги вели на родных языках. Долго я делал вид, что понимаю их, но вскоре нанял себе учителя и усердно принялся за кавказские языки, чтоб соответствовать ожиданиям собеседников. Основы изучил быстро, через считанные дни мог спокойно поддержать легкую беседу. Так я познакомился со всем нерусским населением Кавказа. С турками и грузинами поднимался на Шат. Восхождение свершал трижды, правда, ни разу мне не удалось забраться выше определенной точки. Гога, напарник по восхождению, говорил, что меня не пускает гора, что ей нужно сделать ритуальное подношение. От последнего я отказался и смирился с тем, что высшей точки Шата мне не видать. Когда выпадала возможность ближе пообщаться с армянами и приобщиться к их быту, то всегда выезжал на пикник. Армянская компания была самой спокойной: никто не метал ножами, не стрелял, не желал промчаться наперегонки, мы мирно пили и наслаждались шашлыками, завернутыми в лаваш. Но с армянами мне было скучно. Бесконечный их шум, суета из ничего вызывали у меня только головную боль. Татары же, почитая меня за своего более остальных, доказывая каждому встречному, что я непременно татарин, старались сделать меня чьим-нибудь крестным. С лизгинами и осетинами я выплясывал на чеченской свадьбе, где научился всяким национальным танцам.
Расскажу о последнем подробнее. Торжество, громыхая салютом и стрельбою, проводилось под открытым небом. Со всех сторон лились разноязычные речи, которые, перекрикивая музыку, создавали особый колорит многонациональной общности. Когда на свадьбе собралось по крайней мере пол-Кисловодска, в ход пошла живая лезгинка, темп у которой становился все скорее да скорее. До того я никогда не учился подобным танцам, но на свадьбе плясал на уровне с остальными. Да, сложно поверить тому, что человек, который никогда не учился лезгинке, сможет ее станцевать так же хорошо, как и человек давно ее исполняющий, но я действительно был не хуже, если не сказать лучше. В танце раскрылась одна из граней моей души, все движения шли от сердца, точно они были какой-то частью меня, вложенной при рождении.
Многие джигиты не выдерживали скорости музыки. С каждою новою минутою кружок танцующих убавлялся на одного человека, к концу остались только мы с Маратом. Несмотря на то, что меж нами победила дружба, Марат признал меня лучшим и подарил свой резной ножик, где чеченская гравировка гласила: «слава смельчаку». Тогда же отец Марата представил меня своему другу – аварцу Гаффару, торговцу золотом. На Эльмиру, дочь Гаффара, мне обратили самое пристальное внимание. Мать ее была русской, но хваленого лица ее я так и не увидал – Гаффар не разрешал жене снимать вуали. Братья Эльмиры с виду выглядели больше русскими, чем я, но чувствовалось, что душа у них кавказская. Посовещавшись между собой на своем, братья решили, что меня надо пригласить в гости, высказали задумку отцу, который не стал противиться.
Многие после Гаффара желали познакомиться со мною, звали в гости, и, разумеется, умело обращали внимание на своих дочерей, но не всем это нравилось. Под конец свадьбы кавказские мужчины, заревновавшие своих возлюбленных, создали ополчение против меня, даже бои устроили, начавшиеся невинно, с махания кулаками на спор, закончившиеся саблями. Иногда на меня бросались сразу втроем, чтоб покорить наверняка, но победил всех я. В схватках на меня нападало нешуточное остервенение, точно такое, какое настигало в экспедициях нашей армии. Не контролируя себя, я пускался со всем бешенством на противника, за что турки прозвали меня «Бешвар джанавар» (Бешвар зверь). Зеваки, не зная турецкого, посчитали это моей фамилией и, болея за меня, часто выкрикивали: «вперед, Джанавар!». Бывшие мои сослуживцы вовсе закрывали глаза руками, когда я принимался махать саблей, отговаривали прочих смельчаков драться. Стоило пролиться первой крови, энтузиазм ревнивцев поубавился. Даргинец, которого я глубоко порезал, подошел ко мне на поклон с братьями своей невесты, ведущими под уздцы скакуна.
– Г-н Джанавар, примите от меня извинения, – преклонив колено, произнес даргинец, протягивая свою саблю. – Вижу, что вы сильнее меня и благоговею пред вами. Возьмите саблю моего прадеда – великого воина гор! Примите также коня моего, но прошу, не забирайте Сусанну…
Выслушав даргинца, отдышавшись, я осторожно взял саблю, осмотрел ее, и невольно отвлекся в сторону. Недалеко пребывала исплаканная Сусанна, ее недовольный женихом отец и рыдающая мать, накинувшая черную шаль.
– Всякому вмочь махать саблей да кулаками, но не всякий способен признать за собою поражение и преклонить пред противником колено. Мне дорого получить признание силы от достойнейшего воина. Не возьму ваших даров по той причине, что не заслуживаю их, ибо сам глупо ввязался в развязанную против меня драку, когда мог предотвратить ее разговорами. Да, я был ловчее вас, но это все. За ловкость мне не полагается ни сабля, ни конь, ни возлюбленная. Никогда бы не посмел присвоить себе святыню вашей фамилии и единственного верного вам друга – жеребца. Вдвойне рад за Сусанну, ибо не каждой красавице достается верный муж, как вы, готовый отдать все самое дорогое во имя любви. Да ниспошлет Всевышний каждой семье такую же крепкую и чистую любовь, какая у вас с Сусанной.
Поднявшись, даргинец вперил в меня черные очи. Губы его дрожали, рука продолжала истекать кровью. Протянув даргинцу саблю его деда, я поклонился ему и встал в ожидании. Оборотившись на изумленных братьев и родителей Сусанны, даргинец что-то закричал на своем, и те, повинуясь зову, подняли меня и начали подкидывать, выкрикивая: слава Бешвару Джанавару, сохрани его имя Аллах!
На ночь я уехал на гору Змейка – с нее мне открывался чудный вид. Всякие поселения, озаряемые скудным светом факелов, казались лишь небольшими точками вдалеке. Лошадь моя мирно щипала траву, порою фырча и вздергивая головою от зелени, щекочущей ноздри. Седло, что я подложил себе в качестве подушки, сверкало тонким отблеском звездного неба. Где-то распевались ночные птицы, шелестели кусты и взлетали над полем светлячки, то уклоняясь к земле, то снова над нею взлетая. Недалеко от меня чему-то все время удивлялась кукушка, ее занимало и стрекотание, и шорох лошадиного хвоста, отгоняющего комаров, и я, пытающийся выискать ее среди блестящих листьев кустарника.
– Кукушка-кукушка, скажи-ка, сколько мне жить? – вопросил я, приподнимаясь на траве; птица замолчала.
«Ни разу еще не ответила, сколько бы ни спрашивал», – подумал я, укладываясь назад на седло. – «Какое величественное звездное небо, какая же сила кроется в его непостижимой вышине, в ярких мерцаниях. Кого же напомнила мне Эльмира? Девушка прекрасна, тонка и нежна, как белая лилия… Нина! Вот кого я в ней узнал!.. Все те же томные глаза, гордый стан, темные брови и волнистые волосы. Правда, у Нины умиротворенный характер, Эльмира же подвижна и бойка. В Нине заметно отражение этого непостижимого неба, синева которого напоминает злополучный платок с лилиями, в Эльмире нельзя уловить того же». Думая об Антонине, как и во все предыдущие ночи, я заснул. Сновидение повторяло то, что случилось меж мною и Ниной в Твери – как я искал деньги, затем как проснулся, как обнаружил записку, потом как мчался на скакуне и упал. Обычно я просыпался на этом моменте, но на Змейке видел продолжение – Нина вышла из экипажа, подскочил и доктор…
Яркие лучи солнца пробудили меня ласково, ниспадая сквозь пушистые облака на лицо. Стоило открыть очи, заметил, что подле меня сидит небывалых размеров орел и внимательно наблюдает за тем, как я сплю. Приподнявшись, я потер чело и замер.
– Здравствуй, – произнес я, чему орел удивился и, взмахнув крылами, воспарил в небеса.
Пока вольная птица кружилась надо мною, раздаваясь типичным выкриком, я наблюдал, закинув руки за голову: «как жаль, что я не орел! Вот бы и мне вознестись над этими полями, над горами и холмами, подняться к небесам и поглядеть, как внизу, среди людей, где нет мне места, идет шумная жизнь… жалел бы я о том, что покинул землю, паря в бескрайных просторах бирюзовой вышины? Должно быть, нет, я и теперь ни о чем не жалею, ни на что не надеюсь, мне лишь хочется возвышенного блаженства, чтобы душа моя растворилась в вольном кавказском воздухе и обрела долгожданный покой».
Когда вернулся в город и гулял с доктором по бюветам, принимая из мерного стакана воды, русские меня сторонились, обзывали головорезом, отчего-то полагая, что по-русски я не говорю от слова совсем. Кавказцы же в почтении кланялись мне и произносили вслед какие-то восторженные слова; всех языков я, конечно, понимать не мог. Многие обсуждали вчерашний поступок мой, когда я отказался брать с поверженного дань и невесту. Армяне вовсе переиначили все на свой лад, приписав, что мне также был предложен откуп золотом и дворец, так что скоро по городу загуляла целая басня о моем величественном благородстве. Братья Эльмиры, пришедшие за мною в дом на дворе Гоги, где я остановился в Кисловодске, еще долго хохотали над армянами, сочинившими целую легенду о Бешваре Джанаваре.
В гостях у Гаффара я пробыл весь день. В доме аварского семейства были, кажется, все мыслимые и немыслимые родственники, которых только можно было насобирать – человек сто, в чьих именах я запутался. Для них я был кабардинец, уж не знаю, из чего они вывели сие умозаключение, но переубеждать их было бесполезно. Также они не верили, что я не Бешвар Джанавар, а Сергей Георгиевич – смеялись долго и упорно, до слез и колик. Причем, даже поглядев на мой давний автопортрет, сделанный до Кавказа, аварцы заключили, что я и Сергей вообще не похожи, что видят, дескать, они перед собою сухого, воинственного горца, а на рисунке изображен милый юнец двадцати лет, не видавший никаких горестей жизни. По общему убеждению выглядел я на двадцать восемь-девять лет, и все в это охотно верили.
Пока женщины готовили стол, мужчины развлекались метанием ножей. Меткость у меня отличная, так что несколько раз сряду я попадал по мишени точно, сбивая предыдущий нож. Старший брат Эльмиры был покорен моим метанием и решил проверить, хорошо ли я стреляю. По окончанию демонстрации он назвал меня своим кунаком и позвал на охоту, на которую мы отправились тотчас почти всею мужской гурьбой.
Старший брат Эльмиры следовал всегда за мною и, стоило мне подстрелить животное, он раздавался таким восторженным криком, что после мы еще долго бродили в поисках новой добычи. Ничего не предвещало беды, но скоро средь охоты с нами случилась напасть. Когда я спешился, чтобы поправить распустившееся стремя, то значительно отстал от своей группы, а ждать меня никто не стал, каждому за счастье было потягаться со мною в ловкости и скорости. Сев обратно в седло, я поскакал дальше. Все было смирно, на мгновение даже испугался возникшему молчанию, слышалось только отдаленное журчание нагорного ручья и нерешительные переклички птиц. Едва я отыскал своих напарников, заметил перед ними отряд черкесов, один из которых был слишком знаком мне – его я ранил в голову, когда участвовал в экспедиции с русским войском. Голова черкеса была наполовину обмотана черной повязкой, скрывая отсутствие левого глаза. Напряжение гудело в воздухе. Увидав меня, черкес с повязкой прошипел мое имя, что многих заставило встрепенуться. Средний брат Эльмиры схватился за ножны и задумал оголить оружие, но я остановил его движением. Блеснув своею саблей в воздухе, я кинул ее на камни. Хоть и нерешительно, но группа моих аварцев повторила то же действие.
– Знаю, ты понимаешь меня, владеешь русским. Мы не желаем драться, к тому же мы безоружны, сам видишь. Тебя ранил на службе, теперь я не воюю. Ты, конечно, можешь отомстить мне – убить, не принуждаю тебя к жалости, да и не к чему. Твоего гнева заслужил, только не тронь моих парней. Это все, о чем прошу.
– Сам дэржать ружьэ, Бэщвар, – прошипел черкес с повязкой.
Тогда я скинул с себя огнестрельное, что аварцы послушно повторили за мной. Путники черкеса рассмеялись, заговорили, что я, мол, шибко доверчивый, но горец с повязкой осек их взмахом руки и оценивающе поглядел на меня.
– Очэнь хорощий, что встрэтил тэбя, – вновь вступил черкес, выдвигаясь ко мне вперед. – Иди здэсь.
Тогда я тоже дал слабого шенкеля и поравнялся с горцем в повязке. Показав мне кожаный мешочек, черкес выждал, когда я потяну руку. «Неужели теперь нещадно нападет, зарежет?» – мужался я.
– Забрать! – процедил горец с повязкой.
– Что здесь? – взяв мешочек, вопросил я и, развязав шнурок, увидал на дне свой золотой крест, потерянный во время вторжения в аул.
– Твоя, Бэщвар?
– Мой крест, да.
– Нэ тэряй, Бэщвар. Плохо, – прибавил черкес и, обменявшись со мною парой точных взглядов, стеганув коня, увел своих спутников в лес.
Мы остались недвижимы. Ветер обдул мне лицо и разворошил волосы. Я снова поглядел внутрь мешочка: крест блестел, рубины переливались. Невольно вспомнил, как жестоко вторгался в аулы и рубил все, что вижу, как вернулся однажды весь красный: руки и лицо мое были в крови. «Я, в сравнении с этим черкесом, – безжалостен и кровожаден… бешеный варвар, зверь Бешвар Джанавар», – нахмурился я, сжав в кулаке мешочек. Подле моего коня преданно пребывал старший брат Эльмиры, протягивая ко мне ружье и саблю.
– Поедем, – строго приказал я, забрав оружие и, взмахнув плетью, повел коня назад в сторону двора.
«Не достоин их благоволения, их уважения и дружбы», – постоянно размышлял я, следуя за средним братом Эльмиры. – «Черкесы такие же горцы, как и мои аварцы, как осетины и лезгины, с которыми я еще вчера гулял на свадьбе. Резал черкесов нещадно, а мне за это орден дали… как противно, как цинично и ничтожно все это, как омерзительна война. Он помиловал меня и, спрашивается, за что? За то, что оставил ему правый глаз? Этот человек намного благороднее меня, вот он и есть орел подобный тому, которого я наблюдал утром, а что до меня, то я какой-то жалкий попугай, с несбыточной мечтою вознестись над землей… Господи, какой ужас я творил в экспедиции!».
По приезду аварцы устроили мне развлечения с музыкой, заставив сестер (с Эльмирой) танцевать. Быстро я забыл о встрече с черкесом, но не оттого, что малодушен и бессовестен, а от того, что желал скорее отделаться от гадкой боли, внезапно возникшей в моей груди со своими кровавыми картинками баталий.
Пока шли последние приготовления к застолью, мы со старшим братом Эльмиры отошли за саклю курить; я угостил его самокрученными папиросами. Их аварец нашел на удивление легкими и быстро истребил. Я же стоял за глиняной саклей у крыльца, потягивал сигарету медленно и глядел на горные вершины и степи. Виды завораживали меня, я все время возвращался к гордому орлу, виданному ранним утром, и представлял, как перевоплотившись, срываюсь с обрыва, воздух меня подхватывает, и я вздымаюсь ввысь. «Как бы хотел здесь жить!» – сознавал я. – «И как бы хотел созерцать эту красоту каждое мгновение».
– Бешвар Джанавар?.. – окликнул меня глухой женский голос; я нехотя обернулся и увидал Эльмиру. – Вы покорили моего отца. Сегодня меня будут сватать вам. Желала сказать, то есть попросить, чтоб вы прямо сейчас уехали, пока не стало поздно. Потом вы не сможете отказаться от меня, а я…
– И не думал отказываться от такой красавицы, – с уверенностью произнес я, но девушка дрогнула.
– Вам нужно уехать! Не могу за вас замуж… пожалуйста! – взмолила она.
Всегда считал себя красавцем, так что ее нежелание идти за меня вогнало в ступор все мое существо. Я развел руками.
– Почему?
– Ради Аллаха, Бешвар Джанавар!.. – не успела договорить Эльмира, как меня окликнул старший ее брат, зазывая к трапезе.
Как дорогому гостю мне зарезали барана и запекли его на углях, помимо него на стол были положены хычины, аварские хинкалы с соусом из сметаны и помидор, чуду, ботишал, а на десерт давали попробовать бахух (халву). Пока лились разговоры и в кой раз обсасывалась встреча с черкесом, я думал об Эльмире, о ее просьбе. Сначала злился на нее, затем угомонился и рассудил, что не из неприязни ко мне она просила скорее уехать, а потому, что есть у нее кто-то, кого она любит. Не прошло и двух часов беспечного застолья, как мне высказали предложение, от которого я не смел отказаться. Гаффар говорил прямо, что был бы несказанно рад выдать свою дочь за меня – достойного воина, которого боятся даже дикие черкесы. После предложения Гаффар не раз рассказывал историю, что у каких-то его знакомых зарезали сбежавшего жениха. Несмотря на то, что я уяснил для себе толстый намек тотчас, еще несколько назойливых раз мне приходилось переслушивать историю с обезглавливанием.
Назад в город меня отправили с ковром из комнаты Эльмиры в знак того, что я теперь жених. Но до дома я не доехал, затаился недалеко от аварского аула. Когда в окнах погас последний свет, я прокрался ближе и всмотрелся, в какой из комнат может жить Эльмира. К счастью, окна ее обнаружил сразу – девушка пребывала перед зеркалом, расчесывала свои богатые черные локоны. На столе горела одна единственная маленькая свеча, иногда колыхаясь от дыхания Эльмиры. Невольно я засмотрелся, грация и тонкость движений заворожили меня, в голове проскочила шальная мысль: «может, и славно, что будет она моей женой? Ее ухажер, если таковой имеется, до сих пор не сделал ей предложение, следовательно, несерьезен в намерениях. Я собой недурен, значит, полюбит она меня быстро». Но все же, отогнав от себя шаловливые мысли, я затеял проверку: постучав по стеклу, сиганул за угол. «Стала бы она открывать, если б у нее не было поклонника? Вряд ли!» – прищурился я, вслушиваясь в звуки ночи. Скоро рычажок щелкнул, едва скрипнули стекла, и окно растворилось.
– Кавха, это ты?.. – осторожно произнесла девица.
Не дождавшись ответа, Эльмира заторопилась к главной двери. Стоило девушке выйти на крыльцо, я схватил ее сзади и, зажав рот ладонью, потащил в сторону. Аварка боролась со мной, кусалась и пиналась. Я едва ее удержал и сам чуть не вскрикнул от боли – Эльмира прокусила мне ладонь до крови.
– Да угомонись же ты! Послушай! – прошипел я. – С добрыми намерениями пришел!
В страхе девица замерла, но притом тяжело задышала. Я подумал, что пережал ее и решил, что нужно отпустить. Стоило мне сделать этот роковой шаг, как Эльмира вздумала визжать. Тогда я вновь поймал ее и уволок в сторону конюшни.
– Что ты вредная-то такая? – произнес я, все сильнее прижимая к себе строптивое тело. – Думал тебе помочь, а ты орешь как резаная, еще и кусаешься! Хоть я и не Кавха, но могу сделать тебя счастливой!
Обнаружив у меня нож, девица резанула им по руке, которой я сдерживал ее рот, и, высвободившись, угрожающе встала напротив.
– Говори, Бешвар, зачем пришел! – визгливо приказала она, в защиту выставляя нож. – Иначе… иначе зарежу!
Слова эти меня рассмешили: я чувствовал ее слабость и понимал, как мала она в сравнении со мной. Но мала не просто потому, что хрупка, а потому, что в ней не было никакой силы духа. Мой дух ее заметно давил. Случайная улыбка пробежала по моим устам. Заметив ее, Эльмира ступила назад и заметно струхнула. Тонкая рука ее ослабла и уже не старалась держать нож уверенно. Схватив запястье Эльмире, я отобрал у нее орудие.
– Я боюсь тебя, – пикнула Эльмира и, быстро глянув сначала на мою прокушенную и порезанную руку с ножом, затем на ту, которая сжимала ее запястье, вздрогнула. – Аллах всемогущий! За что ты так, Бешвар? Пожалуйста, не надо этого!
Последняя фраза подняла мне волосы на голове. Я испугался реакции Эльмиры и отпустил ее.
– Не за тем пришел, – склонив голову и замотав ею, сказал я. – Неужели ты могла подумать, что способен?..
– Ты злой. Я бы не удивилась, – опасливо прошептала она. – Тебе нравится убивать, Бешвар. Я заметила это еще на свадьбе. Все заметили. Ты плохой человек.
– Твои родственники воевали на нашей стороне. Они тоже убийцы, получается?
– Это другое. Ты не понимаешь.
– Ах, ну конечно! Все хорошие, только я один плохой на всей земле! Ладно, пусть так. Думай, как хочешь, – усмехнулся я, но Эльмира не приняла это упреком, она только больше испугалась, потому что каждому моему слову придавала подтекст. – Короче, выслушай. Я пришел затем, чтоб предложить тебе помощь. Согласишься? Или удавиться лучше, чем принять помощь от, как ты сказала, убийцы?
– Не говорила, что ты убийца. Сказала, что тебе нравится.
– Не раздражай меня. Я задал вопрос.
– Какую помощь?
– Украсть тебя для Кавхи. Участь у тебя незавидная, но выбрать придется: вечный позор или жизнь с убийцей?
– Ты как шайтан вкрадываешься в душу, и предлагаешь сделку, которая выгодна будет только тебе.
– Я договорюсь с Кавхой, только укажи дорогу. Ночью, ровно в два, мы выкрадем тебя. Тем же утром приеду как бы обсудить с Гаффаром свадьбу: скажу, что начал созывать родственников. С моим визитом обнаружится, что тебя нет, свадьба наша будет расторгнута. После я незамедлительно, оскорбленный, уеду с Кавказа. Согласна?
Долго Эльмира выдерживала молчанье и смотрела на кровь, которая капала с моей руки и разбивалась об пол. Я был озарен светом месяца, поэтому всякую перемену в душе моей, отражающуюся на лице или в сиянье глаз, можно было видеть свободно. Эльмира поняла, что я не враг.
– Возьму нож? – сипло спросила она.
– Ну бери, – улыбнулся я.
Аккуратно перехватив рукоять, Эльмира резанула им подол длинного ночного платья и вычленила узкий кусок. Отдав нож, она взяла мою руку и заботливо обмотала рану тряпицей.
– Кавха – сын турка Абдулы Султанбека. Абдула опасен, решает здесь все. Никто не остается без его внимания, без его надзора. Я многого не знаю и, возможно, могу что-то путать, но слышала, что он поставляет оружие черкесам и сдает точки укрытия русской армии, крадет женщин, девочек и продает их в рабство, убивает неугодных и даже детей, если ребенок из семьи его неприятелей. Отец мой не уважает Султанбека. Кроме того, с его родом у нас идет вражда с начала времен. Дорогу до их дома не могу подсказать, не знаю, где Кавха живет, ведь я никогда не покидаю дом. Если ты не передумал всунуться в змеиную яму, Бешвар, то ладно, я согласна на твое предложение и выйду завтра ночью ровно в два.
– Какая досада: ты обрекаешь себя на верную смерть, лишь бы не связываться со мной. Тебе точно это нужно? Я бы от тебя не отказался. Мужем был бы хорошим, – заявил я, слегка дотронувшись до лица Эльмиры.
– В любом случае меж нами ты – чужой. Среди нас тебе не место, – отвернувшись, гордо произнесла она.
Юркнув на выход, вскарабкавшись на крышу, я перепрыгнул через забор. Сев на коня, поскакал вглубь леса. Пробродив в дебрях всю ночь, выискал водопад, просчитал ход и вернулся им же, прикровенно, к себе.
Не составило большого труда найти сераль Абдулы Султанбека. Всякий, у кого бы не спросил дороги, указывал точно. Дом Абдулы принял меня, как и остальные, дорогим гостем. У Султанбека был только один сын, и родила его, как понял, любимая жена. Она одна была с открытым лицом, в отличие от остальных жен. Со мною она только поздоровалась, сам Абдула ее показательно привел. И жена его, и я были изумлены, что нас специально знакомят, но ей оставалось молча соглашаться с капризом мужа, а мне смущаться от оказываемой чести. Тогда я не понимал, что Султанбек нарочно ввязывает меня в свое личное, чем опутывает, как сетями, лишает возможности двинуться без разрешения. Другие жены ходили по гарему закрытыми с головы до пят. Их, играющими с множеством дочек, я видел из марокканского окна, когда Султанбек приглашал меня в личные комнаты, где рассказывал об оружии, протежировал своих знакомых и угощал ядреным кофе. Кроме того, Абдула был наслышан обо мне – наперед знал, в каких экспедициях я участвовал, какая за мною ходит слава. Даже о случае на охоте он знал досконально, как будто сам там был и видел все своими глазами. Это подтвердило мне слова Эльмиры о сношениях Абдулы с разбойниками. «Большой человек к нам пришел не зря!» – постоянно твердил Абдула, каждый раз возвышая кривой указательный палец вверх. – «Долго жить будем, пока такие красивые соколы защищают наши головы». Пока нарочитое добродушие Султанбека взвинчивалось более и более, Кавха относился ко мне настороженно: смотрел с недоверием, стараясь выискать в моих словах и жестах истинную причину визита. Но то было до тех пор, пока я не заговорил с ним наедине об Эльмире, пока не объяснил свой план и причину, ему послужившую. Возражений, конечно, не последовало, Кавха согласился украсть. Правда, лицо его не было радостным, ибо понимал он, к чему эта кража приведет и его, и саму Эльмиру.
До предприятия я успел съездить в город, собрать вещи, чтоб не отвлекаться на них потом, живее уехать. Гуляя по вечернему Кисловодску, вел себя непринужденно, старался ни о чем не думать, но в душе моей все-таки поднималось волнение. Чем больше укрывала темнота злосчастный день, тем больше разрасталась тревога. К часу ночи, пока я настраивался и, сидя во втором этаже, пил и курил, укус Эльмиры и порезанная рука заныли. Они были проснувшейся во мне совестью, которой я не внимал и не хотел внимать.
Встретившись с Кавхой в оговоренном месте, мы поклонились друг другу и, усевшись на коней, помчались в сторону аварского аула. Когда наша жертва вышла, то дрожала в лихорадке и плакала. Черный платок, которым была обмотана голова ее, как-то особенно жалостливо колыхался на ветру и словно махал лапкой, прощаясь с отчим домом, честью, достоинством и жизнью. Усадив аварку в седло, Кавха залез сам и осторожно повел лошадь к лесу.
У горного водопада, несущегося стремительным столпом, мы слезли с лошадей и встали. Достаточно прошло времени, пока не заговорили. Выпросив у меня флягу, вытащив еще и свою, Кавха опорожнил их и налил новой воды, горной. Вынув маленький ножичек, Кавха дал его Эльмире и приказал резать. Возлюбленному своему аварка пустила кровь жалея. От души выдавив алой струи из своей ладони в мою флягу, Кавха протянул ее мне и встал в ожидании, когда Эльмира то же самое сделает со мной, когда и я повторю с флягой. Нерешительно подобравшись ко мне, она осторожно глянула на меня и потянулась к руке с перчаткой. Стянув ее, аварка не стала развязывать свою тряпочку, но отодвинула и ковырнула острием там, где больше всего запекался укус. «Паршивая!» – обжог гнев мое лицо. Я видел, Эльмире доставало колоссальное удовольствие причинять мне боль. Сжав кулак, я вылил своей крови во флагу Кавхи и протянул ему ее. Тяжело поглядев друг на друга, мы обменялись безмолвными клятвами не выдавать тайны и осушили фляги. Решительно усадив Эльмиру и взобравшись в седло, Кавха погнал коня влево. Уложив голову на плечо возлюбленному, аварка гипнотизировала меня до последнего, пока я не исчез для нее в тумане. В город вернулся встревоженным, пролежал с раскрытыми глазами всю оставшуюся ночь. «Ведь она предупреждала, что мне поступит безотказное предложение. Я ее убил!» – волновалось мое сердце. Взгляд девицы, потерянный и обреченный, врезался мне в память настолько, что перебил остальное. Не мог думать решительно ни о чем, что раньше волновало или представляло какую-то особенную ценность.
Утром мне сделалось плохо: озноб схватил тело и обдал температурой. Я пролежал в постели до двенадцати, распивая чаи, кушая мед и глотая сыворотки, которые наводил доктор. Но чуть что мне стало лучше, я отправился к Гаффару. В ауле происходила смута: аварки беспорядочно носились из стороны в сторону, плакали, молились Аллаху, вознося руки к небу, мужчины кричали один на другого. Больше всех голосил отец семейства, отчитывая старшего сына. Одна только мать Эльмиры смиренно молчала. Увидав меня, она заметно повеселела: глаза ее лукаво усмехались, выглядывая из-под вуали. Было видно, она понимала произошедшее ночью.
– Что случилось? – невинно начал я, спрашивая среднего брата Эльмиры, который было подбежал ко мне и начал тараторить.
– Эля ночью убежала! – рыдал средний брат.
– Как это? – как бы смутно произнес я.
– О Кавха, зарежу его! – возопил Гаффар, приказывая седлать ему коня.
– Вот оно что! Любовник у нее был, значит! – вздернув головою, оскорбленно заканчивал я. – Хорошо вы дочерей воспитываете, нечего сказать!
– Бешвар Джанавар! Дорогой! Ты не так понял! – умолял средний брат Эльмиры.
– Кунак, постой! Все улажу, она будет твоя! – бросившись к моей лошади и как бы стреножив ее хватом за ноги, заскулил старший брат.
– Зачем? Такая мне не нужна, – отрезал я и, взмахнув кнутом, поскакал в город, где живо пересел в экипаж и выехал.
Всякую ночь проткнутый укус ныл, а пред глазами восставал образ Эльмиры и мои слова. Иногда я упивался сказанным, полагая, что аварка заслужила, иногда изводил себя совестью и напивался до слез. Во мне боролось добро со злом.
Доехав до Рязани, отправив бабушке письмо, что жив и здоров, я слег, проведя дни в сильнейшей горячке. Просить о помощи, обременять кого-либо уходом за мною, казалось немыслимым. К тому же мой приезд и вообще мое загоревшее лицо произвели на всех устрашающее впечатление. Единогласным мнением было выведено, что я откуда-то сбежавший разбойник. А ковер, с которым приехал, первый день был центром любых обсуждений, о нем говорили и дворовые, и купцы, и аристократы, предполагающие, что в ковре я храню награбленное и непременно обворую кого-нибудь из гостиницы. Где-то между стонами, что сами вырывались из груди, в горячем и холодном поту я потерял сознание. Мною вовремя обеспокоились помещики, у которых и нанимал комнату в гостинице. Старая помещица, как-то потчуя меня ужином, не утерпела и спросила, как меня зовут да кто я по национальности, аргументируя интерес возбуждением общества, что, дескать, некоторые порывались донести в жандармерию. Я напугал ее тем, что объявил себя персом. Шутить мне вздумалось только от скуки, хотелось какого-нибудь развития, хотя бы на что-нибудь нарваться. Но в целом доме было не до веселья, так что помещица, узнав, сразу испарилась. Мало того, что она растрепала объявление каждому постояльцу, так еще и послала мужа доложить в жандармерию. Не успел я переодеться, сложить вещи и засесть в дорогу, как на горизонте показались синие мундиры. Но погони не было – жандармы не решились преследовать. Я заметно напугал их. Невольно даже расхохотался и долго еще не мог остановиться. Стоило уехать дальше, веселость сменилась прежней грустью. На душе стало зябко, я припомнил беспокойные глаза Эльмиры, смирившейся с грядущей смертью. «Сказал же ей, что был бы хорошим мужем. Она сама меня не захотела видеть рядом с собою! Вот пусть и получит, так ей и надо!» – чуть что пред глазами восставал образ аварки, повторял я, встряхивая головою.
Приехав к торговым рядам закупаться провизией в дорогу, решил сперва осмотреться, сел посреди рынка на скамейку. Отвлекая меня от мучительной боли, которой изнывала ладонь, округа шумела советами и громкими зазываниями, жужжала обсуждениями лучшего товара, гремела деревянными булавами и мечами, которыми игрались босые дети напротив меня. Недалеко раздавались звуки лютни и бубна, иногда прерывающиеся протяжным свистом, который притом не выражал никаких чувств: не хулил игру и не хвалил. Иногда по рядам пробегала жирная и ленивая собака Маня, которой щедрые торгаши выбрасывали либо булку, либо огрызок колбасы, либо ошметки мяса; животное водило от еды носом. «Ну! Пар-р-ршивая Маня!» – обозлился купец, торгующий медовухой, и прогнал собаку метлою за ворота. – «Колбасу свиную потр-р-ратил на эту Маню! Пар-р-ршивая! Ух я ее потом!». Купец этот был непомерно высок и широк, руки у него были, как две дубины, ноги слоновьи. Нелепо оправив пояс рубахи своей огромной рукой с толстыми коротенькими пальчиками, почесав пузо, купец ступил к своему дружку. Мещанин торговал под перекошенным навесом семечками, которые сам и грыз, половину съедая и сплевывая кожуру в лужу, а половину сбрасывая голубям, охотно склевывающим с земли любую грязь. «Пар-ши-ва-я», – по слогам повторил я, припоминая, почему это слово зацепило меня. – «Эльмира паршивая. Мое же слово. Помню, как она ковырнула меня ножом! Да ну ее! Сама напросилась, сама и виновата! Не захотела за меня, пусть теперь хлебает!». Недалеко от торгашей показались старые лошаденки, едва вытащившие за собою трухлявую телегу, на которой лежал высокий стог сена и сыпался. Лошадей вел плешивый мужик, постоянно выкрикивающий: «синий современный!». Никак не мог разуметь, к чему нужны были его возгласы, пока не заметил, что милые посетительницы базара, услыхав лишь одну эту фразу, бросились скупать все синего и голубого цветов.
Скоро, выйдя из ворот, откуда некогда ступили лошади, к купцам подошла тройка человек: кузнец, гончар и сапожник. Указав на меня, они зашушукались. Порою глядя в мою сторону, они решали, что со мною сделать. Мой вид вызывал у них очевидную неприязнь. «Своих перевор-р-ровали, сюда понапр-р-риезжали наших баб вор-р-ровать! Ну я ему в глаз дам, этому пар-р-ршивому! Басу-р-рман пр-р-роклятый!» – хорохорился пузатый купец, допивая свою медовуху. Жара и духота от испарений недавнего дождя дурили его мозги. Поддав огня, купец тяпнул самогона и, утерев рот ладонью, закатав рукава, двинулся в мою сторону. Товарищи думали остановить раздухаренного, стали удерживать за руки, тянуть, но махина всех раскидала и продолжила свой кривой путь. Встав напротив, купец окатил меня благим матом. Видел Бог: я не тронул его ни злым взглядом, ни грубым словом, уж тем более неаккуратным движеньем, он просто возненавидел меня на ровном месте; спрашивается, за что? Эдаким вопросом я задавался сызмальства. Всегда относился к тому редкому типу личностей, который вызывает в людях или глубочайшее уважение, или лютую ненависть, то есть две крайности. Первые мне кланяются, в других же одно мое существованье вызывает бешенство. Рядом со мною с этих вторых срывается маска, обнажается настоящая сущность. Никогда самый претворяющийся человек не мог удержать предо мною выдуманную роль, поэтому или раскалывался надвое, или уходил из моей жизни, притом считая меня виноватым, что показал свою грязь. Поднявшись перед купцом, я перекрестился, прошептал короткую молитву и направился с базара. Поступок мой так всех поразил, что подстрекатели обомлели, а сам купец побежал следом, вопя: «прости, батюшка; бес попутал!». Мужик плакал, спотыкался, падал, тут же поднимался и продолжал идти следом, пока я не сел в экипаж. Дорогой, задумываясь о случившемся, я хвалил себя. Был твердо убежден, что сделал верно, не вступив в брань или драку. Зло было в том случае так ожидаемо, что молитва стала происшествием удивительным.
Вечер провел в ресторации с немцем по фамилии Швицер. С ним познакомился в тканевом ряду, где выбирал ситец для бабушки, когда уж закупился провизией и маялся бездельем. Ряд тот был расположен в бывших боярских палатах. Стены палат продолжали содержать в себе яркую краску живописи древней Руси, отображали они все: цветочные мотивы, что-то из церковного с молитвами, странных птиц-женщин и витиеватые знаки. Люстрой служило круглое колесо от старого тарантаса: к конструкции прикрепили стаканы и поместили туда свечи. Кругом был приятный полумрак и говор торгашей, которые с разных краев окликали прохожих.
– Красивый у вас костюм, – похвалил я, появившись подле немца.
Он был весь в белом, как лебедь, тонок и высок, голубоглаз, волосы его блондинистые были прилежно зачесаны и приглажены. Духами он пользовался женскими: пахло от него геранью и медом. Губы его блестели маслом, лицо было свежевыбрито. В отличие от меня Швицер производил самое приятное впечатление и был из того типа мужчин, с которыми кокетничают все. Я же вонял потом, конем, несвежей чохой, полы которой были запятнаны кровью, гниением и железом прокушенной и порезанной руки, на которой все так же была старая перчатка без палец, водкой, которой облился по дороге, и дешевым табаком. Не надо говорить, что производил самое гадкое впечатление?
– Благодарю, месье! Вы тоже чрезвычайны! – просиял немец, затем представившись и пожав мне руку. – А вас как?
– Бешвар Джанавар, – хрипнул я.
Оглядев меня с ног до головы, переглянувшись между собой, пребывающие рядом армяне решили завязать со мною разговор:
– Бешвар джан, какой цвет ткань для девочки, скажи? Ты в мода разбираешься.
– Я бы посоветовал белый – ко всему и всем подходящий цвет. Потом еще мальчик родится, можно часть ткани и на него пустить.
– Ты армянин? – спросил второй из толпы.
– Нет, я не армянин.
– Немец! – забавлялся Швицер. – Ну точно немец! Очень похож на моего племянника!
– Голосую за Грузию, – по-доброму улыбаясь, вставила торговка.
– Почти. Отец у меня грузин, мать наполовину русская, наполовину немка, – отозвался я, слова мои вызвали бурную волну радости и приятия.
Утянув в свою гурьбу, армяне стали тискать меня, обжимать, целовать, называя земляком, выискивая во мне корни бабушки Сирануш. «Грузин грузином, но бабушка точно армянка!» – вопила кучерявая толпа. С одной стороны, их милое внимание мне было приятно, с другой – грустно: русские никогда бы не сказали, что они лучше, не стали бы выискивать ни мифические корни, ни косвенную приверженность к национальности. Русский народ никогда не ставит себя выше другого, что вроде бы подтверждает нашу общую простодушность, глупую доброту, но в то же время подразумевает преклонение перед чужеродным, потому что оно априори, по праву происхождения, нашими считается лучше. Заметив, что я потускнел, армяне отпустили меня из объятий, похлопали по плечу и спокойно себе ушли. Купив ситца Катерине Михайловне, я написал торговке адрес, по которому следовало доставить товар. Швицер все время пронаблюдал за мною, так что одним своим одиноким и до слез глупым видом подтолкнул пригласить его на ужин в ресторацию. Там мы заказывали цыган, пили и ели от живота, правда, сугубо за мой счет. В пустой голове Швицера не было ни малейшей догадки, что платить надо и ему. Пару раз я намекал немцу на расчет, но все-таки заплатил за все сам, спустив последние деньги. Поклявшись, что будет писать мне, что не потеряет связи, взяв мой адрес и чиркнув свой, Швицер уехал.
Разбитый безденежьем, со вновь обнаружившейся болью, я побрел к своему экипажу, который все так же оставался у палат. Хмель, ударивший в голову, заставлял меня потеть. Воздух лип к лицу. Мошкара залетала в ноздри, комары кусались. Я чувствовал одиночество, наступившее с отъездом Швицера, который мимолетным присутствием залатал пустоту. Также винил себя, что наговорил много лишнего незнакомому человеку, хмурился за то, что спустил деньги и не потребовал немца заплатить, но тут же обвинял себя в мелочности, оправдывал Швицера тем, что это я его позвал в ресторацию, а не он меня, значит, и должен был платить. «Еще и в часть эту возвращаться, чтоб ее черт побрал! Как же мне все надоело, как я устал и как же воняю! Еще эта рана!» – хмурился я и бранился. Только свернул за угол, до слуха донеслась знакомая цыганская песня и гитара. То был тот самый табор, за который платил в ресторации. «Совершенно бесплатно, чтоб они все провалились!» – давила меня жаба. Пока усатые мужички брынчали, пьяные гусары танцевали в кругу черноволосых женщин. Сев невдалеке на бочку, я оторвал травинку и зажевал ее. За чужим весельем наблюдал недолго, совсем скоро бурные пляски сменились заунывной цыганской балладой. Пальцы усатых мужичков перестали рвать струны и ласково по ним загладили.
– Чай, остановиться негде, Бешвар Джанавар? – спросил женский голос сзади.
– Негде, – вздохнул я и, бросив соломинку, поворотился: глазам предстала торговка ситцем.
– Пойдем, поухаживаю за тобой, что ли? – произнесла она и побрела темною дорогой по широкой улице.
Недалеко отойдя, она встала, обернулась и снова позвала. Не обинуясь, я кликнул свой экипаж и зашагал за ней. Любезная женщина оказалась одинокой матерью четверых детей. Жила она в одноэтажном тесном доме, чистота в котором стояла блестящая. Детки ее были обуты, сыты и умыты, платья носили приличные. Когда я вошел, ребята разбежались, но торговку это не напрягло. Показав мне гостевую спаленку, она зажгла керосинку и ушла. Стоя столбом посреди комнатки, я не понимал, что такое происходит и почему ко мне добры. Даже подумывал насчет женщины нехорошее и представлял, как она заставит расплатиться, но ничего из того, что выдумал, не случилось. Принеся мне таз воды, кувшин и большое полотенце, она просила раздеться. Изумленный я сел.
– На сменку нашла тебе мужниное, Бешвар. Здесь панталоны и рубаха, – сказала она, стягивая с меня сапоги. – Помер он полтора года назад, так что бери – не стесняйся. Твое постираю, высохнуть успеет за ночь. Если ты есть хочешь, я могу ухи налить и клюковки.
– Что происходит, стесняюсь спросить? – узнавал я, наблюдая за торговкой. – Предупреждаю, что теперь у меня нет и гроша, никак не смогу вас отблагодарить.
– И да, вот еще: перчатку тоже снять надо. Чую, недобрым веет. Перевяжу тебе рану заново, – проигнорировав меня, просила она и, забрав обувь, ненадолго ушла.
Поглядев на ноги свои, я нашел их грязными и вонючими, с черным под ногтями. Мне стало стыдно. Появившись вновь, торговка принесла ножницы, бритву и еще один таз. Пока приводил себя в порядок, слышал, дети спрашивали свою маму про меня. С ребятами она не секретничала, но повторяла, что я добрый человек. Кому-то прочтя сказку, кому-то напев колыбельную, она уложила всех спать и встала дожидаться, когда я кончу мыться. Нерешительно постучав, она вошла с позволением и принялась собирать мои вещи.
– А перчатку? Надо бы посмотреть, что с твоей рукой, Бешвар, – с прежней своею добротой выразила она, но я отрицательно замотал головою и удивленно на нее вытаращился. – Ну как знаешь. Думай.
Оставив меня наедине с мыслями, торговка ушла на двор. Раскрыв ставни, я сел на пол и до поздней ночи слушал, как она перетирает мое белье, как плещется вода в тазе, как выскальзывает у ней кусок мыла, как она тихо поет. Иногда на дворе ржали лошади, слышался куриный говор и отдаленное хрюканье поросят. Когда мимо забора шел запоздалый человек, собака раздавалась предупредительным лаем. С первой сонатой совы торговка начала развешивать настиранное, закрепляя прищепками. Когда к сове присоединилась бодрствующая пташка, женщина вернулась в дом. Тогда же послышался звон стекла. Минутами позднее, она осторожно постучала ко мне и вошла уже без позволения. Вскочив с пола, я выжидал ее действий.
– Что ты дичишься волком? – заботливо спросила она. – Сядь, Бешвар, все-таки посмотрю твою рану.
– Не нужно. Мне и так неудобно. Я решительно не понимаю, почему вы так добры ко мне.
Поставив на тумбочку до краев наполненный стакан спирта, она села на кровать и раскрыла сундучок со шприцами, иглами, всевозможными склянками, тряпочками, ножницами разных размеров. Не упрашивая и не давя, она сидела, глядя на свое отражение в окне, и ждала меня. Некоторое время погодя я опустился рядом. Сняв перчатку, я обнажил ей омоченную кровью тряпицу. Уместив мою ладонь себе на ногу, она попыталась развязать узел, но, не сумев это сделать, рассекла ткань ножницами. Место в укусе, куда пырнула Эльмира, сочилось кровью и гниением. Глянув на зияющую рану и кружевной огрызок ткани, женщина подняла на меня глаза и как бы тем спросила: что это такое?
– Могу не объяснять? – вопросил я, но она проигнорировала и это.
– Выпей до дна. Это надо зашивать, – произнесла она и, дождавшись, когда осушу стакан, принялась копошиться в сундуке. – Будет очень больно, Бешвар. Дай слово, пожалуйста, что обойдемся без криков. У меня детки, не нужно их пугать.
– Обещаю, – пьяным голосом подтвердил я и закусил кулак.
Но все-таки скулил. Звуки сами вырывались из меня, не мог их контролировать, как и слезы, дрожь, охватившую тело. Кончив пришивать болтающийся кусок ладони, торговка прижала мою голову к груди и начала гладить.
– Ну все-все. Ты молодец. Не плачь, милый. Все закончилось, – твердила она, покачиваясь со мною.
То было только начало. Два следующих дня я провалялся в такой же горячке, какая напала в Рязани. Любезная женщина ухаживала за мною вместе с детьми. Когда очнулся, она вытирала мне пот холодным, мокрым полотенцем. Увидев мои раскрытые очи, она ничего не сказала, только улыбнулась. В то же время к нам вошел ее белобрысый мальчуган, аккуратно неся широкую тарелку горячего супа. Поставив блюдо, ребенок радостно поглядел сперва на меня, потом на мать. Хотела было торговка что-то выразить, но мальчуган прислонил к губкам пальчик и шикнул. Нельзя было не умилиться на эту маленькую прелесть, на выражение чувств, на то усердие, которое проявлялось в каждом движении. На носочках ступив за порог, мальчуган притянул за ручку большую тяжелую дверь комнатки и тихонечко притворил ее. Стоило замку щелкнуть, как по коридору раздался счастливый шепелявый визг: «ула! глузин зыв, он плоснулся!». К горлу моему подкатил ком, и на глазах проступили слезы, но я зажмурился и выждал, когда чувства отпустят. Торговка тем временем смотрела на меня, гладила перевязанную руку. Пощупав мне лоб, она удивилась: брови ее быстро поднялись и опустились.
– Почему вы мне помогаете?
– Да жаль тебя стало. Стоял раненный, бледнел, искал кругом души родной, с тоски прицепился к каким-то армянам, к немцу. Глаза такие одинокие, что плакать хочется, – вздохнула торговка. – Солянка еще горячая. Подожди, пока остынет. Сейчас еще хлеба принесу. Тебе черный или серый?
– Матуфка, я глузину булошку с аблоком плинес, – высовывая белобрысую головку в дверной проем, появился мальчуган.
Получив мамино позволение, ребенок юркнул в комнату, положил рядом с тарелкой булку и убежал на носочках. Торговка умилилась на дитя свое и, поднявшись, тоже ушла. Вернулась она с корзинкой всевозможного хлеба и думала поухаживать за мной, но я решительно отказался и заверил, что поесть могу сам. Оставив меня, торговка ушла затапливать баню. Накинувшись, как дикарь, на солянку, я съел ее за две минуты, тарелку с хлебом умял за три. Хоть меня никто и не видал, но когда я опустошил принесенное, стало перед самим собою стыдно. Невовремя подумал тогда, что хорошо было оставить хоть что-то недоеденным, и покраснел, как после пьянки. Мне казалось, что отгадая одичалый голод, торговка подумает, будто я в каком-то роде нищий, а поэтому станет жалеть еще больше. Мне не хотелось ни ее сострадания, ни уж тем более подаяний, на которые та была способна. Чтоб лишний раз не тревожить меня, любезная женщина не входила в комнату, пока не приготовилась баня. К моему удивлению, она никак не отреагировала на пустую корзинку хлеба и супницу, просто забрала их и ушла, но мне все-таки было жутко неудобно, я почему-то почувствовал себя виноватым перед нею. Пока мылся, на меня нахлынули воспоминания о Нине, какая-то необъяснимая по ней тоска и желание ее ласк, смущение перед недавними словами торговки про то, что ей жаль меня стало, стыд и вина, радость ребенка на мое выздоровление, кража Эльмиры и личное душевное одиночество, – все это смешалось и заныло во мне так, что после, когда уже вышел из бани, а торговка пригласила на ужин и, следовательно, остаться еще, я изъявил скорейшее желание уехать. Напоследок поцеловал доброй женщине руки и поклонился. Она глядела на меня пронзительно, жалеючи и скорбно, как смотрела бы мать, провожая сына в последний бой. «Я даже имени ее не удосужился узнать, а она глядит с таким милосердием, с таким состраданием, что становится стыдно», – подумал я, в последний раз глянув на нее из окон экипажа. Приказав гнать хоть на Камчатку, погонял лакея своего весь вечер.
Ночевать мы встали в поле. Лошади были на последнем издыхании, валились с ног. Недолго я выделывал куда-то торопящийся, гневающийся вид, покуда лакей убеждал меня, что остановка – необходимость, в итоге смилостивился и улегся на сиденьях спать.
Проснулся от укуса комара. Рань была прохладной, темнота спала не совсем. Невинный туман стелился по земле пушком. Стреноженные лошади дремали, лежа в траве. Оглядевшись, я пошел прямо, словно у меня была какая-то цель. С каждым разом мой шаг становился быстрее, пока не перешел на бег. Блеснув саблей, я размахнулся и начал рубить на пути все. Плач вырвался из меня вместе с истошными криками. Скошенная трава и кустарники ложились за мною панихидными обрубками, как цветы ложатся следом за гробовой процессией. Бегом измотал себя настолько, что начал спотыкаться об свои же ноги. Зацепившись носком за подвернувшуюся корягу, я полетел лицом в муравейник. Едва поднявшись, я стал хлестать себя по щекам, отбиваясь от насекомых, которые жалили, заползая в волосы и под одежду. Вновь упав на землю, я сильно зажмурился и зарыдал, в кулаках сжимая траву. Небо, светлеющее на горизонте, но еще темное наверху, смотрело на меня со старческою утомленностью и безграничной добротой.
– Господи, прости меня! Ну прости, прости! – несколько раз проскрипел я и, поднявшись, возопил: – В какой жизни я согрешил, что ты нарек меня одиночеством?! В какой?! Зачем ты меня мучишь! Одна пустыня, русская тоска! Где хоть что-нибудь, что поняло бы меня! Неужели я не заслужил, а?! Почему у других так просто, а в моей груди смертная тяжесть?!
Упав на колени, я заплакал. В ту же минуту раздался знакомый запах ладана, ненавязчиво прозвенел утренний колокол. Поднявшись, я осмотрелся и заметил невдалеке часовенку. Между мною и ей зеленел небольшой участок поля. Сделав несколько порывистых и вместе с тем тяжелых шагов, ноги повели меня к церквушке. Встав у ее ступеней, не решаясь войти, я закрыл глаза. Остатки слез еще лились по моим щекам, обмаранным травой, землей, ужаленным муравьями.
