Змий. Часть I
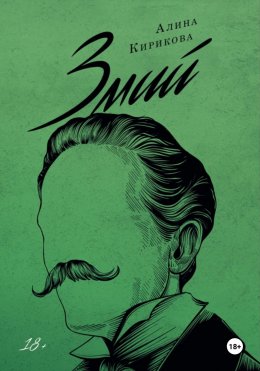
2 Février 1824
Здравствуй, дорогой дневник! Наконец-то я отыскал тебя среди старых книг, писем, изрисованных черновиков. Именно сейчас ощущаю острую душевную потребность в предании бумаге своих мыслей и чувств. Два месяца назад мы с отцом вернулись в Петербург. Дорогой до столицы все думал, чем бы мне себя занять в русской стороне, чтоб не скучать, и пришел к выводу, что призвание мое – художество. Отец же заставляет меня разрываться между другими делами, во-первых, во всем брать с него пример, то есть вести бухгалтерию и «пасти крестьян», а во-вторых, подначивает скорее жениться. Я долго медлил с этим делом, продумывал удачный сценарий, то есть как вернее просить руки, чтобы Мари никак не могла бы мне отказать. Но вот я решился, сегодня вечером собираюсь осуществить задуманное. Папаша уже в курсе дела и рад, что я остепенюсь, несмотря на то, что émeraude (изумруд) он не любит и не раз уже подсовывал мне другие партии и во Франции, и здесь. Стоит отметить, что ежели Аранчевская не была бы самой завидной невестой Петербурга, не происходила бы из родовитой фамилии, не имела бы состояния, то вряд ли наша связь попала бы в милость. Так что и в столь тонком деле, как брак, мой старый князь отыскал для себя выгоду.
Итак, пока у меня есть время до визита к Аранчевским, я бы хотел описать, как прошел бал в ночь с первого на второе февраля в доме фон Верденштайнов. Из-за приступов кашля Эдмонд де Вьен не поехал и меня отправил одного. Мысль, что без отца меня примут неподобающим образом, тяготила сердце, из-за этого я ни к чему разволновался.
Княгиня Луиза фон Верденштайн, хозяйка бала, и ее супруг, князь Рихард фон Верденштайн, встретили меня радушно, по-родственному, развеяв ураган страстей, который я на себя напустил дорогой до бала. Ко мне отнеслись с большим уважением, чем к другим гостям, – это невооруженным глазом было заметно и, не скрою, польстило самолюбию. Да и восхищенное волнение среди дам, что я по обыкновению произвел, добавило пущей значимости и ненарочно выделило меня из толпы.
Обменявшись поклонами внизу, я немедля направился в домашний театр, надеясь дорогой встретить Алекса. В одиночестве мне было некомфортно, так что хотя бы одна близкая физиономия значительно скрасила бы мне пребывание на вечере. Двигаясь по мраморной лестнице, благоухающей белыми цветами, я почти не разгибался, приветствуя знакомые лица. Несколько раз вынужденно останавливался и заговаривал о здоровье отца моего с любопытствующими дамами. Г-жа Хмельницкая даже, кажется, как бы пошутила по поводу того, что я, мол, пребываю в числе дебютанток бала, что пустили меня без папеньки погулять, но ее юмор вышел неудачным (во всяком случае, я его не понял).
У стола с пуншем я заметил Баринова и Артура Девоян, недалеко от них увидал маркиза Морилье, у самых дверей в театр немного побеседовал с Феликсом Розенбах и Альбертом Керр. Феликсу я должен был карточные деньги за прошлый месяц, но князь, как мне показалось в тот момент, даже и не вспомнил о сумме. Альберт же, похлопав меня по плечу своею большой рукой, спрашивать об отце не стал, но как-то странно тряхнул меня и улыбнулся, словно всегда мы были близкими товарищами и вот, наконец, свиделись. «Сколько лет, сколько зим!» – казалось, говорили его круглые, блестящие очи, но теплые чувства Керр были чужды моей душе и воспоминаниям. Никак не мог разуметь, с чего бы князю вздумалось за меня трепетать. Никогда мы не общались тесно, лишь изредка встречались на вечерах, да и теперь свиделись впервые за мои два месяца пребывания в Петербурге.
Уже в зале, нигде не застав Державина, я уселся на свое место прямо перед сценой, где вот-вот должен был развернуться спектакль. Нерадивые актеры то и дело проходили за кулисами, колыхая бархатный занавес. В тот момент я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким: вокруг жужжала публика, разбитая на группы или пары, по сторонам кто-то вдруг отзывался смехом, некоторые рассказывали анекдоты, другие обсуждали моду или собирали сплетни. «Как было бы хорошо оказаться в самом центре шумного театра жизни! Почему на меня никто не обращает внимания, как то было в передней? Вот ежели явился бы с отцом я, толпа бы только и занималась нами! Теперь вижу, что без папаши я – нуль. И вообще, где Алекс, в конце-то концов? Он обязан меня развлекать», – пронеслась в голове нервная мысль, что заставила меня нетерпеливо обернуться к входу в театр, в надежде завидеть Державина. К счастью, Алекс радостно спешил ко мне. Упав в кресло рядом, он заерзал и растянулся в лукавой улыбке.
– Милый мой Адольф, я вас обыскался! Вы сегодня так тихо вошли: никто не смог мне ответить, здесь ли вы! – поздоровался Державин.
– Вы или опоздали, Алекс, или провели время в отдалении от общества! Дамы снова в обмороках. Жаль, что вас не было рядом, надо же было их кому-нибудь ловить.
– Ну как же! Ведь я был у входа, ничего не слышал и вас не видел! Думается мне, что вы лжете, правда же?
– Увольте, Алекс. Более чем уверен, ваш слух увлекали какие-нибудь толки.
– Ну какие могут быть толки? Вы же знаете, я не сплетник, правда же? Мой слух увлекал лепет новой особы, за которой собираюсь поволочиться, – шептал Державин, заговорщически подаваясь ко мне.
– Новая особа! Кто она, как зовут, сколько лет и какое у ней происхождение, она княжна?
– А чего это вы так переполошились-то? Кстати, вы же уже видели нашу Мари, правда же? Она стоит на входе с подругами; вас обсуждают, – обозначил Алекс.
– Нет, не встретил Мари, мы с нею уже с неделю не виделись, – ответил я, с живостию переводя разговор. – Но вы не отвлекайтесь от темы, кто та барышня? Она красива, бела, глаза большие, зубки ровные?
– Ну, заладили! Не лошадь обсуждаем, право! – пробубнил Алекс. – Бела, красива, хотя я бы сказал, больше мила. Происхождения скромного – графиня без приданого. На бал явилась с родителями и тетушкиной родней. Ее имени и лет не знаю, но, говорят, ей где-то около семнадцати.
– Это ее первый бал, – заметил я.
– А, вот и она, смотрите! Она у входа, с маменькой! – схватывая меня за руку, театрально восхитился Державин.
Повернувшись, я увидал довольно высокую барышню с длинной шеей и неприятно серой кожей. Лицо же ее показалось мне заурядным.
– Ну что? Очаровательна, правда же? – быстро зашептал Алекс.
– Да что там! Очаровательного в ней не более, чем в утке, – пренебрежительно выдал я, стараясь выделать из себя любезный вид.
– Все вы умеете оскорбить, де Вьен! – поморщился Державин. – Не вижу в ней никаких сходств с утками.
– Как же? – усмехнулся я, всматриваясь в графиню. – Несмышленые желторотые утята так же держатся своей maman, ни на секунду от нее не отставая. Кажется, она даже взмахивает своим бедненьким веерком непременно по приказу, приглядитесь. Ужасно длинная шея, бессмысленное выражение лица и не по возрасту выданная одежонка: вроде бы подросла, а пух в перья не переменился. Ей бы еще годочек-другой дома посидеть, хотя… вряд ли она станет краше. Это какой-то особый вид утки. Утка́ «пуга́ло» – серая и бледная, мышистый подвид, открыта в Италии в прошлом веке, – издевался я; Державин вспыхнул.
Заметив пристальный взор, незнакомка порозовела и отвернулась к своей maman, по-детски схватывая ту за рукав платья и дергая на себя. Но и милостивое провидение спасло уточку от моего взгляда: стремительно вошедшая Мари и ее три бессменные подруги устремились к своим местам, загородив мне безрассудный интерес Державина.
– Наша Мари ревнует, будьте внимательны, Адольф. Посмотрели бы вы лучше на свою утка́ «пуга́ло», чем на чужую, правда же? – нервно закинув ногу на ногу, по-французски вставил Алекс, отвернувшись от меня. – Да и потом, вы заметно оживились, это некрасиво.
– Oh-la-la, monsieur Державин! – тоже на французском возник я, подаваясь к Алексу. – О моей женщине и ее безрассудной ревности не беспокойтесь, это не входит в ваши обязанности. И да: Аранчевская, прошу вас услышать, не «наша», а только моя. Впредь я запрещаю вам ее как-либо касаться.
Тогда между мною и Алексом повисла напряженная тишина. Пока я с претензией ожидал реакции Державина, он болтал ногой и карябал подлокотники, сжимая и разжимая пальцы.
– Не вижу причин вашему гневу. Вы спросили с меня мнение, вам дал его, – добавил я и нервно принялся как бы что-то стряхивать у себя с коленки.
– Я вашего мнения не просил, правда же? – усмехнулся Алекс.
– Вы сами спросили, не очаровательна ли ваша уточка? Я вам отозвался на этот счет.
– Вы могли бы промолчать.
– Вы подсели ко мне и начали говорить, чтоб я молчал? Интересный вы собеседник, – не унимался я; Державин отвернулся.
В ту же минуту я вдруг почувствовал у себя на груди маленькую ладонь, тянущуюся ко мне с заднего ряда. В тот же момент как раз зачиналось представление. Гасильники спешно тушили свечи, зал погружался в полумрак. Напрягаясь телом, буквально вытягиваясь в струну, я решил развернуться, но голос томно скомандовал:
– Не оборачивайтесь, mon cha-cha (chat charmant – котик)! Это Мари… Вы так глядели на новую барышню, неужели она вам понравилась? Фи, какая нелепость эта девица! Никогда не поверю, что вкусы ваши прокисли.
Приятное покалывание озарило грудь мою. Тогда я тихо повторил Мари те же слова, что некогда Державину. На это княжна усмехнулась и ласково продолжила:
– Тогда развлеките меня. В перерыве после третьего танца я буду ждать вас в моей комнате… она на втором этаже здесь, по левую сторону дворца. Вы сразу увидите дверь, она у картины Рафаэля. Приходите вовремя, нужно о многом говорить, не заставляйте ждать!
– Вы сильно рискуете!.. – ответил я шепотом. – Вы рискуете своею репутацией в глазах света. Еще понимаю, когда мы были у вас и никто не знал, но сейчас, в такой день, да у фон Верденштайнов! Не находите вы идею эту неприличной, émeraude?
– На все готова ради вас, mon cha-cha! – отвечала Аранчевская, похлопав меня по груди.
– Приду, только уберите руку, – покраснел я. – Ежели нас теперь заметят, то разговоры примут трагичный для вас оборот. К тому же, кажется, слышу шаги вашей тетушки, будьте осторожны! Ежели она увидит, руку вам откусит.
Когда Аранчевская отклонилась, Алекс развернулся всем корпусом в мою сторону и поглядел с презрением. Нахмурившись, я перевел глаза от него к сцене. В тот момент, пока Алекс чуть ли не поедал мое лицо, гневно пыхтя слегка заложенным, посапывающим носом, я оживлял приятное покалывание прошлых чувств и размышлял, как бы мне рекомендоваться к незнакомке, чтобы заставить Мари ревновать еще больше. Продумывая дело от и до, я настолько затерялся в мыслях, что не заметил, как действие на сцене спешно подошло к концу, и гости принялись расходиться на танцы.
Завидев мои пылающие глаза, Мария раскраснелась и затрепыхала веером, стараясь скрыть румянец смущения под маской духоты зала. Долго я не сводил взгляда с émeraude и точно питался ее чувствами. Грубо притянув племянницу за руку, г-жа Растопшина поспешила пристыдить ее и что-то яростно зашептала на ухо про меня. Выйдя со мною в коридор, Державин мялся начать диалог, всякая предполагаемая фраза, видно, выходила у него грубой, он боялся себя скомпрометировать. Собравшись с мыслями, тот все-таки начал:
– Вы уже кого-нибудь пригласили, Адольф, например, Марию Константиновну?
– Нет, но собирался, – ответил я. – Не мог раньше.
– Ах, неужели-таки не могли? Мария так любит вас, а вы ни во что ее не ставите! – ухмыльнулся Державин и, вобрав в легкие воздуха, вспомнил заготовленную фразу да выпалил: – День ото дня только и делаете, что лежите на диванах! Могли между лежаниями отослать записку княжне со всеми приглашениями, как и водится в нашем порядочном обществе, правда же?
– Слушайте, вы сегодня ядовитая змея, что с вами? – не стерпев, вскипел я, остановившись.
– Не нужно так резко останавливаться, господа спотыкаются об вас, – натянуто улыбаясь мимо идущей публике, схватил Алекс меня за руку. – Со мной чего? Со мной ничего. Это с вами чего, раз вы не считаетесь с честью женщины. Я вам как друг говорю…
– Это я вам как друг говорю, что вы сегодня вышли за рамки! Не стоит вам беспокоиться о чести моей женщины, – процедил я, дергая руку.
– Поверьте, о ее чести уж пекутся от верхов до низов!
– Из-за вашего визга мне заложило уши, – появился Баринов меж нами и, прилипнув к Державину, шепнул: – Поболтаем? Ты некстати разговорчив сегодня.
Проследив, как Мишель уводит Державина, я с важностью одернул фрак и зашагал в бальный зал, где удалось мне потанцевать с Мари.
После польского и вальса с Аранчевской я упорхнул в буфет, куда скрылась и незнакомка с семьей. Войдя в комнату, я вновь принялся раздавать поклоны и отвечать о здравии отца. В какой-то момент мой взгляд зацепился за деревенское лицо уточки. Оказавшись подле князя Степана Никаноровича Бекетова, недавно отошедшего от новой семьи, я просил, чтобы и меня тоже представили. Мать незнакомки зовут Уткина Анна Сергеевна, отца – Уткин Дмитрий Павлович, а саму барышню – Татьяна. До сих пор диву даюсь, каким образом не разразился смехом, когда узнал фамилию незнакомки, которую вот-вот сравнивал с уткой.
– Только говорили с вами, месье Уткин, о картинах, как появился сын страстного коллекционера, наш очаровательный Адольф де Вьен! Рекомендую вам его не только как человека острого склада ума, но и как замечательного художника нашего времени, как оценщика и реставратора изящных искусств. Наш милый князь прожил почти всю жизнь во Франции, его обучали лучшие мастера, – на плохом французском рекомендовал меня новой семье г-н Бекетов. – А еще Адольф де Вьен у нас отличный танцор и мог бы составить пару Татьяне Дмитриевне. Впрочем, не настаиваю, это уж вам решать. И все же замечу, ежели бы я был барышней, я бы непременно выбрал в партнеры Адольфа де Вьена, чтоб познать, что такое идеал!
– Ах, вы скажете тоже, Степан Никанорович! И Татьяну Дмитриевну заставили порозоветь, и Дмитрия Павловича с Анной Сергеевной в неудобное положение поставили, – как бы смутился я.
– Не следует переживать, г-н де Вьен. Мы уже задолго до теперешнего знакомства были наслышаны о вас самыми восторженными комментариями, – размашисто вступил г-н Уткин, явно лукавя. – Честно говоря, мечтал познакомиться с вами и вашим отцом! Ведь я тоже страстный собиратель, и мне было бы очень приятно встретиться с человеком, столь занятым коллекционированием, как ваш отец.
– Отец не смог, к сожалению, явиться сегодня на бал, ему нездоровится, но я почти уверен, что вы с ним когда-нибудь познакомитесь. Думаю, коллекция Эдмонда де Вьена вас непременно заинтересует.
Таким образом, наш приторно сладкий диалог продлился достаточно долго, заставив меня совсем заскучать. Татьяна все время краснела и, скрываясь от меня за веером, кивала на каждую фразу своей мамаши. Когда мне уж совсем надоело слушать Дмитрия Павловича, я поспешил пригласить Татьяну на танцы.
Мерно продвигаясь из буфетной залы, я заметил, что у самого выхода вдруг появилась недовольная фигура Алекса. Его так перекосило, что я едва не загоготал! О, то была физиономия крайне забавная, ее бы стоило показывать в водевилях!
Войдя в танцевальную залу, я завел уточку в самый центр и огляделся, надеясь увидеть Мари.
– Так волнуюсь танцевать!.. На нас так пристально смотрят… – теряясь, проговорила Татьяна, тяжело вливаясь вместе со мною в толпу вальсирующих.
– Не смущайтесь, Татьяна Дмитриевна, они лишь завидуют вашей молодости. Те дамы ездят из бала в бал, а их никто не приглашает на танцы, но что до вас… Сегодня ваш первый бал, а вы уже танцуете со мною, околдовывая плавными движениями публику, – витиевато ввернул я, горячо надеясь, что Аранчевская наблюдает за нами.
– Вы так красиво говорите… – тихо пролепетала Татьяна и смутилась, вновь розовея.
– И правда, многие хвалят мой слог, он хорош, не так ли? Ну ладно, признаться, глубоко польщен, благодарю вас за комплимент, мадмуазель Уткина, – отреагировал я и, так и не приметив émeraude, продолжил в несколько настойчивом тоне: – Татьяна Дмитриевна, заняты ли вы с кем-нибудь на следующий танец? Намереваюсь вас пригласить.
Тогда мы с уточкой решили, что и следующий танец проведем вместе. Какое-то время Татьяна что-то мне лепетала своим детским голоском, но, признаться, я не помню высказанной бессмыслицы, да и вообще, честно говоря, совершенно ее не слушал, разве что изредка вежливо улыбался и согласно кивал. Мои глаза, наконец-то обнаружив Аранчевскую, были заняты более интересным зрелищем. Сложно передать, с какой сверкающей горячностью Мари глядела на меня, как до бешенства были расширены ее карие глаза, как она покраснела! Что-то долго объясняя, стараясь не кричать, не расплакаться у всех на глазах, не привлекать внимания, Мария только подогревала общественное волнение. Публика с любопытством наблюдала за Аранчевской и, следовательно, за моею фигурою, это меня дико радовало и раззадоривало на новые театральные задумки. Девоян, схватив удобный случай за хвост, принялся придумывать анекдоты на эту тему с некоторыми господами из кукушки (кутиловской компании), то и дело поглядывая на княжну. В конце концов, когда у армяна образовались все наши, в том числе явился и Мишель Баринов, Аранчевская устремилась вон из зала, расталкивая по сторонам тех, кто попадался ей на пути. За княжной тогда же поспешили ее тетушка, мать и подруги.
С окончанием танца и мне следовало торопиться к Мари, но я не смог покинуть Татьяну, не затронув ее детских чувств.
– К сожалению, Татьяна Дмитриевна, наш танец подошел к неминуемому концу, и более я не имею права с вами танцевать. О, кто только придумал правило трех танцев! Какая досада!
– Но мы танцевали только два… – нелепо заявила графиня.
– Но после третьего вам придется выйти за меня замуж; я не хочу быть эгоистом и обрекать вас на столь быстрые сердечные решения, – нервно заметил я, но тотчас продолжил мягче: – Ежели не правила, то знайте, мадмуазель Уткина, я бы танцевал с вами без остановки! Мне было приятно узнать вас, лестно получить столь высокую честь танцевать с вами ваши первые танцы.
– И мне… – по-детски вставила девочка, склонив голову.
«Право слово, она даже не знает, что мне ответить! "И мне" – ответила она! Поразительная утиная глупость! Какой она, однако, раздражающий человечек! – подумал я». Но в тот же миг перекрыл неловкое молчание фразой, высказанной невпопад:
– К столу с пуншем, все матушки обычно там ожидают дочерей.
– Г-н де Вьен, вы сегодня допоздна у фон Верденштайнов? – поинтересовалась Татьяна, когда мы уже пробирались сквозь толпу.
– Даже не знаю, мадмуазель Уткина, но я, возможно, пробуду здесь еще около двух часов, быть может, несколько подольше. А что до вас?
– Вы же догадываетесь, это зависит не от меня, но, предполагаю, что допоздна. Папенька слишком любит играть в бильярд… К тому же, мы так много денег потратили, чтоб сюда прийти… будем до конца.
«А мне, конечно, непременно надо было знать, что чтобы ей сюда приволочиться, надо было потратить целое состояние», – подметил я сам себе, продолжая разговор:
– Ежели хотите, то непременно вас найду, но только в том случае, разумеется, ежели вы пожелаете уделить мне немного своего драгоценного времени вновь.
– Конечно, я бы очень желала и…
– А вот и ваша maman, Татьяна Дмитриевна, – отделался я.
Сдав наконец утенка в руки мамаши, я заспешил к Мари. Припоминая, что должен искать комнату у картины Рафаэля, я маялся – все двери были похожи одна на другую, возле каждой комнаты висела картина Рафаэля. Иногда я сбивался с поисков, задумываясь о Татьяне, а точнее, не о ней самой, а об ее нелепой фамилии. Какое-то время погодя, быть может, спустя минут пятнадцать или двадцать, я все-таки нашел нужную мне комнату. Подойдя к очередной двери, я прислонился ухом и принялся вслушиваться в звуки; раздался топот. Заскочив за цветочную вазу, я замер и зачем-то затаил дыхание. Из комнаты вылетели знакомые мне фигуры: Евгения Виссарионовна, мать Мари, и три суетливые подруги.
– Ох уж этот Блуд Девьенович! Использовал девку и выбросил! А я с самого начала предрекала, между прочим, но никто меня не послушал, даже вы, мамаша! Ну знали же вы этого баловня! – вопила г-жа Растопшина, эхом отзываясь в просторном коридоре. – Машка вторая ваш супруг, дорогая сестрица! Дочь ваша бестолковая и упрямая, как овца! Вечно надеется она на любовь, и что же? Валяется теперь, как использованный носовой платок! Кому нужна такая жена? Какому-нибудь мелкому чиновничишке с огромным пузом вместо состояния и породы?
– Ваше сиятельство, Евгения Виссарионовна, не говорите так, прошу вас! Мари любит князя де Вьена, а он ее, – вступилась Ольга, вторая подруга émeraude. – У них самая настоящая любовь.
– А! Вот, оказывается, как тайные встречи по четвергам называются – любовь! Разврат этот имеет другое название! – остановившись, громом раздалась г-жа Растопшина, толстая шея ее по обыкновению надулась. – Понавоспитывают дурех, а я потом думать должна, что с ними делать! Куда ее теперь пристраивать после этого?.. Даже лошадь пещерная не возьмет ее ни за какие деньжища!
– Вот увидите, Евгения Виссарионовна, они поженятся, – стояла на своем Ольга Тригоцкая, в то время как Александра Виссарионовна сжималась и серела под яростным взглядом г-жи Растопшиной.
– Не допущу, чтобы моя лучшая подруга имела отношения с этим Блудом Девьеновичем! – быстро вмешалась Анна, самая близкая подруга Мари, голос ее был похож на тявканье маленькой собаки. – Для этой змеи под названием Адольф ничего не стоит кого-то обмануть для своих выкрутасов! За предыдущий месяц мы все уже вдоволь насмотрелись, ведь так, Натали? Чего ты язык проглотила? Лучше бы он вообще из своей Франции не приезжал! Да, Натали?!
– Oui… – испуганно мяукнула третья подруга, тускнея под напором Анны Швецовой.
– Натали, безрассудно! – возмутилась Ольга. – Вместо того чтобы поддакивать, ты должна защищать нашу Мари и ее любовь.
– Не нужно так громко кричать, дамы… – неумело вставила maman Аранчевской, опустив неуверенный взор.
– А что, стыдно, сестрица?! Да поздно уж, милая! Пойду твоего отыщу, пусть тоже за дочь порадуется! – бросила напоследок г-жа Растопшина, следуя дальше по коридору.
Когда дамы скрылись за поворотом к лестнице, я мелькнул в комнату. Явившись к Мари, застал ее в расстроенных чувствах, она даже не обернулась на меня и стояла возле окна, плача и сотрясаясь.
– Слышу, что вы вернулись, тетушка! Сказала же, что не выйду! Довольно с меня позора!
Демонстративно заложив руки на груди, я выждал.
– Евгения Виссарионовна! – наконец развернулась émeraude и сделала большие глаза. – Адольф, вы посмели заявиться в такую минуту! Вы унизили меня перед всеми!
– Во-первых, не нужно на меня повышать голос. Во-вторых, явился, потому что вы звали на некий разговор, и ежели бы не пришел, то выказал бы тем самым неуважение к вам, а я люблю вас и не испытываю малейшего желания вас унизить. В-третьих, опозорили вы меня, а не я вас, дорогая émeraude. Вы устроили целый спектакль и, точно дитя, махали руками и топали ногами, – расхаживая по комнате, прояснял я. – Из-за неразумного поведения вы допустили анекдоты о вашей персоне, а следовательно, и о моей. Баринов хохотал так, что смех его был слышен в Рязани. В-четвертых, не понимаю, какие выкрутасы вы имеете в виду, что вам успела наплести любезная тетушка? Да, допустим, я ходил по гостям в предыдущие месяцы, и да, общался с барышнями, впрочем, как и перед приездом в Россию – ходил в гости и общался с барышнями, но и? Что мне, теперь не делать визитов только потому, что вы ревнуете? Ну извините, раз связь с вами предполагает посажение на цепь и житие в темнице – увольте, ко всеограничивающим отношениям я не готов. Вам стоило бы искупить вину передо мной, но я, собственно, даже не знаю, как скоро смогу смилостивиться. Да и надо ли это теперь?
– Стойте! – схватив мне руку, останавливала княжна.
– Душенька, что за выходки? Не цепляйтесь, – легко одернув руку, я выделал оскорбленного.
В то же мгновение Аранчевская подскочила к выходу, торопливо заперлась на ключ и спрятала руки за спину.
– Вы никуда не уйдете! Давайте мириться! – начиная плакать, бросала émeraude. – Виновата, признаю! Но что мне поделать, ежели я вас люблю, как мне вас не ревновать?
Не найдя, что сказать, я обвел Мари взглядом и, уместившись в кресле, принялся выжидать развязки.
Следующие подробности опускаю, но после мне совсем не хотелось возвращаться к балу. Пока я расцеловывал шею Мари, волнующуюся от неспокойного дыхания, мой слух улавливал отзвуки громкой музыки, что каждый раз безропотно растворялись в биении любимого сердца.
– Почему вы с ней танцевали? – вдруг испросила княжна. – Неужели она вам понравилась, эта страшненькая?
– Да что вы как ребенок, ma mie (моя крошка), в самом деле? – вздохнул я, приподнимаясь на кровати. – Этот гаденький утенок Державину понравился, я решил его позлить.
– Вы теперь надолго здесь? – интересовалась Мария, переводя тему. – Вот мы уже утром выдвигаемся назад в Петербург. Здесь ужасно скучно, чтоб вы знали, и я рада, что этот недельный визит закончился.
– Сразу же уеду, явился только лишь за-ради вас, mon émeraude, – признался я, усаживаясь на кровати. – Отцу нездоровится, он кашляет кровью и задыхается, сегодня утром с ним сделался приступ.
– Как жаль, mon cha-cha. Надеюсь, ваш папенька вскорости поправится. Отправьте г-на де Вьена в Крым, – сказала Аранчевская, любуясь мною. – А как зовут ту страшненькую?
– Уткина! – расхохотался я. – Представляете, до знакомства Державину высказал, что она похожа на утку!
Мария мгновенно подхватила мое веселое настроение и, шутливо посмеиваясь над Татьяной, принялась выдумывать забавные прозвища. Тогда мне показалось, что княжна забыла свою ревность, что театральная задумка моя прошла успешно, все встало на прежние места.
Наконец собравшись, я двинулся в игральные залы, наслаждаясь запахом пленительных духов Мари, пропитавшими меня насквозь. Свечи той стороны, по которой я прикровенно продвигался, видимо, были зажжены еще задолго до приезда гостей, к моему появлению уже потухли. «Так или иначе, где-нибудь должна же быть лестница, ведущая в игральные залы. А раз обычно такие лестницы винтовые, то я должен искать ее в одной из комнат, скрытой от глаз», – размышлял я, оглядываясь по сторонам. Вдруг мне послышался хохот Льва Константиновича и Дмитрия Павловича, доносящийся прямо по коридору. Не найдя, куда спрятаться, я забежал в первую попавшуюся комнату и прильнул к двери. Когда спугнувшие голоса минули меня и растворились вдалеке, я наконец заметил, что нахожусь в комнатке совершенно непримечательной. У стула, что находился подле столика с подсвечником, где, колыхаясь, постепенно умирала тощая свеча, храпел лакей, знатно напившийся. «Ему комнаты охранять поручили, а он пьян! Вот и плати этим подлецам потом!», – примечая за перегородкой перила, пробубнил я, – «слава небесам! Винтовая лестница!»
Ступая на самые носочки, я начал спускаться. Когда голова моя уже миновала верхнюю комнату, я увидел, что благодушное провидение вновь сыграло мне на руку и спасло от излишних объяснений. Винтовая лестница была огорожена от карточного зала массивным книжным шкафом. Затаив дыхание, я потихоньку вынул какую-то книжонку и раскрыл ее на первой попавшейся странице. Вскоре начались разговоры, благодаря которым я опознал общество за столом.
– Ха! Так-то, князь, будете знать, как со мною за карты садиться! – визгливо проговорил голос с французским акцентом; я сразу понял, что речь принадлежит маркизу Виктору Морилье.
– Вы должны мне еще пятьсот рублей, – выговорил Альберт Керр. – Еще играете или на собрании кукушки отдадите?
– Боюсь, мне больше так не повезет! – заскулил Морилье. – Удача – женщина такая, сегодня она с вами, завтра с другим – куртизанка, одним словом! Отдам вам на собрании.
– Перерыв, господа. Подождем де Вьена младшего, – встрял Феликс Розенбах, скрипя стулом и сапогами.
– Ах де Вьена, неужели-с? Он пропал-с после танца с новой графиней… как ее там… опять запамятовал-с… Милый князь даже, возможно, сразу укатил-с, – удивился г-н Крупской, пытаясь вспомнить имя Татьяны.
– С графиней Уткиной, кажется, – подхватил Керр, – Да-да, точно с Татьяной Дмитриевной наш милый князь танцевал, Кирилла Алексеевич.
– Да-с, именно с ней! А зачем-с вам воспонадобилось до де Вьену, г-н Розенбах? Известно-с, папенька егошний денег не дает после прошедшего месяцу. Это я к тому, что ежели вы до него вознамерились за деньжонками потянуться, то уж извольте-с передумать.
– Наш де Вьен обещался сегодня же, – вступился Феликс.
– А мне, а мне!.. – взвизжал Морилье, в конце охрипнув и откашлявшись. – А мне он вообще тысячу не вернул!
– Вернет. Адольф порядочный человек, – заверил Керр, черкнув спичкою и оживив сигару.
– Какой позор! – осуждающе возник голос графа Сахарова. – О чем он только думал! Ведь срамит же отца своего!
– Говорят, Эдмонд де Вьен рассержен на сына, грозит лишением наследства, – возле самой книжной полки, за коей я прятался, вдруг проявился Петруша Бекетов. – Мама сказала, что и золотая бабка ничего Адольфу не оставит, все богатство сдаст на благотворительность.
– Ваша мамаша вновь собирает вздор, не слушайте ее, – грубо внедрил Девоян, начиная важно ходить по залу. – Сколько вам повторять, сколько учить вас, чтобы вы, наконец, запомнили, что слова женщин – либо выдумка, либо чьи-то сплетни, либо абсурд, рожденный глупостью?
– Я бы-с не был столь категоричен, молодой вы мой человечек, – поднялся с места г-н Крупской. – В вашем возрасте-с, да делать подобные выводы-с как минимум неосмотрительно, особенно в присутствии благородных мужей, у коих уже имеется семья.
– У каждого свои недостатки, – пробубнил Артур Девоян. – Лично я не собираюсь жениться вообще, тем более заводить детей.
– Тоже когда-то так говорил-с, – захохотал Кирилла Алексеевич. – А что насчет де Вьенов-с добавить бы хотел, так то, что на днях, буквально позавчера, мы с семьею и матушкой моею-с посещали старого князя. Он сказал, что до определенного моменту-с сын егошний совсем не навещал, жил во своем дворце на Английской набережной, спокойно себе развлекался то с Аранчевской, то с… другими-с барышнями, сами понимаете-с… чаевничать ходил-с, а теперь заселился к нему на Невском и всюду вылавливает, покою не дает-с.
– А говорили же, что князь Эдмонд де Вьен последнее время совсем нездоров, почти при смерти. Вот Адольф и вылавливает его всюду, – приставил Бекетов, неумело встревая в разговор.
– Пожалел бы отца, жуир! Сумма выходит колоссальная, господа! – озабоченный моими деньгами, вновь затрещал граф Сахаров. – Я так посчитал, что на ваших кукушечных собраниях, господа, ваш милый князь проиграл осьмнадцать тысяч рублей!
– Немыслимо-с! Осьмнадцать! – тоже желая быть причастным к обсуждению моих денег и осуждению поведения, возопил г-н Крупской.
– Идите ко мне в счетоводы, Матвей Аверьянович, – вышел я из-за книжного шкафа, уничижительно оглядывая помещение.
Обернувшиеся на мой голос лица участников карточных игр перекосились в испуге. Маркиз громко икнул, Бекетов схватился за сердце, а Девоян побледнел и присел на месте. По голосу я угадал всех, но вот кого не слышал, так это Павла и Алексея Шведовых. Все, кроме них, сидели вокруг стола. По лицу Павла было видно, что он вновь проигрался.
– Денег много, наши счетчики сбиваются, подсобите? У вас с математическими науками, я посмотрю, довольно близкая дружба, – возник я, взглядом язвя графа Сахарова. – И вообще, вы не в праве меня осуждать. Хоть я и проиграл столь позорную сумму, но хотя бы не ставил на свое родовое имение или украшения жены. А про вас, г-н Крупской, вообще ни слова хорошего не скажу! Даже теперь вы потихоньку скидываете спрятанные карты в общую кучу, под стол; жулье!
– Ложь! – вскричал Кирилла Алексеевич.
– Разумеется, понимаю, что мы все здесь не без греха, но не до такой же степени! – продолжил я, игнорируя восклицания г-на Крупского. – Уверен, все хорошо помнят ваш «анекдот-с», выражаясь на вашем же языке. Баринов тогда шутил у нас: «представьте, как он, непринужденно выплывая рыбкой из-за игрального стола, выронил целую пачку разноколодных карт, состоящую из всевозможных мастей! Затем, разведя руками и присев в реверансе, произнес свое: "анекдот-с"».
– И правда-с, змий! – выругался на меня Кирилла Алексеевич и, плюнув через плечо, демонстративно вышел из игральной залы, хлопнув дверью; г-н Сахаров, зачем-то выпучивая глаза, скрылся за ним же.
– Милый князь, где деньги? – спокойно вступил Розенбах. – Надеетесь отыграться?
– Надежда умирает последней, Феликс Эдуардович, – ответил я, усаживаясь за стол.
Карточный бой шел ожесточенный, но позволил здорово уменьшить долг Розенбаху, остальные я поклялся вернуть после. За игрою разговоры не велись, но было видно, каждый проворачивал в воспоминаниях недавние диалоги и мое ошеломительное явление. Позже явившийся Себастьян фон Верденштайн, примечая видимое напряжение зала, слишком силился находиться в нашем кругу, но все-таки превозмог себя и успокоился. Пока Альберт Керр упорно защищал меня в картах и часто, довольно глупо, подставлялся, в зале заметно прибавилось: явился Мишель Баринов и Карамазин, сын Крупского и Григорий Хмельницкий, яро присоединившийся против меня в новой партии. По окончании игры Альберт остался должен Григорию Германовичу пятьсот рублей и своему другу Розенбаху триста рублей.
– Скажу отцу, что лучший картежник проигрался – обхохочется! – начал разговоры Баринов, пока Керр косил на меня слегка из-под лба, как бы говоря тем самым: «ты мой должник». – Слушайте, а чего это у вас за посиделки крысиные были? Мутки мутите против кого-нибудь? Никак твой Кощей еще кого обобрать решил, де Вьен?
– Это он может, – проскрежетал Девоян.
В тот же момент вход в карточную залу растворился, впуская к нам двух симпатичных мальчиков: Ваню, младшего брата Анны Тригоцкой, и его друга, мгновенно зардевшегося.
– О, какова! – все с той же наглой, издевательской интонацией продолжал Мишель. – Ты прочь поди, Тригоцкий, а ты, глазастая, останься.
Сиганув назад, Ваня хлопнул дверью, кинув друга на съедение Баринову. Толпа карточной залы, как стая шакалов, выжидала.
– Это ты та самая Данила Твардовская? – вопросил Мишель, располагаясь на стуле подле меня, и, не заслышав ответа, прикрикнул, шлепнув рукою об ногу: – Ты или не ты, отвечай перед господами!
– Я тот самый Даниил Твардовский… – робко отозвался юноша, виновато склонив голову; тотчас всюду раздались смешки и определения: «а, лакей!»
– Дайте сигару; или Кощей запрещает вам курить? – обращаясь ко мне, перескочил Мишель; заполучив желаемое, он оживил это спичкою и принялся ходить по комнате. – Господа! Помните, я обмолвился?.. Перед вами та самая двадцатилетняя княжна Данила Вадимовна Твардовская! Теперь прислуживает мне в качестве слуги наша Данила! – злобной пошлостью рассмеялся Мишель и шлепнул юношу по макушке, заставив присутствующих разразиться животным хохотом.
Вырвавшись от Баринова, Даниил рванул к двери и, принимаясь дергать за ручку, стал ломиться на выход.
– Ты же моя лапочка, ну! Куда побежала? Иди-ка сюда, Данила, я не разрешил уходить, – как бы засюсюкал Мишель, взяв расплакавшегося Твардовского за руку. – Еще и хнычет, какая прелесть! У фон Верденштайнов дверь в эту залу защелкивается, дорогуша! Теперь ничего не остается, как ждать подмоги. Ну, милая Данила, пойди, принеси-ка мне вон тот стульчик, что подле де Вьена, – мотая юношу за щеку, приказал Мишель и, подкинув вверх золотую монетку, прибавил: – А это папке своему отдашь за то, что воспитал такую послушную дочурку.
Мальчик, сопровождаемый смешками зала, подняв с пола золотую монетку, повиновался и робко побрел за стулом. Не отнимая взгляда, боязливо подойдя ко мне, Твардовский выжидал и моих действий.
– Бу! – возле самого уха юноши вскрикнул Девоян, от чего зал буквально зазвенел смехом.
Тогда Твардовский разинул рот и заплакал, прям как ребенок.
– Довольно! – вскочив с места, возмутился я. – Вцепились, как псы дворовые!
Внезапная тишина зала, было слышно, еще повторяла мою фразу, отзываясь эхом в пустых хрустальных вазах.
– Я пока не вцеплялся, – вздохнув, обозначил Мишель, улыбаясь своею кривой нагловатой улыбкой. – А вот от Аранчевской до сих пор не отцепился. Так и теплится воспоминание!..
Проигнорировав колкую провокацию Баринова, я взял Даниила за руку и повел нас на выход.
– Я же сказал, что заперта, – ухмыльнулся Мишель, когда я и Даниил уже поравнялись с его телом, важно выпятившим грудь.
Презрительно оглядев Мишеля с ног до головы, я кинул перед ним его золотую монетку. Присутствующие замерли, и, кажется, даже всякие дыхания прекратились. Баринов растерялся, но глядел только вперед, тщась удержать уверенность. Подобравшись к двери, я потянул ручку на себя.
– Дверь эта открывается внутрь, – напоследок добавил я и, заложив руки за спину, вышел с рыдающим Твардовским в коридор.
Юноша еще долго не унимался, я решительно не знал, что мне предпринять и как успокоить его истерику.
– Прошу вас, Даниил Вадимович, перестаньте плакать… – как бы утешал я, поглядывая то на юношу, то по сторонам.
– Теперь папенька отругает меня, – тихо произнес Твардовский. – Папенька приказал во всем слушаться г-на Баринова и делать то, что он прикажет, безропотно повинуясь.
– Почему? – удивился я.
– Папенька проиграл наши последние земли, теперь у нас нет денег. А земли проиграл как раз отцу Михаила Львовича – Льву Константиновичу. Уже прошло три месяца с тех пор. За то, что меня приставили лакеем, Лев Константинович платит папеньке по тридцать рублей… теперь, вероятно, не станет платить.
– То, что вы мне сейчас рассказали, ужасно! – поразился я, отодвинув юношу. – Так уж и быть, отыграю ваши земли и оформлю нужные документы. Только пообещайте мне, что забудете ходить к Баринову и не станете вмешивать своего отца в будущие дела с землей.
– Так как же, ваше сиятельство, мне всего двадцать, я не могу вести дела, ведь я несовершеннолетний, – промяукал Твардовский.
– Пообещайте, говорю! – приказал я.
– Обещаю… – прошептал юноша.
– Завтра же утром отправьте ко мне на Невский послание со своим домашним адресом, вышлю вам денег на первое время, – направившись с Даниилом к бальному залу, требовал я. – И больше не смейте рыдать, вам ясно? Эти люди не достойны ваших слез. Найдите себе приличную компанию, ежели вы желаете вырасти в порядочного господина. Общество – это земля, ежели вы выберете правильную почву, вы будете вкусно пахнуть и красиво цвести. Поезжайте домой и возьмите в руки умную книжку, не тратьте время зря. К тому же, вам еще рано ездить на балы и вечера.
Кончив разговоры, я вошел в зал. Шел всего третий час ночи, и, что удивительно, к тому времени я уже устал. «Интересно, как Мария? Когда уходил, глаза ее были печальны и, казалось, наполнялись слезами, точно она целовала меня в последний раз», – вспомнил я. Подняв глаза, я увидал невдалеке Алекса. Заметив, что направляюсь в его сторону, князь презрительно отвернулся к яствам и, взяв себе еще ананасу, нервными порывами принялся запихивать желтые куски лакомства в себя. У стола я взял шампанского и, словно не примечая Державина, потягивая напиток, стал вглядываться в танцующую публику. Немного погодя я почувствовал на себе взгляд Алекса и, повернувшись, увидал, что тот действительно глядит на меня, все так же продолжая давиться ананасами.
– Ежели вы будете питаться только ананасами, ничем их не запивая и не закусывая, у вас начнется аллергия, мой друг.
– У меня быстрее начнется аллергия на ваши выходки… – все так же жевал князь, – …чем на ананасы!
– Не говорите с набитым ртом – гадко.
– Это-то гадко?! А воровать женщину не гадко? – прошипел Державин. – Даже в гости ее пригласить успели, неслыханная наглость!
– Постойте, никого никуда не звал, Александр Александрович, – удивился я. – Странно, что у вашей пуга́ло фамилия Уткина, а не Сапогова – только во втором случае поразительное отсутствие интеллекта было бы оправдано. Сама придумала, что она кому-то нужна в каких-то гостях, теперь выдает это за факт пред кем попало. Хотя, знаете, я даже готов принять участие в этой выдумке, чтобы перед свадьбой поиграть на нервах Мари – после приступов ревности émeraude становится такой нежной, как упитанный кролик.
– А вы зме-я-я-я! – растянув последнее слово, как феноменальное открытие, высказал Алекс, кивая головой. – Войны хотите, правда же? Что ж, я вам ее устрою. Предлагаю спор: кто быстрее завоюет расположение графини, кто раньше прослывет в обществе как человек, с которым молоденькая графиня крутит шашни, тому тридцать тысяч рублей серебром. Или, быть может, то, чем вы цепляетесь за чужих женщин ради собственных забав, считает это пари бессмысленным, так как уверено в неминуемом поражении и бессилии?
– Последнее слово, раз уж я, как вы выразились, за кого-то цепляюсь, явно ко мне не относится, Державин, – рассмеялся я, пока князь продолжал краснеть и яростнее прожигать меня взглядом. – Да пожалуйста, Александр Александрович, принимаю пари. Готовьте деньги и запасайтесь ананасами, вам придется ими удавиться, денег-то у вас нет, – насмешливо закончил я и, решив покинуть общество князя, направился к другому столу с угощениями, будто ничего не произошло.
У второго стола ожидала компания как раз по случаю спора: графини Уткины. Пока я шел, Татьяна оглядывала публику, будто желая кого-то заметить. Увидав меня, уточка обычно порозовела и, прикрывшись веером, прерывисто затараторила своей maman. Чем ближе я продвигался к Уткиным, тем острее моему глазу становились черты лица юной графини. «Не пойму, зачем она поднимает брови? Ее лицо и без того выглядит нелепо, особенно верхняя узенькая губа, вычерченная тонкой линией, а с такими бровями на графиню становится попросту смешно», – наблюдал я, – «еще и глазки пучит, господи! И вот на это я поспорил! Может, отдать Державину деньги и гулять с миром?» Уже у стола, поклонившись, я вступил:
– Доброго времени, Анна Сергеевна, Татьяна Дмитриевна. Потерял всякую надежду встретить вас.
– Мы также потеряли всякую надежду увидеть вас вновь. Тати сказала, что вы намеревались оставаться у фон Верденштайн всего около двух часов.
– Как видите, до сих пор здесь, но уже собираюсь домой. Хотел до отъезда вновь повидать вас.
– Сейчас только начало четвертого, балу еще греметь и греметь.
– К сожалению, должен ехать. Кстати, почему вы не танцуете?
– Право, вы мне льстите, г-н де Вьен, – коротко посмеялась г-жа Уткина. – Да все никак не могу отыскать своего мужа. А Тати ни с кем более танцевать не желает.
– Мне наступили на ногу! – резко высказалась девочка, надувая пухлую нижнюю губку.
– Тати, невежливо!
– Да… извините меня, я болтаю много лишнего… – спрятав глаза, пробубнила уточка, в то время как ее мамаша, приветственно расставив руки, потянулась в сторону.
Новые лица, оказавшиеся подле нас, были тетушкой и дядюшкой Татьяны. Раскланявшись с г-ном Елизаровым, я хотел было приветствовать Елизавету Павловну, подавая к той руку, но княгиня неожиданно сжала мои пальцы и с жалостью всмотрелась в глаза. Насторожившись, я повел корпусом назад.
– Ах, милый князь, вы в действительности необычайно милы! Вам приписали очень правильное обозначение! – восхищенно начала г-жа Елизарова, все так же сжимая мне руку. – Наконец-то вижу вас вот так, как теперь ваш светлый лик явился предо мною! Ах, милый, милый князь!
– Боюсь, я мил только для вас, г-жа Елизарова. Многие, как сегодня подтвердил Дмитрий Павлович, отзываются обо мне «самыми восторженными комментариями».
– Мой брат совсем не умеет красиво сказать; но знайте, он был исключительного мнения о вас, милый князь! Как ваш батюшка, г-н де Вьен? Слышала, он нездоров.
– Да, сегодня ему стало хуже, – отвечал я, переводя взгляд на Сергея Михайловича, влюбленными очами прослеживающего движения княгини.
Только тогда, когда обозначил свой отъезд, г-н Елизаров отвлекся и, сделавшись скучающим, принялся со мною прощаться. Дождавшись, наконец, экипажа, я уехал домой, где застал своего старика в довольно бодром расположении духа. Папаша с порога стал расспрашивать меня о том, как прошел бал, но стоило ему услышать имя Мари, тот разнервничался, прекратил разговоры и ушел к себе.
Что ж, на этом, дорогой дневник, спешу откланяться, мне нужно привести себя в порядок перед визитом к Аранчевским.
Вернулся. До сих пор не могу прийти в себя. Впрочем, по порядку. Приехали мы, значит, с отцом к Аранчевским. Войдя в переднюю, скинули верхние одежды, дождались, когда лакей передаст о нас, и проследовали наверх. Уже в розовой гостиной нас встретили: Александра Виссарионовна Аранчевская, Константин Константинович и их дочь (моя Мария), родная старшая сестра княгини (Евгения Виссарионовна Растопшина) и ее супруг, их старшая дочь Констанция и младшая Арина, помимо них в комнате пребывала княжна Ольга со своею матушкой (Катериной Михайловной Тригоцкой). Пока мы приветствовали друг друга на французский манер, слуги суетились у кофейного столика. Начав скучные разговоры с обсуждения погоды, мы расположились на бархатных розовых диванах и креслах, кушая цветочный чай. Пока каждый с обожанием пересчитывал зубы во рту моего отца, я наблюдал за тем, как усердно émeraude обмакивала песочные печенья в душистый чай. Кажется, княжна попробовала тогда все, что мы привезли с собою, и все это она непременно окунала в чай. Мария настолько была увлечена сладостями, что не примечала ни меня, любующегося ею, ни других, хотя упорно силилась выделать из себя вид порядочной слушательницы. Во время бесед на нежный пальчик émeraude вскочила молочная капля чаю, кою княжна, стараясь остаться незамеченной, быстро слизнула. Тогда я не утерпел и слегка прикоснулся к ножке Мари своею ногою.
– Je t’aime, – беззвучно обозначил я, расплываясь в улыбке.
– Moi, je t’aime aussi, mon cha-cha, – призакрыв очи, беззвучно повторила княжна и, потянувшись рукою, сплела наши пальцы.
Пока я и émeraude вздыхали и переглядывались, вокруг говорили о внешней похожести потомков на предков. Г-н Аранчевский все пытался переспорить г-жу Растопшину, уверить нас в том, что Мари похожа на ее деда. Уж не помню, отчего вдруг они завели подобные разговоры и как перешли от чая к родственникам, но Константин Константинович и Евгения Виссарионовна чуть между собою не рассорились у нас на глазах. Г-н Аранчевский оказался мудрее и завершил разговор первым, сведя споры к тому, что он был неправ. Затем все переключились на нас с отцом, обнаруживая сходства. Княгиню Растопшину, восхищенную Эдмондом де Вьеном всю свою сознательную жизнь, сравнения разозлили. Она воспринимала разговоры в штыки и показательно закатывала глаза. Слушал я мало и, несмотря на несогласия с любезными замечаниями, не произнес и слова, во весь разговор завороженно проглядел на Марию. Г-же Растопшиной и это не нравилось, поэтому, всех перебив, она нетерпеливо просила:
– Милый князь, сыграйте нам на чем-нибудь или спойте, это вы умеете лучше других.
Безропотно повинуясь желанию княгини, я выбрал арфу и принялся играть для Мари мелодию, придуманную накануне. Меня обрадовало, что княжна особенно очаровалась музыкой и даже сентиментально прослезилась. Кончив выступления, ставшие началом конца, я не без волнения подобрался к прежнему месту и начал затею:
– Что же, мы с вами совсем заболтались в столь дружественной обстановке, между тем я и мой отец приехали не просто навестить вас. Все уже знают, что мы с Марией Константиновной находимся в достаточно доверительных отношениях (здесь меня грубо прервала княгиня Растопшина едкой фразой: «ну еще бы!»). Решился, наконец, больше не морочить голову ни вам, mon émeraude, ни остальному золотому свету Петербурга, – протягивая платок с помолвочным подарком, вворачивал я. – Прошу, примите эти серьги и носите их с удовольствием в знак нашей любви.
– Милый князь! Признаться, не ожидала от вас смелого шага! – восклицала княгиня Растопшина, пока Мари разворачивала платок.
Но тут произошло то, что я никак не ожидал и не мог предвидеть. Émeraude, которая так же бережно раскрывала подарок, как и некогда окунала сладости в чае, резко изменилась в лице.
– Нет! – топнув ножкой, вскричала Аранчевская.
Крепко схватив руку, Мария швырнула серьги и вскочила с дивана. В тот же миг раздался надрывистый выкрик Евгении Виссарионовны, а с моим отцом случился приступ кашля. Поставив чай на стол, старый князь поспешил к выходу. Подруга Мари, Ольга, стыдливо кинулась из залы.
– Но Мария!.. – подымаясь, возмутился я. – Что за глупости?
– Нет, значит, нет! – бросила княжна, пихнув меня в плечи обеими руками, из-за чего я выронил серьги и сам чуть не упал.
С тем Александра Виссарионовна сделалась бледною и потухла в обморок прямо на кресле, ее супруг без конца утирал побелевший лоб, изливающийся ручьями пота.
– Что ж, Мария Константиновна, считайте, что ничего не было, – завершал я, пока Катерина Михайловна тщалась привести г-жу Аранчевскую в чувства, а Констанция и Арина зачем-то суетились по комнате, не зная, куда себя деть. – В ваших же интересах, чтобы об этом случае никто, кроме присутствующих, не знал. Беспокоюсь далеко не о себе, о вас пекусь.
– А что это вы так реагируете?! Или что, только вам можно?.. – вскрикнула княжна, кинув мне вслед подушкой. – Здесь нужно смеяться, это шутка такая, водевиль!
– Мария, замолчи! – возопила г-жа Растопшина, ускоряясь за мною. – Золотой наш Адольф де Вьен, князь наш любимейший, ненагляднейший, прошу вас, забудьте этой дурехе!.. Прошу вас, умоляю! – тараторила она, торопясь за мною вместе со старшей дочерью, пока я сбегал по лестнице. – Милый наш князь, прошу вас!.. подождите, простите ее!
– Одежды мне, лакей! – позвал я слугу. – Где Эдмонд де Вьен?
– Оне-с некоторое время назад вышли на двор, просили подать экипаж, – ответил лакей, чинно задирая нос.
– И что, уже подана?!
– Подана-с, – подтвердил слуга, быстро моргая.
– Прошу вас! Умоляю, драгоценнейший наш князь, не уезжайте, простите Мари, будьте великодушны, как только вы умеете! – молила Евгения Виссарионовна, суетясь возле меня, и, несмотря на то, что émeraude ни слова не сказала, постоянно приказывала той молчать, махая руками.
Вскоре г-жа Растопшина пала на колена и принялась лобзать мои руки. Вместе с тем вниз спустилась вся та же публика верхних залов. Максим Федорович и Константин Константинович почти вынесли г-жу Аранчевскую, поддерживая под руки с обеих сторон.
– Адольф, вы не можете вот так просто обидеться на сию нелепость и уехать! – наконец вставила Мария, надменно оглядывая меня. – Забудем? Вы шутник, и я решила.
– Мари, замолчи щажже! – от гнева надулась шея Евгении Виссарионовны. – Ты уже натворила!
– Доченька, такой момент! – проскулил г-н Аранчевский. – Наш милый князь, умоляю простить дочь мою!
– Тихо! – перебивая шум, вскрикнул я, пытаясь отодрать от своей руки г-жу Растопшину. – Да замолчите же, наконец! – вновь вскричал я оттого, что мольбы не прекратились, а лишь усилились от визгливых голосов Арины и Констанции.
Тотчас все смолкло, а слуги, разбежавшись от сцены, попрятались по углам. Наверху вдруг что-то упало и разбилось, но, кажется, кроме меня этого никто не услышал.
– Мы вас любим безумно и готовы сделать все, чтоб забылась эта оказия! Милый князь, пожалуйста, забудем все! Мария просто неудачно пошутила! – молила г-жа Растопшина. – Милый князь! О, как мы вас любим!..
– А я вас презираю! – прошипел я.
Толкнув от себя г-жу Растопшину, я пошатнулся в двери, чуть не вывалившись из особняка. Оказавшись в карете, где уже ждал отец, меня обуял безудержный смех, скоро сменившийся слезами.
Даже теперь, карябая пером страницы, не могу поверить в случившееся и едва сдерживаю слезы. Все думаю, за что Мария так жестоко поступила со мною, ведь я ни на секунду не переставал ее любить, не прекращал оказывать ей знаки внимания, одаривал подарками? Более чем уверен в том, что изумрудные серьги она все-таки станет носить, хвастаясь ими каждому встречному, но дело совсем не в серьгах, меня мучает вопрос: за что?
5 Février 1824
Третьего числа Уткины прислали к нам визитку с приглашением в гости. Отец категорически не хотел идти к людям «сомнительного происхождения и неясного положения в обществе», как он выражался, и задумывал дать отказ. Но в самый последний момент, собственно, после визита к Крупскому, на старого князя сошло некое озарение, и он поспешил ответить на визитку положительно.
Что касается меня, то свободное время предыдущих дней я провел за написанием портрета Татьяны, чтоб не являться в гости без подарка. Хотя ладно уж, буду откровенен, рисовал от силы два часа, а потом маялся бездельем: разленившись, лежал на диване вверх ногами. Ежели скажу, что Эдмонда де Вьена раздражал мой вид, то не скажу ничего. Всячески он выказывал мне свое недовольство. То отец подтрунивал над моею меланхолией за трапезой, сыпля едкими словечками, то через каждый час заглядывал ко мне в мастерскую со словами: «а, лежишь!» Эта фраза была своего рода ритуалом и поднимала ему настроение.
Вчера вечером к нам приходили Шведовы. Гавриила Васильевич жаловался на сына своего, Пашу, проигравшего две тысячи, а также разузнавал про меня, что делаю да что решил. Отец отвечал, что я записался в диванные эксперты. Г-н Шведов шутку старого князя не понял и обещал поставить меня в пример своим ленивым сыновьям.
В гостях у Уткиных первым делом нам предстала картинная галерея, приятно удивившая даже меня. Коллекция Дмитрия Павловича была всеобъемлюща, содержала в себе мастеров и старого времени, и нового. Какие-то полотна были отреставрированы правильно, чувствовалась рука профессионала, другие художества выглядели из рук вон плохо. Еще приметил, что один из портретов в коллекции являлся явной подделкой. Ежели издалека я допускал мысли о том, что ошибаюсь, нарекая работу фальшивкой, то вблизи я совершенно утвердился, что профессиональный взгляд меня не подвел.
– Диванный эксперт решил взяться за старое, – усмехнулся Эдмонд де Вьен, наблюдая за тем, как я разглядываю полотно с лупой.
– Князь Адольф де Вьен, вас что-то смутило в портрете? – бледнея, обеспокоился граф, зачем-то протягивая ко мне руки.
– Как же сказать!.. – промычал я, задумывая съязвить, но вдруг увидел, что Татьяна, вся смутившись и растерявшись, жалостливо глядит на меня. – Понятно… Все дело… а-а-а дело в масляной краске и технике работы.
– Что же не так? – пытался выведать г-н Уткин, голос которого начал заметно дрожать. – Может, я хранил неумело?..
– Не переживайте, все хорошо. Картина интересно написана. Над ней, видно, трудился хороший художник, – с этими словами я увидал, как Татьяна облегченно выдохнула.
– Вы напугали меня, г-н де Вьен! – ни к чему засмеялся Дмитрий Павлович, схватившись за сердце. – Что же, дорогие гости, пройдемте дальше! Следующие портреты лучше тех, что вы уже видели, ведь вас ждет сам Рембрандт!
Предупредив, что желаю еще немного побыть у картины, зацепившей внимание, я заметил, как уточка, не решаясь первая ко мне подобраться, неловко остановилась у следующего полотна. Девочка неуклюже сутулилась, явно стесняясь своего высокого роста, пучила глазки в картину, словно старалась понять китайский язык, и, несуразно обхватив себя сзади одной рукой, цеплялась пальцами за локоть другой нелепо свисающей конечности. Оглядев Таню с ног до головы, я приметил на ее больших ногах старые туфельки, исшарканные на носочке, и что платьице, приходящееся к ней не по возрасту и росту, было трижды перешито.
– Есть ли у вас подобные работы, Татьяна Дмитриевна, на которые я могу взглянуть? – превозмогая неприятные чувства, подошел я к графине, кивнув на фальшивый портрет.
– Да, у меня есть!.. то есть… что вы имели в виду? – пролепетала уточка. – Вы… хм-м-м… вы имеете в виду этого художника?.. нет… такая всего лишь одна; отец привез ее из Италии… – запинаясь, ответила девочка, делая между словами раздражающе большие паузы.
– Жаль, что больше нет подобных этой. Портрет превосходно написан, Татьяна Дмитриевна, – сказал я и заметил, что графине явно были приятны мои слова.
«Когда мы уедем отсюда, боже мой?! Отдам Державину любые деньги, хоть сто тысяч, поеду назад к Мари умолять ее снизойти до меня, лишь бы не видеть это рядом с собою! Какая жалкая, бедная девочка! – думал я, стараясь не морщиться. – Интересно, она вообще о чем-нибудь думает, анализирует происходящее или для нее это слишком сложно? Тупо хлопает слезливыми глазенками, непонятно зачем шевелит ноздрями и своим маленьким ротиком! Зачем я, господи, согласился на этот паршивый спор? О, во что меня втянул Алекс!» Пока пребывал в мыслях, г-н Уткин продолжал водить нас по картинной галерее, что-то рассказывал. Речь Дмитрия Павловича была нелогичной и резкой. То граф кричал, то хохотал, то говорил настолько тихо, что невозможно было его расслышать. Даже при большом желании мне бы не удалось передать смысла его корявой болтовни. Несмотря на то, что Эдмонда де Вьена г-н Уткин тоже раздражал, он находил упоение в том, что мучаюсь я, едва вынося общество «сомнительного происхождения и неясного положения».
Кончив с галереей, мы проследовали в гостиную, где сложилась беседа вдвое сумбурнее предыдущей. В конце концов голова моя отказалась соображать и начала зевать. Комната, в которой нас принимали, не сияла убранством и была крайне бедна. Цвета зала раздавались серыми и желтыми оттенками, что, сливаясь между собою, выходили в грязный лимонный. Но заметно выделялся потолок, его украшал «Апофеоз Геркулеса». Фреска настолько выбивалась из обстановки, что я даже развеселился: «этот особняк будто неумело состряпанная декорация к дилетантской постановке с начинающими актерами!» И действительно, складывалось впечатление, что не только дом, но и Уткины, особенно мамаша Татьяны, как и та поддельная картина, – дело, шитое белыми нитками.
– Нравится фреска, князь Адольф де Вьен? – прищуриваясь, растянул граф, пока слуги хлопотали с угощениями.
– Да, ваши мастера потрудились на славу.
– Мне льстят ваши слова, г-н де Вьен! – неожиданно воскликнул г-н Уткин, от чего мой отец даже вздрогнул. – Помню, ездил в Италию специально за картиной Тьеполо, но вышло так, что до меня приехало какое-то важное лицо и выкупило шедевр раньше! Самое обидное, что мне даже не удосужились объяснить, кто посмел первее меня, что называется!.. – рассказывал Дмитрий Павлович, набрасываясь на горячий шоколад. – Но благодаря этому случаю я решил отправиться в Испанию в надежде найти там что-то стоящее. Каково ж было удивление, когда я буквально наткнулся на портрет, на который вы засмотрелись, Адольф де Вьен! Ведь я пять лет, представляете, пять страдальческих лет искал именно его! Когда я впервые увидел копию, то стоял возле нее целый час времени, как привороженный! Тогда-то я и зарекся отыскать оригинал, где бы он ни находился и сколько бы ни стоил!
– К слову говоря, совсем забыл о подарках. Адольф поведал мне, что вы страстный коллекционер и давно желали познакомиться со мной. Я решил, что нет лучшего презента, чем новая картина, и выбрал для вас Хуана де Пареха, – вступил старый князь.
– Даже не знаю, как выразиться!.. – неказисто и громко начал граф. – Не поверите, ежели скажу, что мне именно этого полотна не хватало для полной коллекции де Пареха!
– Счастлив, что мой выбор пришелся к месту, Дмитрий Павлович.
– А это уже от меня, – начал я, вручая Тане свое художество. – Картина писана в моем излюбленном стиле.
– Боже!.. – воодушевилась графиня. – Мне прежде никто не дарил портретов, и я бы сказала, но не в обиду маменьке и папеньке, разумеется, что ваш подарок – самый лучший из всех, что мне когда-либо дарили!
С последними словами глаза Татьяны наполнились слезами, а во мне нечто содрогнулось и надломилось. «А ведь, помнится, я даже не старался проработать картину как следует, написал ее для вида, лишь бы хоть что-то подарить и не идти с пустыми руками. Как неловко вышло», – подумал я.
– Татьяна Дмитриевна, право, вы придаете портрету слишком большую ценность, – растерянно прозвучал мой голос.
– Спасибо вам, г-н де Вьен! Вовек не забуду столь прекрасного жеста… еще раз спасибо!.. И я непременно попрошу повесить картину в моих комнатах! – утирая слезки, лепетала уточка. – Вы волшебно рисуете… в вас живет душа великого художника! Кто знает, быть может, ваши картины оставят вечную память на страницах истории!..
– Татьяна Дмитриевна, не преувеличивайте, – усмехнулся Эдмонд де Вьен. – Эти картины оставят след лишь в вашей памяти.
– Не согласна с вами, Эдмонд де Вьен, уж простите, что смею вам перечить, – вмешалась Анна Сергеевна. – Ваш сын пишет лучше, чем тот же Тьеполо. Адольф де Вьен, могу ли я просить вас, чтобы вы рассказали нам о ваших школах? У кого и чему вы обучались, где обучались? Мне было бы очень интересно узнать о вас немного больше.
– Образование получил, как и все, домашнее. В занятия мои входила русская словесность, английский язык, латынь, немецкий, испанский, итальянский и, разумеется, французский. Каждую среду и пятницу я посещал музыкальные занятия, где учился скрипке, арфе, органу и клавишным. Субботы мои были посвящены математическим наукам. В воскресенье с семи до девяти часов у меня был учитель рисования, уроки которого мне больше всего нравились. В остальное время учили меня астрономии, географии, биологии, виноделию, химии, фехтованию и верховой езде. В общем, у меня были те же уроки, что и у обычного дворянина, поэтому я не могу удовлетворить вас рассказами о чем-то сверхъестественном, Анна Сергеевна. Все как и у всех, полагаю. Сколько себя помню, постоянно был занят учебой. Даже дорогой из Франции в Санкт-Петербург непрестанно учился, – не желая рассказывать о себе больше, скучно заканчивал я, замечая неудовлетворенное лицо г-жи Уткиной.
– А как же военная служба?! – неуместно вспылил Дмитрий Павлович, чем, видно, цепнул моего отца за больную мозоль. – Вот я служил, сын мой, Димка, служил, участвовали вместе в наполеоновской! Он хоть и мальцом тогда был, но большим удальцом! Какая то была битва, как мы лихо утерли нос проклятым французам!.. На той войне мы познакомились с князем Львом Константиновичем – удивительный, прекрасный человек, как и сын его – ну вылитый отец! Я, бывает, смотрю на них двоих и вообще не вижу разницы. А вы, Адольф де Вьен, должны были, как благородный человек, пройти азы! Ум умом, а военное дело по расписанию!
– Каждому свое, – ответил я, кушая горячего шоколаду. – Одним суждено грызть гранит науки, другим воевать.
– Да как же одним одно, другим другое, всем!.. – хотел было оспорить граф, но супруга его перебила.
– Исполните нам что-нибудь на скрипке, милый наш Адольф де Вьен! Слышала, ваш музыкальный дар очень нахваливают.
– С удовольствием бы вас уважил, но, может, лучше поговорим о Татьяне Дмитриевне?
– Адольф, не заставляй себя уговаривать, – недовольно пробубнил старый князь.
– Увольте, папа, я и не думал заставлять кого-либо меня уговаривать. С радостью что-нибудь исполню.
– Ну манифик, в таком случае! – ехидно вставила графиня, подымаясь с кресел. – Предлагаю проследовать за мной, дорогие гости, в музыкальную комнату. Как раз и Тати вам что-нибудь исполнит. Да, дочь?
Но уточка, не утруждаясь ответами, промолчала, глупо вылупив глазенки. Меж нами повисла неловкая тишина, каждый хотел ее прервать, но не знал, о чем начать разговор. Старый князь, не утерпев, бросил на меня разгневанный взгляд. Покрасневшее лицо его шипело злостью: «по твоей милости я терплю унижение, вращаясь среди Уткиных! Ты еще поплатишься!» – говорило оно. Пройдя по бедной анфиладе дворца, мы оказались в музыкальной гостиной, все такой же желто-серой и грязной, как предыдущая комната. На ножках подсвечника и на полу блестели шматки затвердевшего воска. В правом углу зала находился деревянный рояль с поцарапанной крышкой, а в противоположной стороне одиноко пребывала тонкая лакированная скрипка, что выглядела гораздо ценнее, чем весь особняк Уткиных целиком. Посредине комнаты на пыльном ковре располагался длинный кофейный столик, а вокруг него пять старых кресел из желтого атласа с кой-где торчащими нитками. Родители Татьяны и старый князь заняли те места, что были у скрипки, нам же с графиней осталось два с другой стороны. Когда все уселись, я принялся исполнять Вивальди, переделанного на свой манер. Композиции, вышедшие из-под моего пера, отличаются особенностью исполнения и нравятся далеко не всем. Эдмонда де Вьена мои мелодии раздражают, как и остальное производимое мною. Старый князь считает, что я слишком во всем напыщен. По его мнению, смычек мой рвет струны, которым ничего не остается, как истошно визжать.
По окончанию выступления, ожидаемо, зааплодировали только Уткины. Отец же продолжал помешивать сахар в чае и ухмыляться.
– И что, вам понравилось? – насмешливо спросил Эдмонд де Вьен.
– Разумеется! – воскликнул Дмитрий Павлович, вновь взбудоражив старого князя. – Вот только, признаться честно, так и не понял, чью музыку-то послушал.
– Это переписанная мною «la follia» Вивальди.
– Вы гений!.. – оживилась Татьяна. – К слову, г-н де Вьен, я долго думала, но решилась. Очень хотела бы вас запечатлеть на холсте. Надеюсь, вы мне не откажете?
– Не смею отказать, Татьяна Дмитриевна, но уместно ли сейчас?
– Г-н де Вьен, как высокий мастер своего дела, вы обязаны увидеть картины Тати, она у нас тоже достойно рисует, – ответила Анна Сергеевна, затем обратившись к слуге: – Степан, позовите Юлию Савишну, пусть она подойдет в мастерскую.
Пока лакей ходил за гувернанткой, а мы с графиней пребывали наедине, я не знал, какую тему зачать, чтоб развеять тишину. «Что Уткин, что мамаша Тани употребляют в своей речи слова, режущие слух. То одному я "должен", то другой "обязан". Не терплю эти выражения, особенно от людей, которым я никогда ничего не был и не буду должен да обязан. Может, в речах Аранчевских и Растопшиных тоже звучали таковые словечки, но они мои близкие, их речи принимались мною спокойно», – вертелось в голове, пока глаза оценочно блуждали от одной картины в мастерской к другой.
– Помнится мне, Татьяна Дмитриевна, вы говорили, что работ автора портрета из коллекции больше нет, – приметив знакомую технику, заключил я, окончательно убеждаясь в том, что фальшивку писала уточка.
– Ваше сиятельство, прошу, не говорите моему папеньке! Выполню все, что вы прикажете, только не говорите ему! У папы слабые нервы, и, боюсь, когда он узнает, что я испортила любимую картину коллекции, его схватит удар! – умоляла Татьяна, скрепив руки на груди.
– Не скажу только при условиях.
– Не мучьте меня! Пока мы с вами одни, скажите, что я должна для вас сделать!
– Во-первых, расскажите, как вы умудрились испортить оригинал, во-вторых, покажите его, – серьезно потребовал я.
– Это ужасная история, мне очень за нее стыдно… Ежели вы узнаете, то будете смеяться! Обещайте, что не… хотя я не смею требовать в моем положении.
– Не буду смеяться, даю вам честное слово.
– Хорошо… – замялась девочка и, после весьма длинной паузы, постоянно прерываясь, рассказала мне о своей детской тайне.
Секрет ее был настолько нелеп и, видно, придуман на ходу, что я невольно обнаглел:
– Татьяна, вы меня, конечно, извините за невежественный вопрос, но сколько вам лет?.. – спросил я, разворачивая поврежденную картину.
– Знаю, я вела себя… как дети ведут… – вновь проделывая большие паузы, начала Татьяна и, чинно вскинув головою, гордо объявила: – Два дня назад мне исполнилось шестнадцать.
Неловкость сжала мое сердце. Тогда я второй раз пожалел о споре с Алексом, но поспешил оттолкнуть любые мысли и отвлечься на поданный портрет. Когда развернул полотно, обернутое мягкой тканью, передо мною раскрылось потрясающее видение.
– А вам сколько лет? Когда у вас день рождения, я вас поздравлю? – проявилась графиня.
– Все еще двадцать четыре. День рождения восьмого июля, – сухо ответил я и заключил, что с полотном еще не все потерянно, картину можно восстановить, но только по особым правилам.
Также я заметил неумелые старания восстановить полотно. На обороте торчали нитки и отшелушивалось клейкое вещество. Когда предложил уточке реставрацию, она согласилась, хотела было еще что-то добавить, но в мастерскую вошла Юлия Савишна и прервала нашу беседу.
Время за рисунками прошло в тихой, настраивающей на раздумья обстановке. Старая гувернантка уже через полчаса уснула на кресле. Когда все мои члены наконец начали затекать, я взглянул на карманные часы и обнаружил, что стрелка уже подползала к восьми.
– Татьяна, мы совсем засиделись, – обеспокоился я, поднимаясь с кресел. – Совсем забыл о приличиях, визит наш порядком затянулся.
– Ах, что вы, князь, не беспокойтесь об этом… это я виновата, что вас задержала… у вас, наверное, много дел…
– Что же, тогда скорее пройдемте обратно? Только разбудим для начала вашу гувернантку.
Вернувшись назад в музыкальную залу, я увидел, что Уткины и отец располагались на прежних местах. Они обсуждали жизнь сына Дмитрия Павловича в Москве. Наше появление заметил только старый князь, пристыдивший меня раздраженным взглядом.
– Раз мой сын и ваша Татьяна наконец изъявили спуститься, то, быть может, Татьяна Дмитриевна нам что-нибудь исполнит напоследок? – нетерпеливо прозвучал Эдмонд де Вьен.
Татьяна, развернувшись ко мне, просила взять определенные минорные аккорды и начать медленно их наигрывать. Сказала, мол, когда она запоет, я пойму, как продолжить мелодию. Уточка оказалась довольно избирательна в музыке и остановилась на старинном романсе о любви. Пока Танин голос дрожал на верхних нотах, я поймал себя на мысли, что мне хочется расплакаться и скрыться где-нибудь. Душа бушевала, я только и думал о своей подлости, о бесчестном споре на девственное дитя. Стыд снедал мое сердце, особенно на постоянно повторяющейся фразе «не обмани». Когда музыка кончилась, в комнате повисла мертвая тишина.
– Тати, ты зачем выбрала эту песню? Лучше не могла вспомнить? Посмотри, ты всем испортила настроение, – грозно произнесла г-жа Уткина.
– А я считаю, очень кстати, – сказал Эдмонд де Вьен.
После я не вступал в последние разговоры, что вели между собою граф и старый князь. Анна Сергеевна лишь иногда добавляла что-то в диалог, но в основном только слушала, опасливо ловя каждую фразу Дмитрия Павловича. Сложилось впечатление, что мамаша Тани боится, что г-н Уткин раскроет какую-нибудь тайну. В сердце моем въедливо дребезжал романс Тани, я все думал, где теперь достать деньги, чтобы отдать их Державину. Утопая в мыслях, я неожиданно почувствовал, как к моей кисти, расслабленно спадающей с подлокотника, прикоснулись холодные пальчики. Выпрямившись, я тотчас взглянул на уточку. Отрывисто убрав руку, девочка замерла. Из любопытства мне вдруг захотелось ответить Татьяне. Стоило тронуть холодную лапку уточки, как она еще больше заволновалась. Сплетя пальцы, я ощутил, словно маленькие электрические импульсы, пробуждающие в сердце нечто развратное и низкое, разнеслись по телу. Вместе с тем Таня живо отняла руку и отвернулась, а Эдмонд де Вьен докончил говорить и поднялся с места.
– Благодарю вас, дорогущие (он сказал именно так: «дорогущие»!) господа, что уважили нас визитом, – залихватски произнес Дмитрий Павлович, в то время как старый князь мешкал с одеваниями из-за старого и, по по-видимому, слепого лакея, плохо подающего пальто.
– Мы тоже благодарны, – нервно бросил отец, косясь на слугу.
Когда мы раскланялись и уже собирались уходить, Татьяна вдруг остановила меня:
– Ваше сиятельство Адольф де Вьен, не забудьте, пожалуйста, что я еще не закончила ваш портрет!..
– Этого ни за что не забуду, Татьяна! – намекая на прикосновение, улыбнулся я и, вновь поклонившись, скрылся за дверями вслед за папашей.
Уже в карете я все раздумывал, кончать мне со спором на уточку или же нет. Отец же молчал и кипел внутри, так что стоило мне начать разговор, как его прорвало.
– Сегодня вы ни разу не кашляли, папа, – тихо подметил я.
– Вижу, моя болезнь доставляет тебе особенное удовольствие, раз таким наблюдательным стал! Копаешь под меня, довести пытаешься! – прошипел Эдмонд де Вьен. – Сначала ты поселился у меня, теперь за каждым шагом следишь! Зачем ты это делаешь? Думаешь, я слеп, ежели змея близко, то не замечу, как придушит меня?
– О чем вы, папенька?
– О чем?! – вспыхнул старый князь. – Возможно, «Блуд Девьенович» и «змий» тебе о чем-нибудь говорят?! Только за предыдущий месяц ты проиграл восемнадцать тысяч! Вопиющая сумма! Ты хоть понимаешь, что это бешеные деньги?!
– А! Это вам граф Сахаров донес? Так я его в счетоводы нанял, – улыбнулся я.
– Тебе все смешно! Почему после балов я должен выслушивать насмешки, сплетни и разговоры о твоем поведении, о твоих многочисленных похождениях, о проигранных баснословных суммах, карточных долгах и «тайных четвергах»?! Почему Сахаров и Крупской говорят, что ты должен был вернуть деньги на этой неделе, при этом как будто требуя их с меня, а не ты мне об этом докладываешь?! Это ты считаешь смешным? Сначала волочился по всей Франции, здесь дорвался, выдумал себе свою распутницу Аранчевскую, теперь еще этих проклятых уток где-то откопал! – брызжа слюной, кричал Эдмонд де Вьен и, заметив, что я усмехнулся после слов про уток, разъярился пуще: – Чтобы ноги твоей больше не было в моем доме! У тебя есть два своих особняка, живи там! Хватит выжидать моей кончины, хватит доводить меня! Ты единственный наследник, так что не волнуйся, все мое богатство будет отдано тебе! Вот только в этом нет никакого смысла! Ты потеряешь все, пока не останешься без панталон!
– Что вы все прицепились к моим деньгам? Как хочу, так и трачу.
– А так они твои?! Хорошо, пускай так! Посмотрим, как взвоешь, когда моя рука перестанет присылать тебе их по почте; чай, глядишь, и я посмеюсь! – проскрежетал Эдмонд де Вьен. – Запомни, дорогой мой, у тебя нет денег! А из своих я и копейки не дам!
7 Février 1824
Когда приступил к сборке вещей, мне подали записку от отца, где он просил остаться у него по случаю предстоящего визита Державиных, так что, дневник, никуда я не съехал.
Шестого состоялся визит. Гости пробыли у нас до трех часов дня. Самого Александра Анатольевича я не видал, так как князь сразу же удалился с моим папашей в рабочие кабинеты, но с Алексом, по одному виду которого все время казалось, будто он что-то натворил, я провел все время. Молчаливо поклонившись друг другу, мы проследовали в сиреневую гостиную. Усевшись на канапе, я взял в руки чашку кофея, а Алекс, не предпринимая попыток заговорить, разглядывал паркет, прослеживая узоры.
– Нам суждено общаться в виду давних отношений родителей, не молчите, – не утерпел я.
– Думал, что все выдумки сплетников, когда твердили, что теперь вы поселились у отца! Как здоровье вашего батюшки, хворает, правда же? Паркет на загляденье, такой же хочу. Черканите адрес мастера.
– Хворает, но пошел на поправку, вроде перестал кашлять.
– Ах, рад!.. – теряясь, произнес Алекс, поглаживая канапе. – А диван чейный? Это шелк, правда же?.. какой цвет приятный, лавандовый.
– Это канапе, а не диван, разница размером с пропасть. Не путайте, пожалуйста, уж кто-кто, а вы обязаны разбираться. И да, это шелк. Канапе итальянское. Цвет мне тоже нравится, сам выбирал.
– Швед рассказывал мне, что Гавриила Васильевич вас в пример ставит. Вижу, вы действительно заделались в диванные эксперты. Кстати, мне вам кое-что просили передать. Мишка наш… – тихо заговорил Алекс, подаваясь ко мне, – …придумал веселящий порошок из грибов, просил передать, что сегодня кукушка, В* приведет девочек. Так что ровно в полночь за вами заедет Бах, ежели вы, разумеется, все-таки изволите поехать. Приличные барышни тоже явятся. Среди прочих будет Мари и ее подружки. А, кстати, чуть не забыл: обязательным атрибутом сегодняшнего собрания является маска.
– И Аранчевская будет! Тогда, конечно, в деле, пусть Бах заезжает за мной… – вновь начал я, но тут же, сам от себя не ожидая, вскрикнул из-за того, что вспомнил о споре на Уткину; Державин даже поперхнулся кофеем, испуганно отклонившись от меня назад.
– Это что еще за шуточки?.. Вы больны?
– Выражаю согласие…
– А, ну и замечательно! Вы бы видели, какие перлы исторгал из себя фон Верденштайн после этого порошка, а Морилье так долго хохотал, что чуть не разорвался… Слышал, к вам поступили новые картины? – энергично потерев ладоши, заулыбался Державин. – Могу взглянуть, правда же? Мой пузырь собирается открывать еще один музей, может, мы выкупим или арендуем что-нибудь у вас.
– Конечно, Александр Александрович, вы можете взглянуть. А вообще заберите по-хорошему Жана Фуке.
– А по-плохому как? – веселился Державин.
– Аллегорию глупости Массейса прибью перед вашей кроватью.
– Вы настолько безжалостны?
– Поменяемся на Корнелиса де Хема?
– Ваш папаша сначала вас съест за то, что вы Фуке отдали, а потом меня за то, что я вам за него де Хема. Правда же? Они же не равноценны.
– Каждому вину своя бочка. Для меня де Хем лучше.
Так Державин зацепился за пословицу, и разговоры пошли о напитках. Ничего существенного в тех беседах не было, поэтому и приводить их не стану. Говорить нам было не о чем. Иногда мы вспоминали прошлое, но мимолетно, вновь возвращаясь к старому и уже оговоренному, как к спасительному плоту. Перед уходом Алекс потребовал коньяк и, смешав его с остывшим чаем, выпил до дна.
Потом я маялся бездельем, не знал, чем себя занять. С реставрацией мучиться не хотелось, лежать на диване уже не мог, через силу уселся проверять почту, где отыскал письмо Твардовского с адресом. В ужасной спешке, чувствуя вину перед юношей за задержку денег, я выписал к нему тысячу рублей и отослал по адресу.
В седьмом часу мне доставили рулон ткани от Тани, в коем находилось полотно и маленькая записка:
«Дорогой князь Адольф де Вьен, пишу к вам, чтобы поблагодарить вас за великодушие и благородство. Ежели бы не ваша помощь, подделанный портрет рано или поздно был бы обнаружен батюшкой, а это, в свою очередь, обернулось бы самым плачевным концом. Из новостей хочу передать, что матушке моей вы очень понравились; еще долго она хвалила ваш блистательный ум и игру на скрипке.
Сегодня к нам с визитом приедут Державины, чему я очень рада, потому что теперь ваши друзья станут и моими. Желаю вам легкой работы, князь.
Ваша знакомая,
Татьяна Дмитриевна».
– Крыса Державин! – воскликнул я, отбросив листок. – Выплясывал передо мною, хитрец! Глаза мозолил, тянул волынку про коньяк, а сам!.. Что ж, на войне как на войне, напросился!
Засуетившись по комнате, шаги мои топали из стороны в сторону. «Ведь теперь даже отказаться не смею от спора, денег у меня нет, а отец не даст. Какое низкое положение занимаю, почти на карачках!» – пыхтел я. Отправив отцу прошение, чтоб он пригласил к нам Уткиных, я занялся картиной Тани. Работа шла хорошо, большого труда реставрация не составила, так что до кукушки я успел и поужинать, и чаю покушать, и продумать костюм. Пока отдыхал, выходил старый князь. Не сказал он мне ничего, только швырнул на стол записку, сверкнул глазами и удалился. Прошение мое было усердно перечеркнуто красными чернилами.
Перед зеркалом я прокрутился до самого приезда Феликса. Дорогой я старался делать меньше движений, чтобы не растрепаться, этим забавлял князя, лицо которого то и дело оживлялось тонкой немецкой ухмылкой. Путь был мрачным и тусклым, Петербург спал. Один почерневший в ночи дом сменялся другим до тех пор, пока колеса не примчали нас на другой конец города к особняку Мишеля Баринова.
В душной передней, как обычно, остановившись у зеркала, я натянул на лицо фирменное выражение принужденности к визиту, а Феликс, удерживая в своей ладони крохотное зеркальце, усердно прилизывал брови. Новый лакей Мишеля странно на нас тогда посмотрел: со злобою и ненавистью, взглядом вынужденной униженности, будто он должен быть на моем месте, будто он заслуживает моей жизни больше меня, и судьба его – жить в роскоши и расслаблении, а не провожать кого-либо от дверей до дверей да снимать одежды. Разумеется, я не отвернулся от взгляда слуги и принялся давить на него своим взором, пока тот не потупил виноватые глазенки в пол.
Когда о нашем прибытии было доложено, спустился Девоян, расставляя по сторонам смуглые, всегда загоревшие руки в радушном приветствии. Пока мы поднимались, Артур что-то живо рассказывал Феликсу, а я брел позади, разглядывая расшитые золотом фалды фраков, и понимал, что здесь я совершенный одиночка и что мне, вероятно, даже не стоило приезжать: «поэтому Розенбах ни словом не обмолвился со мною по пути на вечер и постоянно посмеивался; как же раньше я не догадался? – вертелось в голове. – Дурак, теперь не уйдешь! Хотя… может, я все придумал?» Решившись провести эксперимент, я остановился посреди лестницы, но ни Феликс, ни Девоян этого не заметили и прошли вдвоем до самого входа, скрывшись в дверях салона. «Все-таки дурак! – утвердился я, дотрагиваясь рукою до розовых гвоздик в мраморном вазоне. – Что теперь делать? И ведь уехать-то не смею, это будет еще более унизительным». Парадная лестница гремела отзвуками живой музыки Виотти, эхом раздавался заливной хохот под лихой рассказ Керр и звон бокалов. «А может, ну его? Уеду себе и уеду, никто даже не заметит», – продолжая размышлять, я услышал: раздался смешок. Внизу, внимательно наблюдая за мною, стоял все тот же наглый лакей, искривившийся в насмешливой гримасе. Мне вдруг захотелось раствориться в воздухе, словно бы я и не приходил вовсе, но нужно было себя скрепить. Ловко отщипнув головку гвоздики, я приколол ее к фраку и поднялся наверх. В гостиной Баринова находилось, по крайней мере, около пятидесяти человек. Разговоры жужжали, посуда гремела, искрилось шампанское, и надрывался уставший рояль. С моим появлением сонм звуков стих. Спертый воздух салона мгновенно обдал холодное лицо. Завидев меня, Аранчевская выронила из рук бокал шампанского, что тяжело покатился по полу, расплескав напиток.
– Явление царя народу! – провозгласил я, развеивая напряженную обстановку. – Действие первое: вечер у Мишеля!
Все дружно засмеялись, лишь Мари, блеснув глазами, скромно улыбнулась в знак приветствия. Общество оживилось, господа и барышни вернулись к обсуждениям, как и прежде развеселился рояль. Бодро подскочив, Баринов увел меня на диваны, где также расположились Бекетов и В*. Миша любезно предложил игристого и клубники, лихо схватывая блюдце и бокал с подноса камелии в роли прислуги.
– Я думал, вы обижены на меня и не приедете! – бросая маску, с подозрительною дружелюбностью начал Мишель, пока В* что-то записывал в книжечку. – Мне уже сто-о-олько всего наврали про вас, что я, право, don’t know what to believe! I'm already tired of refuting gossip (Даже не знаю, во что верить! Уже надоело опровергать слухи). После Крупского и Сахарова пол-Петербурга в сказках. Представляете, что два этих клоуна начирикали? Говорят, стреляться мы собрались. Но черт с ними! Поговорим о вас? Нынче вы припозднились, Мари так красиво пела, даже не представляете, де Вьен!
– Представляю и как никто другой знаю прекрасный голос Аранчевской, – скользя взглядом по публике, ощущая на себе пристальное внимание со стороны, ответил я, после чего зачем-то добавил: – Как раз хотел говорить с Мари, так что хорошо, что она здесь.
– Неужели хотели? – громко удивился Мишель и, наклонившись к самому моему уху, смакуя каждое слово, прошептал: – А мне доложили, что она отвергла вас со скандалом и швырнула в вас помолвочным подарком. Что, тоже слухи?
– Разумеется! – ужаснулся я. – Вам об этом тоже Сахаров сказал? Так вы поменьше слушайте своего клоуна, и будет вам счастье.
Мишель оставил вопрос без ответа, укладываясь головой мне на плечо и вертя в руках фантик от конфекты. Сперва я был напряжен из-за подозрительного поведения князя, впрочем, как и Альберт, разинувший рот от удивления. Наблюдая за собранием, я ввергался в замешательство более и более, силясь сообразить, как вся эта разношерстная компания сумела собраться вместе. В одной и той же комнате находились и благородные княжны, и девицы В*, готовые удалиться в комнаты. Причем зачастую я даже терялся и не отличал благородных от развратниц: все они были одеты по последней моде, громко смеялись и говорили, чего-то напряженно ждали, жеманно взмахивая расписными или перьевыми веерами, каждая из них сверкала украшениями. Тут же находились господа: кто-то вроде Керр – принцы, герои войны 1812 года, полковники, подполковники, генералы, кто-то вроде меня и кукушки, и кто-то вроде обедневших дворян незнатных родов. Камню было негде упасть от многообразия разнообразных лиц и происхождений.
«Так поглядишь на Мишу – сущий голубоглазый ангел. Незнакомый с этим белокурым чудом даже и не подумал бы, что тот есть воплощение подлости и животной жестокости», – размышлял я, пока В* так и не переставал глядеть на меня, постоянно нечто конспектируя. Баринов продолжал лежать у меня на плече, из фантика начиная выворачивать китайское оригами. Тут я заметил, что в дверях появился Твардовский. В* устремил свое внимание на юношу и, нацепив монокль, принялся упорно прищуриваться. Завидев меня, Даниил испугался настолько, что отскочил в стол с угощениями, с треском повалив оттуда пирамиду из бокалов с шампанским.
– Стоп-стоп-стоп! – по мере произношения переменяя свой голос на более раздражительный, возопил Баринов, после чего, вдруг возвысив голос, мягко продолжил: – Ну что ты натворила, Данечка моя?
– Я не специально… – проскулил мальчик.
– Еще бы! – неистово взрычал Мишель и уж хотел было направиться в сторону Твардовского, как явился Себастьян и срочно позвал князя к себе. – I'll deal with you later, cutie (Позже разберусь с тобой, милочка), – не к месту слащаво заявил Мишель.
Аранчевская, желая сгладить обстановку, заспешила к роялю и, спровадив Анну с продолговатого пуфа, заиграла менуэт Баха. Проследив глазами за Даниилом, поспешившим скрыться из салона, я принялся наблюдать далее. Пока кукушка шла своим чередом, В* переключился в записях на Керр, который, изрядно напившись, перекрикивал тяжелым басом всю комнату вместе взятую, пуская шутки в кругу дам, ласкавших его руками то за плечи и шею, то скользя по усатому лицу с бережно уложенными бакенбардами. Урвав минуту, я мерно подобрался к émeraude и, едва справляясь с чувством волнения, подсел к ней.
– Здравствуйте, Мари, – прошептал я на ушко княжне, когда та прекратила играть на рояле. – Соскучились по мне? Хотел бы говорить с вами наедине.
– А я не желаю с вами разговаривать, – с выделанной неприязнью бросила Аранчевская.
– Какие изумительные сережки сегодня на вас, интересно, кто же их подарил? Вы, кажется, не согласились на мое предложение, – поглаживая ручку княжны, ворковал я, пододвигаясь ближе. – Что же вы носите эти побрякушки?
– Видите, вы даже не слушаете меня теперь. Ведь было сказано, что не желают говорить. Мои слова и просьбы для вас ничего не значат, – едва слышно прошептала Мари.
Когда в гостиную вернулся Баринов, Аранчевская подскочила с пуфа и рванула из салона. Пока Миша расспрашивал присутствующих о Твардовском, я воспользовался моментом и вышел следом за émeraude. Обойдя дом вокруг, расхаживая по цветущим коридорам с вазонами, я обнаружил Аранчевскую в отдаленной комнате. Дверь к Мари была открыта нараспашку, так что мне удалось войти бесшумно и запереться. Смело подобравшись к émeraude сзади, я развернул ее за плечи и впился в уста. Княжна недолго сопротивлялась, хотела меня оттолкнуть от себя.
– Теперь давай поговорим, – когда лобзанья закончились, просил я. – Неужели ты не согласилась только из-за того, что я решился устроить тебе сюрприз, сделать предложение в кругу самых близких? Но это же вздор. По-моему, нет разницы, когда ты получила предложение. Главное, что оно поступило, ты должна быть благодарна.
– Ах, благодарна! – оттолкнув меня, вскрикнула княжна, принимаясь мельтешить с туалетом.
– Да, все знали о том, что я буду делать предложение, и да, не было ни лент, ни выспренних речей, но… – наблюдая за тем, как пудрится княжна, завел я.
– При чем здесь ленты?! – возопила Мария, топнув ножкой. – Ты унизил меня не только в глазах света, но и в моих же собственных! Из-за тебя сама себя презираю!
– О чем ты? Тебе, верно, опять что-то наплели. Говорю же, перестань слушать свою тетушку.
– Причем здесь тетушка, что ты прицепился-то к ней?! – толкнув меня, вспыхнула Аранчевская. – Мне очень красочно растолковали, чем ты занимался весь предыдущий месяц, раскрыли твой донжуанский список. Впрочем, я и сама все видела, претерпевая унижения с гордо поднятой головой, как и следовало поступать, иначе я бы совсем пала в мнениях. Женщины не игрушка, Адольф, свадьба со мной тоже. Мы были бы самой завидной парой, но теперь я готова пойти ва-банк!
– Считаешь, что пойти ва-банк и остаться ни с чем – одно и то же? Сомнительные у тебя ходы, так ты никогда не выиграешь партию. А насчет списка забудь, это не то, все выдумки и наговоры. К тому же, остальные не имеют значения, я люблю только тебя. Для меня ты совершенно другое.
– Да, ты прав, я – другое! – усмехнувшись, произнесла Мария и, поставив свою ножку рядом со мною, повелительно продолжила: – Ну что смотришь? Целуй!
«Не понимаю, зачем ей это надо, но ладно. Может, это ее успокоит», – повинуясь желанию княжны, я трепетно обхватил ее ногу.
– Вот кто ты! – бросила княжна, дернув ногу. – Ты – раб и всегда им будешь! Знай, ты здесь только потому, что я просила Мишеля позвать тебя, иначе никому ты не нужен, никто не желает тебя видеть и знаться с тобой. Начнешь козырять состоянием своего папаши, скажу, что всем уже плевать с высокой колокольни на ваши богатства. Пусть даже твоя золотая бабка завещает тебе свои владения и прииски, в чем я сомневаюсь, твоих сторонников втрое приуменьшится! От денег, которыми ты стараешься всех купить, разбежится наше общество! Не только состояние важно, но и человеческие качества, например, порядочность, которой в тебе, Блуд Девьенович, нет. Так, как меня ты обмарал в глазах света, где все меня теперь считают твоим носовым платком, меня никто еще не оскорблял и не оскорбит. Лучше я останусь ни с чем, главное – не с тобой. Я не вещь, которую можно купить и поставить на полку, не твоя игрушка! К тому же играть с тобой и не собиралась, глупо надеялась, что ты действительно меня любишь, но ошиблась. Под браком ты подразумеваешь мое полное подчинение, принадлежность к тебе, тогда как сам ты и не постарался бы сойти за верного мужа. Не намерена терпеть к себе неуважения и порываю с тобой. Как порядочная девушка я должна жалеть о нашей связи, но и в этом деле найду силы поблагодарить тебя за все, что меж нами было. Прощай!
Дернув юбкой, Аранчевская устремилась к выходу; я жалко бросился за нею и, силой прижав к себе, взмолил:
– Мария, любимая, ты не можешь просто так меня бросить! Я не воспринимал тебя как игрушку, я люблю тебя! Давай же обсудим мое поведение и начнем с чистого листа! Буду самым послушным мужем, обещаю тебе!
– Между нами все кончено! – выпалила Аранчевская и стремительно вылетела в двери.
Я хотел было поспешить за княжной, но вовремя остановился и увидел следующее:
– Миша! – как ни в чем не бывало, воскликнула Мария. – Я всюду тебя обыскалась.
– Маша! – ласково отозвался Баринов и, расставив руки, кинулся к émeraude. – Мне твой олень заявил, что пришел что-то с тобой довыяснять.
– Мы довыяснили, – отвечала Аранчевская, голос ее дрогнул.
– Чего глаза-то на мокром месте, Маш? Твой заморский матрос тебя сызмальства перед нами матросил, опустил в свете, а ты нюни распустила. Надо радоваться, что между вами все кончено наконец-то. Сколько тебя б еще позорили! Весь город твердит о твоем распутстве, дорогуша. Даже я б тебя замуж не позвал, несмотря на нашу дружбу. Давай-ка подбери гордость, отряхни ее, а то смотреть на тебя сил нет.
– А у меня нет сил от всех вас! Надоели! – зарыдала émeraude, бросаясь в бегство.
– Ох, черт бы это бабскую натуру! – проворчал Мишель, поспешив за княжною.
Закрыв дверь, я встал смирно. Глядя вперед, ощущая себя опустошенным и глубоко раненным, я старался ровнее дышать. Но скоро не выдержал. Лицо нервически задергалось, брови жалобно поднялись, глаза зажмурились, а рот, раскрывшись, исторг из себя скрип. Принимаясь швырять вещи, что попадались мне на пути, я забылся. В какой-то момент в комнату вошел Керр, застав агонию гнева. Несмотря на то, что кинулся я и на Альберта, он усмирил меня одним движением. Мгновение, и я сидел, как маленький ребенок, рыдал и рассказывал о произошедшем. Князь внимательно выслушал, но словами не утешил. Позднее явился Розенбах и позвал нас идти.
– Вы бы видели себя! – рассмеялся Шведов, попавшись нам на лестнице. – А вас троих искал, хотел к себе пригласить. Поедете продолжать? Кукушка переезжает. Милый князь, что с вами? Такое лицо, будто отравились… вы же не пробовали Мишкиного порошка из грибов?
– Выдвигаемся незамедлительно! – волною раскатился Альберт, разворачивая Пашу за его маленькие плечи. – Ведите к экипажу.
– Всенепременно, господа! – воскликнул Шведов. – Все же надеюсь, что милый князь не пробовал порошка. Бариновская обезьяна, на которой Мишка строил химические опыты, от этого порошка издохла: глаза у ней закатились и покраснели, тело болезненно исхудало и облысело, а перед тем ее ужасно тошнило.
– Не преуменьшайте достоинств Адольфа, – рассердился Керр.
– И не думал!.. – засуетился Шведов. – Прошу, простите меня! Г-н Керр, я лишь беспокоился за милого князя на всякий, так сказать, случай!
– Ладно, Адольф на вас не в обиде, – ответил за меня Альберт.
Так мы спустились в переднюю, прихватив напившегося Хмельницкого, Карамазина и тех, с кем сошелся непосредственно сам Шведов на вечере у Мишеля. Кто-то смеялся, вторые перебивали голоса друг друга рассказами, третьи палили из ружей, а мы (я, Розенбах и Керр) мирно пребывали на крыльце, наблюдая за происходящим.
– Нет, хватит, с ними я в последний раз, Адольф, – как бы на что-то мне намекая, заметил Керр, сильнее завертываясь в соболиную шубу. – Мне уже тридцать пять, пора и честь знать.
– Пора! – двусмысленно прозвучал Розенбах, глядя на меня; в то же самое время к нам вышли остальные служивые. – А Адольф-то продолжит ездить, Альберт Анатольевич.
– Й-а а-сшчитать, а-мошжно и отдохнуть. Не а-все же а-слушжить. – с нарочно выделанным немецким акцентом и постоянно «акая» пред всяким словом, съязвил Федор Федорович Гагарин, нюхая табак.
Керр лишь нахмурился на колкость и отвернулся: «какое глупое мальчишество», – сморщился он.
– Отпустите птенца, авось полетит, – вновь двусмысленно произнес Феликс, так же с претензией и будто презрением поглядев на меня.
«Вот оно что, мешаю всем. Хорошо! – догадался я». Ведомый странными порывами, выхватив оружие у Гагарина, я вышел на самую середину улицы, прижал дуло к виску.
Выбежавший из входных дверей Себастьян растолкал перед собою толпившихся и кинулся вприпрыжку по дороге, улюлюкая индейцем. В беглеца мигом полетела бутылка Морилье. Петруша Бекетов, заранее заготовивший фейерверки, успешно поджог фитиль, распрыскав по небу краски салюта.
Вскоре я заметил, что в одно из окон высунулась голова Аранчевской, а этажом ниже показалась физиономия Баринова. По лицам всех моих компаньонов было видно, что они уже не бесились, как прежде, и не наблюдали нового фейерверка, а в ужасе – меня. Но неожиданно сзади набросился Альберт, повалив нас на землю. Отобрав оружие, что для пущей зрелищности пальнуло в сторону во время нашей слабой схватки, Керр захватил меня и поволок к экипажу.
Большую часть дороги, вновь зажатый Альбертом и Феликсом, я молчал, наблюдая за тем, как Петруша и Алекс, бранясь и отыскивая в грубых словах забавное, вышвыривали деньги в случайных прохожих.
В особняке у Паши нашу компанию поджидали многочисленные деликатесы, к которым я почти не притрагивался, не считая вина и устриц. После застолья, пока бесноватая компания развлекалась с женщинами и вдыхала опиум, мы с Керр и Розенбахом сидели в подвальной тишине влажной бильярдной комнаты.
В шестом часу утра, когда весь дом еще спал, а зимний сквозняк позванивал хрусталем люстр, Альберт, Феликс и я пробудились домой. Лакей, одевавший нас в передней, вел себя, как забитая собака, вздрагивал от малейших обращений, особенно в те моменты, когда Керр, едва сдерживая бас шепотом, раздавался в приказах. Только перед выходом я заметил, что у слуги вспорота вся ливрея на спине, разъяренно отстеганная кнутами прошедшей ночной попойки. Оказавшись на дворе, я и компания остановились.
– Ах, лепота! – потянувшись, проговорил Альберт, наслаждаясь морозом солнечного утра. – А как хрустит, господа, как потрескивает снежок! Сейчас бы на охотку в лесок, ай-ты, Родина белоснежная! Ай, душа!
– Позовите нас к себе на дачу, Адольф. Мы же друзья, – возник Феликс, дивясь на друга, который, как мальчишка, с интересом вслушивался в хруст снега, ступая по нему из стороны в сторону. – У вас там разные диковинки бегают, можно пострелять.
– Ах да я, собственно, и не охотился никогда… – стыдливо отвечал мой голос.
– Так научим! – подскочив, залихватски обняв меня за шею, воскликнул Альберт.
– Ежели вы действительно хотите со мною куда-то поехать, то на том и договорились. Сегодня же прикажу лакеям готовить дачу, но все-таки оставлю вам пару дней на размышления… – отметил я, ощущая подступающую волну смущения и неуверенности от того, что чувствовал себя навязавшимся.
– Керр охотничье ружье для вас возьмет, – вставил Розенбах, умилившись на мое покрасневшее лицо. – А про баню все-таки не забудьте. Знаете, как хорошо после охоты проспиртоваться в жару и разгоряченным прыгать в снег?
Альберт заулыбался, но непонятно почему: то ли оттого, что описанное ко мне точно никак не относится, то ли ностальгически. Что ж, с тем мы втроем проследовали домой к моему отцу. Дорогой меж нами затевались самые разные обсуждения, но более всего меня повеселил Керр, неустанно шутивший над рысиным малахаем Розенбаха. То Альберт трепал его убор за хвост, то гладил против шерсти. Феликса это раздражало, так что Керр нередко получал по рукам. Порою Альберт давал мне отпить спирту из фляги для согрева. Сами же компаньоны, казалось, совершенно не замерзали. Керр даже снял перчатку со своей большой руки с белыми волосами и обтер без того покрасневшее лицо снегом.
При подходе к особняку Эдмонда де Вьена мы прекратили говорить и распределились. Пока Альберт шел впереди, а Феликс плелся позади, мельтеша длинными ногами, я все сильнее тушевался: «всегда ли они молчат, когда находятся вместе? Наверно, я здесь лишний, без меня они бы вели задушевные разговоры…» Но Керр, будто уследив ход моих мыслей, замедлил шаг и, поравнявшись со мною, принялся рассказывать о том, как он, будучи юнцом вроде меня, гонял бабушкиных жеребят по поместью. Рассказ вышел презабавный, от смеха я даже согрелся. Розенбах отказался заходить во дворец моего отца и, ссылаясь на страсть к морозу, леность от теплоты, остался ожидать на улице. Альберт ввел меня в переднюю под руку, чтобы я не поскользнулся на входе. Все могло бы обойтись тихо и без историй, но внизу нас поджидал старый князь в ночном халате.
– Ты снова был у Баринова! – слетая с лестницы, процедил Эдмонд де Вьен. – Сколько раз я твердил тебе не таскаться к нему?! Игрок, развратник, зависимый человек, скосивший на своем пути ни одного такого слабоумного, как ты! Говори, что пробовал у него?! Совсем с ума там посходили!
– Адольф был все время со мной и Феликсом Эдуардовичем в бильярдной, – спокойно вмешался Керр, смело глядя на моего отца. – Даю вам свое честное слово и ручаюсь за Адольфа, ваше сиятельство, князь Эдмонд Винсент де Вьен. В последнее время о вашем сыне ходит множество грязных толков, но все они являются лишь народными вымыслами пустых и мало обремененных голов сплетниц и бездельников.
– Я, разумеется, вам верю, ваше превосходительство, только слишком хорошо знаю своего сына.
– Раз знаете, то гордитесь нашим милым князем. Он у нас хороший. Разрешите идти?
– Прощайте, – пробубнил Эдмонд де Вьен.
– До свидания, ваше высокопревосходительство, до встречи, Адольф, – расслабленно проговорил Керр и, раскланявшись, вышел.
Старый князь ничего не добавил к вышесказанному и удалился к себе. Завтрак был отложен на два часа. Наивно полагая, что высплюсь, я переоделся в ночное белье и лег на кровать, но отец нарочно заставлял слуг будить меня каждые пять минут. Стоило показаться на завтрак в обычных дневных одеждах, Эдмонд де Вьен удивился и заставил поменять наряд, объяснившись тем, что в третьем часу мы будем принимать у себя Уткиных и Елизаровых. До визита оставалось достаточно времени, так что переменять наряды я не пошел, на это старый князь оскорбился и, демонстративно встав из-за стола, просил перенести его завтрак в личные комнаты, а меня оставить без еды. Ослушаться отца не смели, так что до гостей я был голоден, впрочем, работа над картиной Тани отвлекла меня.
Облачившись в фиолетовые одежды, расшитые розами из бисера и золотыми нитями, я вышел в гостиную. К визиту Уткиных и Елизаровых лакеи приготовили чай, украсив стол сладостями и нашим фамильным фарфоровым сервизом с мотивами лаванды. Пока ожидали появления гостей, я засыпал на кресле, то и дело кивая головой, а старый князь нервно теребил газету, пролистывая один печатаный листок за другим.
– Ты еще и деньги вышвыривал, паршивец! – проскрежетал Эдмонд де Вьен. – Тут написано: палил в людей без разбора, пускал салюты, швырял деньгами, был ужасно пьян и гонялся с ружьем за Себастьяном фон Верденштайн.
– Ко мне это не относится, – обессиленно опроверг я.
– Молчи, когда я говорю, – осек старый князь, хлопнув газетой о стол. – Мне вот интересно, сколько денег Альберт Анатольевич тебе должен, что принялся яро выгораживать тебя передо мною? Чтобы герой войны, он же светлейший князь, вступался за тебя, Блуд Девьенович, это дорогого стоит! Ты не достоин таких друзей, как г-н Керр и г-н Розенбах.
– Но перечисленное делал не я! Почему вы мне не верите? Весь вечер играл в бильярд, отсиживаясь в подвале.
– А я Луи XIV, – ехидничал отец; следом его любимый слуга Иван доложил о появлении гостей.
Пожаловавшие Уткины и Елизаровы после недолгих приветствий уселись подле камину отогреваться за чаем. Диалоги я не слушал, в разговоры не вступал и просидел в одной и той же расслабленной позе, облокотившись на ручку кресла, подперев голову ладонью. Г-жа Елизарова как бы нечаянно поглядывала на меня своими желтыми глазами, но это Эдмонд де Вьен разумел как ее недовольство моей скукой. По приказу папаши сев за рояль, я исполнил роль придворного музыканта, оживив комнату журчащей музыкой. Тогда я ничего не хотел: ни говорить, ни кушать чаю, ни думать о Мари, ни о споре с Алексом, а то, что еще утром меня вдохновляло на новые сюжеты для картин, отпустило душу.
Когда гости согрелись, было решено выйти в картинную галерею, где беседы разводил только старый князь. Витиеватая речь Эдмонда де Вьена по обыкновению была в фактах, исследованиях и в целом являлась непонятной даже мне. Татьяна же, как и я, выглядела уставшей и грустной. Рассказ отца моего пропускала мимо ушей.
Попрощавшись с коллекцией старого князя, мы перешли в мою галерею, «остаточную», картины из которой было запрещено вывозить. Взяв меня под локоть, девочка немного замедлила шаг и наконец-то заговорила.
– Ваше сиятельство, Адольф де Вьен, предыдущую ночь думала только о вас… – шепотом вступила юная графиня, пытаясь флиртовать. – Вы безмерно великодушны. Благодарю, что изъявили желание помочь с реставрацией картины отца… Признаться, теперь считаю себя должной вам за вашу добрую помощь.
– Прошу вас, Татьяна, вы мне ничего не должны, – безучастно проговорил я.
– Но вы так щедры ко мне… теперь и я хочу что-нибудь для вас сделать… – лепетала утка, краснея и глупо хлопая глазами.
– Ничего делать не надо, не смею вас принуждать. К тому же сейчас у меня совсем нет того настроения, чтобы придумывать вам какую-то заботу. Теперь я от чистого сердца желаю починить вашу картину. Пускай вами вверенный портрет будет моим к вам извинением, когда вы узнаете обо мне то, что вам передадут.
– В каком смысле? – недоумевала девочка. – Разве можно вас заподозрить в чем-то ужасном?
– В ужасном навряд ли, но в бесчестном вполне, – отвечал я. – Так что, повторяю, вы ничего мне не должны.
Девочка впервые выделала довольно умную физиономию и глубоко поразилась, будто бы я изверг пред нею некий вселенский секрет. Прежде я не наблюдал за нею столь понятливого и умного выражения лица.
Несмотря на то, что у отца мое собрание находилось лишь в остаточном явлении, мы пропадали в галерее час с пятью минутами – это я точно помню, так как все время глядел на часы. Старый князь так и не унялся в болтовне, которую Анна Сергеевна то и дело сопровождала восхищенными звуками. Дмитрий Павлович, в свою очередь, часто задавал вопросы и подолгу рассматривал некоторые шедевры в упор, строя из себя умный вид. А Елизаровы, действительно заинтересованные коллекцией, обсуждали картины только между собою.
– Боже, это шедевр! – неожиданно воскликнула Елизавета Павловна, проходя мимо картины «Закат». – Изумительное творение! Скажите мне, кто автор? И назначьте любую цену, хочу ее выкупить! Сергей Михайлович, поглядите только, какая фантастическая работа! Татьяна, неужели же ты можешь молчать в такую минуту?
– Вижу, картина действительно прекрасна… – вяло вступила задумавшаяся уточка. – Но это же…
– Bellissimo! – вновь воскликнула г-жа Елизарова, впервые отойдя от мужа. – Фантастика! Словно слышу разговоры изображенных людей, суматоху улиц! В каком движении картина, впервые вижу такое! Князь, прошу, не томите меня неведением, назовите цену, сегодня же заберу!
Конечно, она понимала, что это моя картина, и только делала вид, чтобы сделать мне приятно…
– Не нужно никаких денег, что вы… – объяснил я. – Так отдам, забирайте.
– Как это? – притворно изумилась княгиня, пока лакей по велению моей руки снимал полотно со стены. – Не могу просто взять, Адольф, назовите мне цену.
– Прошу вас, возьмите ее себе в качестве дружеского подарка, – просил я. – Ведь автор вправе распоряжаться своим художеством так, как сам того возжелает.
– Ах! Вы автор! – лживо восхитилась Елизавета Павловна, пока ее супруг приноравливался к картине, щурясь в монокль.
– Вы автор? Но что же тогда картина делает в коллекции? – поднимая бровь, неприятно изумилась Анна Сергеевна, но после этого быстро собралась, как бы одернув себя, и вновь выделала любезное лицо.
– Это мои фантазии, г-жа Уткина. Так пытаюсь, скажем, представить, что когда-нибудь, чрез века, мои картины тоже окажутся в чьем-то собрании. Баловство, и только.
– Так и знал, что это произведение ваше. Мне нравится, что оно неоднозначно. Вот, например, всем известный Федор Матвеев весьма и весьма ясен, четок в изложении, каждая линия на его полотнах имеет свою направленность. Ваше же произведение легко и неясно, оно как мгновение: вблизи видны одни лишь штрихи, издалека открывается чудесный закат, и солнце будто бы действительно садится, облака плывут, – добавил г-н Елизаров, пока Уткины с замешательством переглядывались между собою. – Вообще вы, конечно, замечательную технику выдумали. Есть у вас еще? Желал бы поглядеть и, возможно, что-нибудь приобрести. Пишете ли вы портреты, сколько времени это занимает?
– Да, конечно, я могу показать. По времени максимум три-четыре часа, минимум сорок пять минут. Но, понимаете, все зависит от сложности и величины полотна. Большая картина только полчаса намечается, а маленькая же за полчаса уже будет готова, – смутился я.
– Думаю, что когда-нибудь за ваши картины коллекционеры станут сражаться на дуэлях… – неуверенно проявилась Таня.
Фраза девочки умилила всех, кроме г-жи Уткиной и старого князя. Анна Сергеевна усмехнулась, а папаша мой презрительно отвернулся.
Следующей остановкой после трапезы стала маленькая музыкальная гостиная, где раньше любила сочинять мелодии бабушка. В моих глазах комната представляется резной шарманкой, отец же называет ее коробкой. В гостиной представлена небольшая коллекция, состоящая из флейт, старой виолончели, набора скрипок разных временных эпох, арфы и клавесина прадеда. Анна Сергеевна никак не могла наглядеться на убранство комнаты и с нескрываемой жадной завистью рассматривала все, что блестело. Стоило нам распределиться по гостиной, старый князь предложил г-же Уткиной исполнить что-нибудь на свой вкус. Усевшись за инструмент, мамаша Татьяны выбрала Моцарта, от которого я чуть не уснул. Заметив мою зевающую физиономию, отец поблагодарил Анну Сергеевну и приказал играть мне. Таким образом, я вновь облекся в роль придворного музыканта, скучающе отстукивающего по клавишам. «Зачем я живу? Работать, как отец, не хочу, любить никого не желаю, друзей нет, и даже делом всей моей жизни, рисованием, нет сил заниматься, ибо нет вдохновения, а без вдохновения… кто такой художник без вдохновения? То же, что пылинка», – засыпал я за роялем. В конце концов мое тело сдалось Морфею. Даже картинки успели разыграться в голове. Сначала мне снилась Мари, наши отношения в прошлом, затем перед глазами возникли итальянские байдарки, яркий полумесяц, присевший на купол мусульманской мечети. В том сне я был не один, а с кем-то, правда, лица спутника или спутницы так и не увидал.
Разбудил меня внезапный смех, разорвавший спокойствие зала. Ничего не понимая, подняв голову, я заметил Дмитрия Павловича, хлопающего в ладоши какой-то шутке. «Однако скверно… я был бы счастлив взять да уйти прямо сейчас, никому не объясняя своего поведения, но смею ли? Нужно о многом подумать, но сначала поспать! А тут эти утки подвернулись… черт бы их всех побрал!» – щурился я, бубня под нос. За окном тем временем шел десятый час вечера, залепляющий влажными хлопьями снега окна особняка, фонари, яростно заметая дороги, возделывая из улиц серебряные пустыни, а из домов белые дюны.
– О! Проснулся, рояльный эксперт? – усмехнулся старый князь.
– Я по части диванов, – проявился мой уставший голос.
– Так ты в следующий раз подушку возьми. Ладно, бог с тобой. Иван заходил, у него какие-то проблемы с твоей картиной. Пойди, погляди, чего ему надо.
– Тати, тебе было бы интересно. Сходи взглянуть, – вмешалась Анна Сергеевна. – Заодно милого князя растормошишь.
– И правда, а то уснет по дороге, – поддержал Эдмонд де Вьен, притом негодуя на то, что г-жа Уткина позволила себе вставить слово.
– Я могу?.. – краснея, неуверенно переспросила Татьяна.
– Разумеется, Тати. Мы будем здесь, а ты иди с князем.
Меня удивил тогда взгляд г-жи Уткиной, в нем виднелось умело сокрываемое презрение. Внутренний голос прошептал: «будь у ней возможность, она бы воткнула тебе нож прямо в спину». Не понимал я, за что Анна Сергеевна ополчилась против меня и зачем разыгрывает благие намерения, ежели в ее душе нет ничего радушного. Но, несмотря на предположения, озадаченность скоро покинула меня, и я стал, как и прежде, чувственно пуст.
– Маменька и папенька впервые отпустили меня куда-то одну. Видно, вы им очень нравитесь, г-н де Вьен. Они вам доверяют, – пролепетала девочка, поднимаясь со мною по лестнице, в ответ я лишь повел бровями.
В мастерской мне пришлось самому оборачивать картину в плотную ткань, выставив притом слугу за двери и приказав никуда не уходить. С этим уточка испуганно на меня вытаращилась, выжидая дальнейших действий.
– Итак, хочу серьезно говорить с вами, Татьяна Дмитриевна, так что прекратите кривляться, – серьезно и даже грубо начал я, отчего графиня оскорбленно вытянулась и вскинула головой.
– Не сделала ничего плохого, чтобы вы были так резки со мной.
– Простите… – осекся мой голос, заговорив мягче: – Первое, о чем желаю сказать, я рад, что вы доверили мне реставрацию картины вашего отца, работа идет полным ходом и почти завершена. Второе, все-таки в душе моей созрела небольшая к вам просьба. Вижу, что нравлюсь вам, посему мне бы хотелось пригласить вас послезавтра на балет. Пусть это будет моим вторым извинением и просто подарком. На том и покончим.
– Решительно не понимаю, за что должна вас простить.
– Не могу сказать; мне ужасно стыдно. Пожалуйста, согласитесь на мое предложение.
– А с чего вы взяли, что вы мне нравитесь? – возмутилась девочка.
Реакция Татьяны повергла меня в изумление. Пока старался подобрать слова в оправдание, она окинула меня наглым взглядом, от которого я совсем потерялся и сделался робким.
– Возможно, я бы хотел вам нравиться и, в целом, желал бы вообще хоть кому-то по-настоящему нравиться. Знаете, вот как в книгах или розовых мечтах? Вот так желал бы нравиться, – признался я, на что девочка опустила заслезившиеся глаза в пол.
– Адольф, я хочу вам признаться… – начала Татьяна, но внезапно появившаяся г-жа Уткина грубо оборвала все ее начинания.
– Я так и знала! Любовь творит чудеса: лакей давно снаружи! – будто бы чем-то веселясь, восклицала Анна Сергеевна. – Ну, что происходит? Нехорошо оставаться наедине с юной девицей, князь.
– Лакей недавно вышел… – дрожащим голоском вступилась Татьяна. – Г-н де Вьен предложил мне послезавтра балет; ответила, что подумаю, и собиралась идти…
– Зачем думать? Ты со мной посоветоваться хотела? Ну мы согласны и с удовольствием явимся, г-н де Вьен. Благодарим вас за приглашение.
– Славно… – устало выдал мой голос.
– Да! А мы уже отбываем; поздно! Елизаровы останутся с вами еще на час. Сергей Михайлович не на шутку сцепился с вашим отцом в бильярд.
– В таком случае до свидания, Анна Сергеевна, – раскланивался я.
Г-жа Уткина только кивнула с притворной благосклонностью и увела дочь из мастерской. Поначалу, словно уснув на месте, я безучастно глядел перед собою, ни о чем не думая и не тревожась, но где-то внутри, в недрах души, упорно зарождалось ощущение, будто вокруг меня разворачивается самый настоящий спектакль, в главные роли которого выбрали уточкину семью. Но делать было нечего, строить предположения мне было лень, и я ушел к себе в кабинет, где сначала полежал на диване, а потом встал у камина. Наблюдая за дровами, что сладко похрустывали изломом сахарного печенья, я думал: «вот, что такое любовь – камин; вслушиваешься в его теплое дыхание, и становится так благостно на душе, что хочется греться и согревать своим внутренним светом всю округу».
Как только решился начать записи тебе, дневник, в кабинет раздался стук.
– Не помешала? – появилась голова г-жи Елизаровой. – Сегодня особенно холодная ночь, милый князь.
– Да… – односложно согласился я, все так же любуясь искорками дров, и, немного постояв, сообразил, что княгиня пришла на разговор: – Прошу, не стесняйтесь, Елизавета Павловна, проходите погреться.
Княгиня тихо подобралась и протянула руки к огню. Мне стало неудобно, что мы слишком рядом, я невольно двинулся в сторону, сохраняя дистанцию вытянутой руки. Тишина загадочно трепетала. Невольно я засмотрелся на княгиню: исходящий от камина яркий оранжевый свет оживил ее точеное чело, но вскорости осек себя: «что за глупое поведение: засматриваться на человека, которого знаешь три секунды?» Елизавета Павловна с интересом взглянула на меня, будто предыдущая фраза была поднята на слух. Сперва я робко отвел взгляд на камин, но от этого княгиня лишь более заинтересовалась и поворотилась в мою сторону.
– Вы удивительный человек, Адольф, – начала княгиня. – Не теряйте в себе легкости характера, не подстраивайтесь под других. В наше время стало слишком модно забывать о человечности: молиться без веры в душе, жениться без любви, говорить без головы и поступать без сердца.
– Вы во мне ошибаетесь, – усмехнувшись, произнес я и, схватив со стола утреннюю газету, подал ее г-же Елизаровой. – Здесь обо мне достаточно написали. Советую ознакомиться.
– Зачем?
– Зачем ознакамливаться? – ехидно прозвучал мой голос. – Ну, во-первых, для общего развития, во-вторых, чтобы мое истинное нутро в полной мере явилось пред вами и…
– Зачем вы это делаете? – бросив газету в огонь, прервала княгиня, говоря с расстановкой. – Зачем казаться тем, кем вы не являетесь? Ежели вы думаете, что распетушившийся кудахтающий лебедь станет курицей, то глубоко заблуждаетесь.
– Отчего в вас вдруг зародилась странная симпатия к человеку, которого вы знаете один день с лишком? Притом, однако, поразительно глупая симпатия, перерастающая в слепое оправдывание поступков распетушившегося кудахтающего лебедя.
«Елизаветочка Пал-на!..» – отзвуком послышался за дверью голос вдали коридора, заставивший нас обратить внимание на часы; стрелка подскользала к половине двенадцатого. Радушно раскрыв предо мною объятия, г-жа Елизарова улыбнулась. Смущаясь, я глядел то на руки княгини, то в ее желтые глаза, но затем, боязливо подобравшись ближе, обнял ее. Елизавета Павловна не отпускала меня из теплых объятий до тех пор, пока я, наконец, не расслабился, прижавшись ланитами к ее аккуратно уложенной голове.
– Поэтому!.. – отозвалась Елизавета Павловна и, проведя рукою по моему лицу, вышла из кабинета, оставив после себя лишь томный треск дров в камине и все то же таинственное молчание.
8 Février 1824
Сегодня ездил к Татьяне на рисовку портрета. Выехал довольно рано, сразу после завтрака, успел застать густой туман, липко обнимающий улицы просыпающегося города. Выглядывая из окон кареты, я не видел практически ничего, за что мог уцепиться мой пытливый взгляд. То там, то здесь мелькал фонарный свет, напрасно старающийся пробиться сквозь молочную пелену. Мне тогда стало невыносимо одиноко и грустно, словно я посмотрел в свое туманное будущее и ничего хорошего там не увидел. Перед тем как отправиться в путь, мысли были заняты только Татьяной, а ежели точнее, меня мучило: что уточка хотела сказать до того, как явилась ее мать? Но когда экипаж уже тронулся, настроение резко переменилось, и я затосковал по Аранчевской, правда, печалился недолго. Приятные воспоминания прервались вопросом: «что ж такое было между Бариновым и Мари, чтобы они стали называть друг друга Мишей и Машей? Никогда не замечал за ними дружбы, следовательно, меж ними нечто большее». Потом начал маяться неудобством отношений между мною, Керр и Розенбахом: «ежели Феликс, шедший вместе с Артуром под руку, даже не заметил моего исчезновения, ежели потом, дорогой от Шведова, он был позади и не вошел к старому князю здороваться, значит, я тягощу его», – вертелось в голове, – «Альберт подвернулся некстати, нечаянно узнал о разрыве с Мари и чисто по-человечески меня пожалел, значит, общается со мною из жалости. Скорее всего, Розенбах уже высказал Керр свои виды на меня, и то, что желание ехать на дачу было высказано зря». Но тут взгляд зацепился за одиноко стоящего мужчину, выдающегося из тумана, как натура рембрандтовских картин из темноты фона. Неизвестный был недурно одет: на нем возвышался высокий цилиндр, с плеч спадала новая черная шинель, в руках бликовала лакированная трость с ручкой в виде звериной лапки. Лица мне не удалось рассмотреть, я запомнил только длинный нос и темные волосы, стриженые чуть выше плеч. Что-то содрогнулось внутри меня, я встрепенулся, будто отряхиваясь от чего-то гадкого. «Как неожиданно подвернулся этот человек! Тьфу, напугал! – нахмурился я». Но притом вновь встряхнулся и выглянул в окно; незнакомец исчез.
Прибыв к Уткиным, я отдал привезенные ткани слугам, раздал распоряжения по материалам и по наброску на досуге придуманного платья. После этого меня проводили в мастерскую, где уже ожидала Татьяна. Сперва я удивился тому, что мы остались без присмотра, но вскоре графиня объяснилась – старая гувернантка простыла. Рядом с девочкой я чувствовал себя, как преклонный дядька, остро ощущалась возрастная неспособность девочки мыслить широко. Когда Таня испуганно глядела на меня, полагаю, все по той же причине, во мне болезненно екало сердце, я отводил глаза.
– Это даже к лучшему, Татьяна, что мы теперь одни, – начал я, несколько конфузясь. – У меня подарки. Надеюсь, они будут вам по вкусу.
– Вы так похожи на своего друга Себастьяна фон Верденштайн… – заявила Татьяна, забрав из моих рук серебряную шкатулку.
– Только то, что мы оба худые и высокие, – не есть схожесть.
– Не это имела в виду… – робко опровергла уточка, с трудом решаясь продолжить диалог, но неожиданно явившаяся Анна Сергеевна обыкновенно помешала нашему разговору.
Побледнев, Таня вновь потупила глаза в пол и ссутулилась.
– Здравствуйте, сиятельный наш! – схватывая мои руки, залебезила г-жа Уткина и, завидев шкатулку в руках дочери, подпрыгнула от радости: – Ой, а что у нас тут такое? Тати, а ну открывай скорее; посмотрим же!
Раскрыв коробочку, девочка подняла на меня заслезившиеся глаза.
– Опять ревет! – выхватывая из рук дочери шкатулку, не к месту радостно произнесла Анна Сергеевна, доставая подарки.
– Но… не могу принять этот подарок от вас… это слишком дорого для меня… не могу… – трясущимися пальчиками взяв фероньерку и колье из жемчуга, потерялась уточка.
– На свете нет ничего дороже Адольфа де Вьена, Тати! – восторженно продолжала г-жа Уткина, наряжая дочь в украшения. – Тати, хватит слезы лить! Скажи нашему сиятельному: «благодарю вас, милый князь!»
– Благодарю вас, милый князь, – грустно произнесла Татьяна, насилу развернутая к зеркалу.
– Тати с великой радостью принимает ваши ухаживания, г-н де Вьен! – воскликнула Анна Сергеевна и двинулась к выходу. – Дмитрий Павлович поутру купил зефиру, марципану и берлинеров в лавке завода Керр. Сейчас прикажу ставить чаю. Вы должны попробовать сладости, сиятельный наш, марципан у Керров фантастический!
Покинув нас, г-жа Уткина оставила после себя напряженную тишину, впитавшую ее притворный и особенно ядовитый дух. Пока я старался подобрать тему для обсуждений, девочка стеснительно подобралась ко мне. Мгновение погодя, Таня поманила пальчиком наклониться к ней, как будто бы для того, чтобы что-то сказать. Надменно осмотрев графиню с высоты своего роста, я покорно поддался. Разговоров не последовало. Уточка порывисто поцеловала меня прямиком в уста и тотчас оборотилась спиною. Изумленный, даже не в силах разогнуться, я только и делал, что часто хлопал глазами.
– Не должна была этого делать!.. – лихорадочно сотрясаясь, призналась Татьяна. – Но пускай это будет жестом моей благодарности… Не знаю, как вас любить, и что вы от меня хотели этим подарком… Вы невероятно добры ко мне, впервые вижу столь щедрого, наивного ангела, как вы… Прошу, сделайте вид, что ничего не было… и никому не говорите об этом… и не смейтесь потом надо мной, вспоминая то, что я сделала скоро и не подумав. Я глупая, мне можно простить?..
– Таня… – растроганно прошептал я, уместив свою ладонь на холодном плече девочки, но та нежданно взбрыкнула и отошла к окну.
Бедная Таня так боялась меня, что подрагивала, обнимала себя двумя руками и тщательнее укутывалась в сползшую старенькую шаль. Стоило мне сделать шаг вперед, чтобы объясниться с уточкой, нам вновь помешала г-жа Уткина.
– Милый князь, мне нужно продолжать написание портрета. Усаживайтесь на кресло, как в прошлый раз… – пряча глаза, пролепетала Таня, пока ее мамаша с пяльцами в руках устраивалась подле мольберта, поправляя платье.
Около получаса мы рисовались, ну а после ушли в гостиную, где ждал чай со сладостями. За столом разговоры вела только мамаша девочки. Анна Сергеевна собрала все сплетни, смешливо отозвалась насчет моего поведения, о коем вычитала в газете, пожаловалась на качество продукции кондитерского завода Керр, которому я, как заявила г-жа Уткина, обязан передать ее недовольства. Затем она прокомментировала снежную погоду, от которой мерзнет даже с грелкой в постели, а также высказала мне негодования насчет лавандового мыла завода Розенбахов, которому я, как и Альберту, якобы обязывался донести ее слова. Как видишь, дорогой дневник, диалог, ежели его можно таковым называть, я старался игнорировать не зря: мамаша Тани ничего путного и положительного так и не сказала, лишь возмущалась и противилась всему сущему.
Остальное время прошло в напряженной тишине: я позировал, иногда разминаясь хождением по комнате, Татьяна отчего-то старалась не заплакать, а Анна Сергеевна вышивала бисером, хитро косясь то на меня, то на дочь.
– Новые ткани, что вы принесли для платьюшка Тати, необыкновенно хороши. Благодарю вас за будущий наряд к балету, – с выделанной ласковостью произнесла г-жа Уткина.
– Какие ткани! – точно ошпарившись, воскликнула Таня, но, завидев ядовитое лицо матери с поджатыми губами, виновато склонила голову и сгорбилась.
– Как мил наш князюшка, правда, Тати? На днях, сиятельный наш, у нас гостили ваши друзья. Были Державины, фон Верденштайны и Бариновы. Алекс с Мишей буквально прыгали возле Тати. Она у меня хорошенькая, верно? Только Себастьян ваш какой-то шибко нежный, как девица: постоянно молчит, впечатляется от самой незначительной мелочи, смущается и краснеет. С ним все хорошо? Какой-то он больноватый.
– Рад, что к вам заходили мои знакомые, – поднимаясь с места, сухо ответил я, чем заметно раздражил г-жу Уткину. – Что ж, Анна Сергеевна, Татьяна, думаю, мне пора идти. Благодарю вас за чудесный день и вечер.
– Даже не поужинаете с нами? – для приличия спросила мамаша уточки, нервно стряхивая с себя мелкие нитки.
– Пожалуй, откажусь, г-жа Уткина. Но спасибо за предложение.
Таня ни разу не взглянула на меня и даже не подала руки на прощанье, так и простояла за спиною матери, пока я не скрылся в дверях. Усевшись в экипаж, я вновь задумался, новое чувство обуяло мою грудь: «странный спектакль невиданного обожания. Все это как-то криво состряпано… какой-то морок! Меня точно водят за нос в темноте, а я никак не могу разглядеть, чья же это рука».
16 Février 1824
Прости дневник, что долго не писал тебе, никак не мог найти минуты. Могу сказать, за минувшую неделю свершилось множество изменений, например, у всей нашей сверкающей знати я уже выхожу женихом Тани, а Мария повесила на меня новое обвинение, были очередные разборки.
Начну повествование с театра. Татьяна выглядела в новом сером платье вполне пристойно, мне не было рядом с нею стыдно. В театр мы явились почти к самому началу балета, так что сразу проследовали в ложу. Пока направлялись к нашим местам, я заметил, что публика заметно оживилась. Кто-то кривился в неприязни, кто-то надо мною смеялся, осуждая выбор, под которым подразумевали Таню. Анна Сергеевна, шедшая впереди нас, показательно задрала нос, смотрела на сплетников надменно и свысока.
Пока я, грустно облокотившись на борт ложи, наблюдал за собирающимся в партере обществом, сзади велись приторно-вежливые разговоры, кто-то входил и выходил, вносили мороженое. Одну креманку поставили и рядом со мною. Но я, погруженный в меланхолию, продолжал глядеть вниз, где увидал Мари. Аранчевская шла под руку с Бариновым. Растопшины и Державины вальяжно шли позади, смеялись над шутками, суетились с рассадкой и постоянно, как бы невзначай, оглядывались, будто кого-то выискивая. Вскинув головою, émeraude исказилась. Глаза ее были устремлены на Таню, которая, в свою очередь, тоже опершись на бортик, вглядывалась в толпу партера. Тогда, устало поведя головою, я принялся за креманку, в которой глаза тут же отыскали маленькую бумажку, исписанную второпях кривым почерком: «зачем вам нужен был театр? вы в ловушке». Нахмурившись, я поглядел по сторонам, сначала на уточку, но та даже не сменила позы, затем пошарил взглядом по ярусам, но не вывел решительно ни одну персону, которая могла бы подбросить записку. «Вероятно, кто-то подкинул эту бумажку, пока мороженое двигалось к нашему ложу. Мария давит на перо, подружки ее пишут с ошибками, Баринов только на английском, Алекс на французском, тогда кто? – размышлял я, упрятав записку во фрак».
Развернувшийся на сцене балет перевел все внимание на себя, так что с мыслями о записке я запросто расстался, отнеся послание к нелепой шутке. Во время представления я заметил, как на противоположной стороне зала, в левом ложе, появилась г-жа Елизарова с супругом, но тогда она так безучастно и небрежно подглядела на меня, что я вдруг застыдился чего-то и перевел внимание на сверкающую украшениями головку Мари.
Антракт по обыкновению был ознаменован тем, что толпа ринулась в буфет, не исключая и нашу компанию. Взяв себе по бокалу шампанского, мы принялись обсуждать увиденную часть балета. Мне постановка не нравилась, и я открыто об этом заявил, но ожидаемо разгневал тем отца: «всяко видно, что диванный эксперт хорош только в диванах; каждому свое, а за чужое браться не надо, ежели не по зубам», – ужалил тот в ответ. Постепенно наше общество редело: Дмитрий Павлович исчез от нас к Бариновым и Бекетовым, старый князь отошел к Державиным. Ну а Анна Сергеевна, ухватив возможность, переменила тему и принялась пытать меня расспросами.
– Сиятельный наш, вы подарили Тати столь дорогой подарок да в театр позвали. Как думаете, хорошо ли это выглядит в глазах света? Могли бы заранее предупредить, чтобы я начала готовиться к вашей помолвке.
– Maman! – вмешалась уточка.
– Еще не закончила, Тати! Видите, сиятельный наш, ежели вы возьмете ее в жены, она и вас будет перебивать, как родную мать, – еще раз намекнула Анна Сергеевна. – Вам стоило уведомить меня о ваших планах. Впрочем, вижу, что и моей дочери вы отнюдь не безразличны. Ваши ухаживания носят серьезный характер.
– Но maman!.. Вы же пообещали мне, что не будете!..
– Может, тогда вы пройдетесь с Татьяной по театру, покажете всем ее новые одежды и украшения, – небрежно махнув вокруг себя веером, посылала Анна Сергеевна, не считаясь с возражениями дочери. – Встретимся с вами в ложе.
Я оторопел и не успел воспротивиться. «Ну вот и все», – думал тогда, – «с этого дня самый завидный жених света стал наскоро засватан без суда и следствия… как на это отреагирует Мария, интересно?»
Когда мы с Таней вошли в маленький зал, где всегда собираются старыми компаниями, публика, как воронье, налетела на нас.
– Ах, де Вьен и Таня! – подскочил Гавриила Васильевич. – Вас издалека еще заприметил, вы точно жених и невеста! А я знал, между прочим, Таня, что вы будущая невеста, и, видите, не ошибся. Мне на днях сон снился, как вы замуж за де Вьена выходили.
– Гавриила Васильевич, право слово, вы делаете слишком поспешные выводы, – подметил я.
– О! Вы-с как невеста, Татишечка! – подскочил г-н Крупской, явившись с женой, невесткой и сыном. – Прямо на загляденье-с и зависть всем! И рука де Вьена чувствуется-с в задумке наряда-с!
– И фероньерка у вас вон как изящна, Танюша, – завистливо разглядывая украшения, заметила супруга Крупского. – У кого вы такую заказывали, или подарил кто? И колье… Кирилла Алексеевич, дорогой, что же вы мне таких подарков не дарите за столь многие лета супружеской жизни?
– Дорогая, что вы меня стыдите так-с, ей-богу-с… – растерялся г-н Крупской, с важностью оправляя шейный платок и надувая губы.
– Надеюсь, приглашениями на свадьбу не обделите, князь? – ехидно возник г-н Сахаров, в то время как мимо нас проходила Мария. – Все здесь только о вашей женитьбе и переговариваются.
– Что же вы, будто сговорились, заставляете Татьяну Дмитриевну ужасно волноваться? – ответил я, девочка к тому моменту совсем потерялась и обмякла.
– Две свадьбы разом: Миша с Машей, и де Вьен с утяшей! – вмешалась в разговор г-жа Растопшина. – И кому больше повезло?
Тут и я обмяк да растерялся, виски пульсировали. Предо мною пребывал Баринов, не выпуская от себя руку Мари. Émeraude еле сдерживала от слез покрасневшие глаза и постоянно менялась в выражении лица, напуская на себя то ненависть ко мне, то желание придушить Таню, то обиду на тетушку. Евгения Виссарионовна в открытую посмеивалась надо мною, а Татьяна не подымала взгляда на присутствующих и, как провинившийся ребенок, постоянно теребила платьишко.
– Ну Мишка, ай да молодец… – произнес чей-то женский голос, раздавшийся из-за спин, но я не заметил, кто это был.
Недолго я старался выдумать подходящий к месту ответ, но замешался и просто увел Таню. Сзади нас тотчас послышались смешки. «Я выше этого, выше споров», – думал я, точнее, пытался убедить самого себя, тогда как где-то внутри, точно раскаленное железо, жгло меня чувство стыда за робость. Уже тогда я понимал, что будь на моем месте кто угодно, тем более Баринов, то обидчик получил бы словесную оплеуху, я же себе виделся каким-то мизерным, жалким. По пути девочка не сказала мне и слова. Раз-другой графиня взглянула на меня и, кажется, хотела было что-то сказать, но ком в горле не давал ей даже как следует вздохнуть, она едва успокоилась. Она жалела меня, из-за этого я чувствовал себя отвратительно.
Уже в ложе Таня удивительно переменилась. Как первоклассная актриса, она сменила роль: перестала дрожать и пред матерью выделала из себя глупого и весьма беззаботного агнца. В ложе разговоры наши зашли о путешествиях. Стоило мне вспомнить об увиденных насекомых в одной из французских колоний, куда я ездил с дядей Ксандром, графиня перебила меня и невнятно залепетала что-то о божьих коровках. Пока продолжался лепет, я наконец понял, почему Таня стесняется на меня глядеть – ее левый глаз немного косил. Заметив, что я заскучал, Анна Сергеевна обратилась ко мне за развлечениями, испросив анекдоты. Юмор мой мамаше уточки не нравился, поминутно она закатывала глаза и отвлекалась на толпу внизу. В конце концов меж нами вовсе повисла неловкая тишина, вскоре сменившаяся вторым актом балета. Не скрою, украдкой взглядывал на Аранчевскую, но и она посматривала на меня. Мы с Мари будто бы разговаривали глазами, выстраивая диалог, никому неслышимый, кроме нас двоих. Бывало, я поднимал глаза на Елизавету Павловну, словно стремясь отыскать в ее лице поддержку. Но для нее мое существование являлось незначительным и даже как будто надоедливым. Княгиня ни разу не взглянула на меня, но, видно, была рассержена, поджимала губы. «Все-таки и она поверила в сплетни. Нет у меня союзников», – осознавал я. По завершению второго акта, émeraude сдалась и покинула зал, прикрывая омраченное чело веером. Публика тотчас подняла головы на мое ложе. Вообще, на протяжении всего представления упорно казалось, что присутствующие не были заинтересованы балетом, им нужен был я – главный премьер сезона.
Порвавшись к выходу из ложи, я ощутил, что меня схватила женская рука – жест разума, к которому должно было прислушаться. Но, дернувшись, я все-таки вылетел в коридор и заторопился вниз. Пространство вокруг меня то пульсировало и дрожало, раздаваясь визгливым звоном, то замирало и темнело. В те минуты мое существо будто разделилось на две половины. «Не нужна она тебе, и никогда не была нужной. Вернись в зал и прекрати театральничать», – твердила правая сторона меня голосом отца. «Обязательно примирись с ней и заставь бросить Мишеля. Остальное не важно, главное, чтоб Мари никому не досталась», – требовала левая. Внизу я увидал, как, небрежно накинув на себя белую шубку, Аранчевская устремилась из театра. «Барин, мороз одичалый!» – кричали мне лакеи, стараясь задержать у дверей, но я их не слушал.
Уже на улице, ухватив Марию, я получил оплеуху. Накинувшись на меня, émeraude стала царапаться, драться и бороться с тем, чтобы я перестал ее сдерживать. «Ненавижу тебя!» – остервенело вопила княжна и рыдала. Толкнув от себя Мари, я встал ровно напротив нее и нарочно заплакал:
– Любимая, клянусь тебе, что никоим образом не принадлежу к тем сплетням, почему ты мне не веришь? Да, ходил я по гостям, но они ничто по сравнению с тобой. Ведь я люблю только тебя, ни разу в своей любви тебе не изменил. Быть может, ты боишься другого, например, что я узнаю что-то и оттого разлюблю тебя? Ежели ты страшишься моего гнева или ревности по какому-то поводу, скажу, я простил бы тебе абсолютно все и никогда, ни в чем бы не упрекнул тебя.
– Комедия сыграна! Моя роль кончена, как и жизнь! Оставь меня! – рыдала княжна, начиная снимать с себя украшения и навешивать их на меня: браслеты, колье, два колечка с жемчугом и белую песцовую шубку.
В итоге я был наряжен и сверкал так же, как и Мария прежде. Лицо мое подрагивало, сердце ныло, но притом будто не по-настоящему. Я не верил, что меня кто-то бросил, не мог сознать, что происходящее – реальность.
После того как Аранчевская скрылась в экипаже, я еще долго пребывал на морозе. Все думал о жизни и пришел к удивительному даже для себя умозаключению: «к этому все шло, наша связь была спектаклем».
Миновав лакеев, которые какое-то время смели мне противиться и не пускать назад, я таки вышел в партер. Все внимание, конечно, было приковано только ко мне. Пробравшись к Баринову, я сел на прежнее место Аранчевской. Мишель боязливо поворотился, оглядел сверху до низу и сглотнул. Схватив Баринова за шею, я порывистым движением притянул его к устам и горячо поцеловал. Губы больно порвались на месте смыкания. Мишель, когда я отстал от него, даже не шелохнулся, так и просидел оставшуюся часть представления в металлической позе, выгнувшись в спине.
По завершению балета в зале воцарилась тишина, никто не стал аплодировать танцовщикам, кончившим выступление. Развлечением для всякого был партер. Тогда, встав с места, я четко захлопал в ладоши и громко выкрикнул: «bravo». Мой жест, как по мановению волшебной палочки, подхватили и остальные зрители, кто-то с ярусов даже засвистел. Ликовали все, но не Елизавета Павловна. Княгиня была серьезна, долго сверлила меня взглядом, затем гордо поднялась и вышла.
Дорогой домой старый князь упорно игнорировал меня, но по приезде отсоветовал немедленно собирать вещи и съезжать. Таким образом, мне пришлось уехать к себе на Английскую набережную.
Пять следующих дней после балета я провел на даче вместе с Розенбахом и Альбертом. Как и было оговорено ранее, состоялась охота и баня. Но не все было так гладко, как может показаться на первый взгляд. Наша поездка задалась не сразу. Розенбах был явно недоволен. Вжавшись в ворот, все шесть часов пути он выделывал из себя спящий вид. Но вместе с тем являлся настолько напряженной фигурой, что его настроение передавалось и нам с Альбертом. То Керр подергивал ногою, то жадно нюхал табак, то правил усы. Но скоро, измотанный угнетающей обстановкой, уставился в окно и проглядел на заснеженные сверкающие степи три часа подряд. На четвертый час, пока рисовал меня, над чем-то посмеивался, а перед самым приездом вдруг принялся за сочинение стихов и постоянно тревожил этим Феликса, который все более становился насупившейся мышью.
В одиннадцатом часу, по приезду, все заметно раздобрели, потому что добрались до столовой, где подвыпили и, наконец, позавтракали плотными австрийскими блюдами из сосисок. До первого часу дня мы с Керр развлекались выстрелами по мишеням, а Феликс дремал в гостиной с книжкой в руках. С двух до пяти у нас была охота, на которой Розенбах пристрелил кабана, Альберт заарканил оленя, а я – какого-то жалкого птенчика!.. Пойманное было подано на ужин, после которого случилась крепкая русская баня. Не думал я, что Феликс любитель париться, но из нас с Керр он с большим участием выхлестал все имевшиеся тогда побуждения. Даже выбил из меня мысли об Аранчевской, а я, не скрою, часто о ней вспоминал. «Ежели она и Баринов в действительности поженятся, для меня это будет не просто ударом, а позором. Столько лет морочили друг другу голову, и все коту под хвост», – постоянно обдумывал я.
После бани Розенбах заклевал носом и удалился спать, жар не на шутку разморил его, а мы с Альбертом ушли в гостиную, где уместились перед камином. Вскоре Керр обуяло вдохновение, и он вновь принялся за стихотворения. Глядя на меня, расплываясь в доброй улыбке, вслушиваясь в потрескивающие дрова, князь неустанно карябал листочек карандашом. «Странно, давно мне не было настолько спокойно и благостно, как сейчас», – мыслил я, расслабившись на кресле, – «и ведь, что интересно, мы даже не говорим друг с другом, а все как будто бы молчим об одном и том же, поддерживая тишину, как диалог. Не помню, когда в последний раз отдыхал подобным образом и чувствовал себя столь умиротворенно. Нормальна ли эта тишина и спокойствие?»
– Виски пульсируют после бани; не люблю париться, – тихо обозначил я. – А Феликс Эдуардович, кажется, только после бани раздобрел и смирился, до этого и слова не сказал.
– Смирился? – отвлекаясь от записей, удивился Альберт.
– Он не хотел ехать, полагаю, и был точно обижен чем-то или даже разозлен: дулся, хмурился, тяжело молчал.
– Иногда лучше не говорить ничего, чем долго распыляться и бестолку, – заметил Керр. – Это он еще не на шутку болтлив сегодня! Обычно Феликс даже не вздохнет лишний раз. Присмотрись, Адольф, наш Розенбах всегда лишь кланяется при приветствиях и расставаниях, в компаниях улыбается или хмурится, ежели о чем-то думает, а за столом говорит только по делу. Кстати, это ничего, что я с тобой на «ты»? Люблю тебя слишком; не могу говорить «вы». Прозвучит забавно, но я испытываю к тебе отеческие чувства. Ты тоже можешь говорить мне «ты», ежели не против.
– Хорошо. Но прежде замечу, что ваше «ты», то есть твое, мне льстит. Признаться, я не замечал за Феликсом Эдуардовичем того, что ты мне сказал. Раньше он был более разговорчив.
– Война многое переменила, она научила нас больше думать и делать молча, а уж ежели хочется поговорить, то способы всегда найдутся. Кому-кому, а уж тебе, как человеку творчества, должно быть знакомо умение говорить без слов. Вот я, например, стихи пишу… всегда мечтал быть поэтом, но… то одно, то другое: служба, имения, кондитерский завод. Хочешь послушать пару стихотворений? За сегодня написал два, с собою в книжечке остальные.
Тогда Керр удалился за стихами, а по возвращению принялся декламировать их. Сочинения Альберта мне не понравились, но я этого ему не сказал, напротив, похвалил. После стихотворений мы с Керр обсуждали женщин. Альберт описывал мне свой идеал: светлые волосы, зеленые глаза, тонка, изящна, с востреньким носиком и непременно миниатюрна. Я вдохновился и изобразил пару лиц, но Керр выбрал только одно и запрятал себе.
Дачный штиль, эта спокойная, умиротворенная жизнь продолжалась до двенадцатого числа, поздним вечером которого мы с друзьями расстались в Петербурге. Впрочем, со своими немцами я распрощался ненадолго. Тринадцатого после полудня Эдмонд де Вьен вызвал меня к себе, прислав на Английскую аж четырех слуг с запискою: «срочно ко мне!» Так как я сразу же почувствовал неладное, то первым делом отправился за Альбертом и Розенбахом.
В рабочем кабинете отца окна были занавешены плотными шторами и не пропускали ни лучика свету. Старый князь, откинувшись на спинку красного вольтеровского кресла, стучал ногтями худых длинных пальцев о лакированный дубовый стол. Господин в круглых очках серьезно перебирал бумаги, бегло прочитывая на листках заголовки. Серый англичанин, расхаживающий по кабинету из стороны в сторону, чопорно курил трубку, а третий присутствующий читал газету, расположившись на диванах.
– Вижу, ты не один, но семейные дела рассчитаны лишь на лиц, принадлежащих к семье, – перестав стучать когтями, надменно подчеркнул отец. – Господа Розенбах и Керр, прошу вас удалиться.
– Ежели Альберт Анатольевич и Феликс Эдуардович уйдут, следом за ними отправлюсь и я. Тогда не будет никакого разговора. Вы тоже не один.
– Договорились, пусть будет по-твоему. Now we have to speak English, gentlemen (продолжим на англицком, господа), – обозначил отец и принялся вести дальнейший диалог на английском языке, но я буду описывать на русском: – Как ты знаешь, Адольф, твоя бабка Акулина Петровна больна и уехала доживать последние годы на родину Шекспира. От нее тебе пришло небольшое послание, которое ты, надеюсь, примешь без особого азарта, с расстановкой и полным пониманием ситуации, со здоровой оценкой своих умственных возможностей, – пренебрежительно объявил старый князь, после чего обратился к чопорному господину, который прежде курил трубку: – Итак, мистер Эйлсбери, прочтите нам то, что вы привезли из Англии.
– Завещание, – начал англичанин, вынув трубку изо рта:
«Дорогой мой, милый внучек Андрюшечка, надеюсь, ты помнишь свою бабуличку Акулинушку? Не виделись мы с тобой вот уже десяток лет, а между тем я только и делала, что каждый день вспоминала тебя.
Болезнь так и не отступает! Все из-за того, что я теперь в этой холодной и всегда ни к месту высокомерной Англии… зачем сюда уехала, скажи мне, Андрюшечка? Врачи здесь отвратительны, погода прескверная, люди прежалкие и холодные! Знал бы ты, Андрюшечка, как худо здесь, на чужбине! Нет места лучше в мире, чем моя славная, добрая Россиюшка, где я бы хотела провесть свои последние годины…
Мне так понравился Крым, я бы непременно состроила бы домик с розовым садом и глициниями именно там. До твоего рождения мы были в Крыму у давних друзей всею семьей. Это было самое благостное время в моей жизни, никогда его не забуду. Уж прости, внучек, что я пишу к тебе столь длинное письмо и все бестолку, но сделай милость, пойми меня, ведь я давно немолода, а старость – дело ностальгическое.
Что же, к делу! Ты всегда был и, я уверенна, есть умный мальчик, а посему я бы хотела передать тебе уже сейчас все, что имею в своей собственности: усадьбу Вьенскую и Охотничий замок в Москве, Шувиловское, Вартымерское, Митенсаарское и Гереевское имения, мой дворец на Фонтанке и М. палаты, К-е золотые и алмазные прииски, У-я шахта и рудник, Н-е и Л-е сахарные промыслы с земельными дачами в 510000 десятин, а также А. чугуноплавильный завод. От Винсента де Вьена тебе маленький подарок: рыбный порт и две усадьбы в Ницце… правда, рыболовная промышленность давно уходит в разорение, советую скорее продать этот порт. Впрочем, г-н Эйлсбери тебе все разъяснит и полностью приставлен к твоим услугам – ему можно доверять. Также обращаю твое внимание на прииски, шахту и рудники – своими ископаемыми они обеспечат тебя на три столетия вперед, так что распоряжайся делами как следует и мало кому доверяй в этом вопросе. Засим откланяюсь, Андрюшечка, передавай привет моей любимой церкви в нашем гнездышке Chouville.
Целую тебя, внучек мой!
Твоя бабуля,
Акулина Петровна Шувилова
P.S. Не смей ничего отдавать своему отцу, иначе прокляну!»
Когда англичанин дочитал послание бабушки, он вновь заткнул себя трубкой и с абсолютным отсутствием каких-либо чувств поглядел на меня из-подо лба. От изумления, как ошпаренный, я подскочил с места и провалился в обморок. Очнулся уже на диванах. Раскрыв очи, я заметил Керр, который стоял надо мною и по-доброму улыбался, в то время как Феликс, нахмурившись, бродил по кабинету, тревожа слух тяжелым шагом. Господин в очках перестал перебирать документы и пребывал подле отца, выделав серьезное выражение лица, а тот, кто прежде читал газету, рассматривал свои ногти, приближая руку и отдаляя ее от своей заскучавшей физиономии.
– Итак, я вас не представил: граф Василецкий Владимир Витальевич – мой счетовод, – обозначил господина в очках отец, следом переходя к третьему: – Князь Забельский Константин Иоаннович – мой поверенный, который прямо сейчас может оформить любые документы.
– Впрошем, я уже все оформил, – цинично отозвался г-н Забельский и, отняв у счетовода пару документов, не отрываясь от разглядывания ногтей, протянул мне бумаги. – Штош, подпишите это, и дело с концом.
– В каком смысле? – возмутился Розенбах, переставая ходить по комнате.
– Да в прямом, – через губу ответил поверенный отца. – Когда ваш подопешный подпишет документы, все ему столь щедро завещанное старой неразумной бабкой перейдет в полномошия Эдмонда Винсента де Вьена. Еще раз объяснить или вам одного разу будет вполне достатошно?
Выхватив из рук г-на Забельского бумаги, Керр разорвал листы и швырнул их в лицо поверенного.
– Вы што, больной?! – завопил Константин Иоаннович, совершенно изменившись в лице. – Вы вообще што такое, штобы себя вести подобным образом?! Ну, больной!
– А вы, я погляжу, здоровее больных?! – басовой волной накатил Альберт. – Все владения принадлежат Адольфу де Вьену, и он отказывается подписывать дрянь, что вы состряпали.
– Ваш подопешный язык проглотил и сам ответить не может? – все так же крикливо продолжал г-н Забельский.
– Я подсчитал расходы г-на Адольфа де Вьена и смею сказать, что растраченная сумма весьма впечатляет размахом. Вашему подопечному следовало бы передать завещанное его отцу, г-ну Эдмонду де Вьену. Что до вас, господа, как вас там, вы не имеете права противиться процессу, ибо в семейных делах вы совершенные никто, – отрезал г-н Василецкий.
– На том и кончим, – спокойно вставил Розенбах и, схватывая под руку мистера Эйлсбери, продолжил, отходя в сторону двери. – Пройдемте, наш добрый вестник, переговорим непосредственно с князем Адольфом де Вьеном без лишних глаз.
– Стоять! – вскричал старый князь, подбираясь ко мне и схватывая за руку. – Ты не смеешь мне перечить! Подписывай!
– Вам бы следовало успокоиться, – назидательно отметил Керр, взявшись за руку Эдмонда де Вьена. – Вы ведете себя и ни как отец, и ни как джентльмен.
– Немедленно уберите от меня свою руку, Альберт Анатольевич! – проскрежетал отец. – Вы не представляете, что именно досталось этому дуралею, в каком упадке это все окажется, ежели Адольф действительно займется какими-то делами! Он не способен ни на что, кроме растраты!
– Ежели Адольф действительно займется делами, то благосостояние лишь приумножится, а руку убрать я бы советовал прежде всего вам, князь, – твердо заключил Альберт и, силой одернув руку, тряхнул меня в сторону.
Пока мы с друзьями и мистером Эйлсбери добирались до дома, было утвердительно решено отложить дела до завтра. Мне нездоровилось от свалившегося на меня состояния, я не знал, как поступить с владетельствами, в голове гудел бессвязный шум из остатков фраз, стука колес о брусчатку и нервных вздохов Розенбаха. Стоило поверхностно прочесть бумаги, увидать завещанную на мое имя баснословную сумму, голова и вовсе пошла кругом, меня затошнило от страха, я не мог поверить в то, что такие бешеные деньги действительно существуют.
Заключительный этап работы над картиной Тани более-менее уравновесил меня и привел мысли в порядок, словно расставил выпавшие книги по полочкам. Но притом я все равно не мог понять, как мне поступить, и ночь промаялся с мыслями, не смыкая глаз. С одной стороны, моя внутренняя привычка к хорошей жизни ликовала, с другой я задумывался все отдать отцу, ибо никогда еще не вел расчетов, не управлял землями и крестьянами.
Так как немцы и мистер Эйлсбери ночевали у меня, утро началось не с завтрака, а с обсуждения деловых вопросов и более детального изучения документов. Мною было решено продать порт и земельный участок с домом в Ницце – это я поручил мистеру Эйлсбери. С другими владениями не было никаких проблем, но была проблема со мной, мне недоставало элементарных знаний в делах ведения хозяйства. Хоть я и выделывал из своей физиономии понятливый вид, но не понимал решительно ничего из объяснений моих друзей и мистера Эйлсбери.
Завтрак, поданный в первом часу, был даже праздничным – мы пили шампанское и ели ананасы. Когда Альберт и Феликс ушли, я принялся разбираться с накопившимися письмами. Первым делом глаза мои зацепились за листок с розовой печатью, подписанный рукою Елизаветы Павловны. Записка от княгини была лаконична, без лишних слов; она приглашала меня в гости. Неожиданная благосклонность г-жи Елизаровой меня удивила, польстила самолюбию, но визит я отложил на вечер, мне предстояло разобраться в делах.
Порисовав два часа с лишком, я уселся в библиотеке и принялся за хозяйственные и правовые книги. От одной мысли, что мне предстоит связать с этим ералашем всю оставшуюся жизнь, уже болела голова. Так что, когда подступил час отправляться в гости, я с радостью вылетел вон.
Но произошел совсем не тот прием, на который я рассчитывал. Мне думалось, что мы с Елизаровыми подружимся, оказалось с точностью наоборот. Стоит отметить, что сперва я, княгиня и ее супруг даже слишком мило беседовали, разговоры шли о моих картинах, я был озадачен приятными расспросами и с живостью отвечал. Сергей Михайлович был любезен, добр и между делом подарил мне прозвище, назвал «голубчиком». В рабочем кабинете князь рассказал, что на досуге балуется расписыванием фарфоровых тарелочек и ваз, показал некоторые свои работы и просил у меня совета по краскам. В целом обстановка была даже подозрительно приятной и располагающей к дружескому общению. Это меня напрягало, впрочем, не зря. Когда мы с Елизаветой Павловной остались наедине, между нами вдруг возникла та тишина, что обычно предполагает следом серьезный диалог. Ни в какие разборки я вступать не желал, посему отвлекся на интерьеры гостиной, которые, к слову, полюбились моему глазу. Отметил бы не столько само убранство, сколько оттеночные решения. Оливковое золото в деталях замещалось плюсовыми шторами и креслами, перемежаясь со светлым паркетом, консолями, жардиньерками и розовыми обоями. Все создавало собою законченную картину, услаждало взор.
– Вижу, вы впечатлены интерьерами, милый князь, – подметила княгиня. – С вашей стороны, то есть со стороны художника, заинтересованный взгляд – слишком лестный комплимент. Вот только не понимаю: Татьяна, по сравнению с mademoiselle Аранчевской, совсем некрасива и даже нелепа. Почему же вы и вдруг обратили на мою племянницу внимание?
– Влюбился, – солгал я.
– Впечатляет, – саркастически заметила Елизавета Павловна. – Что же вы тогда устроили в театре? По-моему, в той драме не было ни намека на влюбленность к Татьяне.
– Кажется, я издавна слыву скандалистом. Решил не быть, так сказать, голословным. Постойте-постойте… драма действительно была? Не поверите, думал, что мне приснилось.
– Вы актерничаете. Но что ж, не принуждать же вас к ответу. Хорошо, мне все понятно.
– Ежели вы позвали меня только за тем, чтоб уличить во лжи, отчитать за неподобающее поведение в театре, вы могли прямо с этого и начать, а не пытаться войти в мое доверие в течение двух с половиной часов, – высказал я, поджав губы. – Вы знаете, все пытался понять, почему вы притворяетесь доброжелательной, но теперь мне все ясно. Юлили тут, понимаешь, без конца чаем поили, улыбались, могли ведь напрямую спросить все то, что вас интересовало. Так что, Елизавета Павловна, актерничаю не я. Моя сторона была предельно честна с вами, но вы…
– Ни на секунду не притворялась, не умею, – перебила княгиня.
– В чем глубоко сомневаюсь, – с ухмылкой произнес я. – Полагаю, мне пора идти, ведь то была ваша прощальная речь?
Вызвав слугу звоном в колокольчик, г-жа Елизарова даже не посмотрела в мою сторону, когда я уходил, а как ни в чем не бывало продолжила чаепитие. «Тоже мне, святая! – нервно размышлял я по пути домой. – Зачем нужно было так долго выдерживать маску, в кого она играла? Странная дамочка с сомнительными намерениями».
Теперь ненадолго вернусь к пятнадцатому, прикрепляя здесь письмо от Мари, доставленное мне рано утром:
«Ну здравствуйте, милый князь.
Признаюсь, каждый день после театра только и делала, что вспоминала вас, оживляя в памяти первые дни нашего знакомства и то, чем все закончилось. Но лишь вчера меня вдруг осенило, что это были за отношения и какой вы человек на самом деле.
Собственно, все не о том. Вы спросите, почему же я вам пишу, когда мы уже расстались? Отвечу. Пишу затем, чтобы вы, наконец, получили от меня хоть какое-то объяснение, за которым, вероятно, и выбегали из театра, да и просто окончательно с вами распрощаться. Вы заявили мне на улице, что все простили бы. Ну допустим. Не буду перечить. Но прощу ли вас я, вы задумывались? Вы обращались со мной как с вещью на глазах у всех. Вы унижали меня изменами, а я терпела, забывая о своей гордости, но ровно до тех пор, пока вы не превзошли сами себя. Помните ли вы, что натворили за неделю до бала у фон Верденштайнов, и задумывались ли вы, почему мы не виделись? Наверно, вам даже и в голову не приходило, что вы сделали нечто предосудительное. А я вам того не забуду, уж поверьте. В общем-то такую жестокую, хладнокровную змею сложно забыть. Вы навсегда останетесь в моем больном, зараженном вашим ядом сердце. Всегда буду помнить, как вы меня погубили, сколько дней и ночей я провела в слезах из-за вас, сколько сил и здоровья потеряла.
Не забуду. Прощайте.
Аранчевская».
Прочитав письмо, я устало выглянул на улицу. В голове было пусто, сердце не слышалось, точно его вовсе не существовало. Но на душе было как-то особенно сыро и гадко, я словно зеркалил настроение петербургского неба, его хмурые тучи. Впрочем, письмо Аранчевской меня занимало недолго. Вздремнув за скучной книгой, я благополучно забыл и о ней, и о записке.
Днем писал картины, но скоро разленился, лег на диван и просил себе чаю. Вечером принимал отца, который приходил, кажется, извиняться, долго не мог начать разговора, мялся, в итоге лишь вручил приглашение на вторник и ушел. Впрочем, в его извинениях не нуждался, мне было все равно. Со спокойной душой я лег спать в тот день. Уснул на удивление быстро и проспал, как Наполеон после Ватерлоо. Но жизнь на то и жизнь, чтобы быть непредсказуемой, случиться может все, что угодно.
Не успел я проснуться, как в комнату вошел слуга и срочно просил представиться гостям. То явились Аранчевские и Растопшины. Оторопев, я поднялся на кровати и кинул взгляд на зеркало в углу комнаты, затем потер глаза и уставился в окно. На дворе тем временем уже стемнело.
– Гоните всех к черту! Вот еще чего удумали, я не собираюсь принимать никого посреди ночи. Который час?
– Восьмой, ваше сиятельство, – отвечал слуга. – Мы так и сказали, мол, хозяин уснул еще со вчера, до сих пор не вставал.
– Как это со вчера? Какое сегодня число-то?
– Шестнадцатое февраля, хозяин. Что передать господам?
– Как это шестнадцатое? Да не может быть! Неужели я спал все это время? – вновь бросив взгляд на зеркало, воскликнул я. – Ладно. Передайте им, что выйду. Ступайте.
Наскоро причесавшись, умывшись, я укутался в одеяло и ступил к нежданным гостям. Мой вид, конечно, произвел впечатление.
– Не думали, что вы спите в это время, – смутился Максим Федорович, переглядываясь с супругой, полной решимости.
– Но вам же передали, что я не просыпался со вчерашнего дня. Собственно, что вам нужно? Признаться, надеялся, что вам хватит чести не приходить ко мне после того, что меж нами было. Как же я устал от вас!
– Да, между нами было много плохого, но вы преступно превзошли все возможные неприличия, – по-французски заговорил г-н Аранчевский, пока остальные усаживались в креслах напротив меня. – Желаю, чтоб вы принесли перед моей дочерью публичные извинения.
– Видно, отказ Мари сильно шибанул по вашей самооценке, раз вы пустились сплетничать, – так же вмешалась г-жа Растопшина.
– Не имею ни малейшего представления о том, в чем вы меня обвиняете, – пробубнил я, тяжело вздыхая.
– Про Марию теперь по всему Петербургу ходит слух о том, что она – дырявая перчатка! Кроме вас, милый змий, никто на такую подлость не способен, – угрожающе подскочив с места, почти переходя на крик, заявила Евгения Виссарионовна, яростно грозя мне кулаком.
– Милый князь, да ведь это ни в какие ворота… – пропищала г-жа Аранчевская, умоляюще протягивая ко мне руки. – Мы уж не настаиваем на вашей свадьбе, когда должны, но поймите…
Не в состоянии сказать и слова, я бессильно вскинул голову и закрыл глаза. Какое-то время погодя, устало потерев лицо ладонями, измученно оглядев лица присутствующих, я наконец нашел в себе силы заговорить:
– Знаете, вы уже так достали, что у меня буквально не достает сил жить. Не хочу разбираться ни с вашими выдумками, ни с чьими-нибудь еще. Убирайтесь, не желаю вас видеть. Ежели вы по-французски в тот раз ничего не поняли, я повторю вам еще, но по-русски: ваше общество мне омерзительно. Можете считать меня грубияном, но вы сами напросились. Перчатка она или не перчатка – ваши проблемы, опозоренная она или нет – тоже ваши проблемы, потому что вы в ее голову ничего не вложили. Она живет у вас, как хочет, и я живу, как того хочу. Как говорит Баринов: «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Воспитывать надо было раньше, и нотации оставьте для родной дочери, у меня есть кому проповедовать.
Вернувшись в комнату, я бросился на кровать и нервно, резкими движениями начал поправлять одеяло и накрываться. «Вот теперь-то они у меня попляшут! – обжигали меня думы. – Всегда говорил Мари: не ссорься с кошельком, а то бедной будешь!» Долго я ворочался, потел от злости, но свежий воздух сквозняка убаюкал. Сквозь охватившую меня дремоту я задумался: «…а все-таки филигранно выдумал Алекс наши тридцать тысяч серебром. То же, что тридцать серебряников, за которые Иуда продал Христа. Ну уж, этого удовольствия я им не доставлю. На змия я еще согласен, но на Иуду уж точно нет».
17 Février 1824
Татьяна с родителями прибыла гораздо позже нахлынувшей толпы гостей. Отец зачем-то пригласил даже Растопшиных и Аранчевских, их я никак не ожидал увидеть. Появление этих двух семей вызывало во мне волну негодования. Ежели еще вчера вечером я радовался тому, что новость о моем наследстве, наконец, обнажится, то сегодняшним утром пребывал в совершенно иных настроениях: «изначально я хотел оставить наследство в тайне, решился навсегда забыть отношения с четой Аранчевских и Растопшиных, думал зажить праведной жизнью: жениться, родить детей и быть послушным мужем. Мечтал занять время тем, что я так люблю – картинами!.. Отец вновь задушил мои измышления и нарочно наживает мне врагов! Он знал, какие у меня отношения с родственниками Мари и с нею самой, он предполагал, что я хотел сделать тайну, но специально все перечеркнул! За что он так пренебрегает мною, ненавидит меня? За что он так зол? Всю жизнь только и делаю, что угождаю ему, не мозолю глаза, окружаю заботой, но ему моя любовь никогда не была нужною, ему за счастье меня унизить, растоптать, а дали бы веревку, то он с удовольствием бы меня вздернул».
Пока толпа расплывалась в приторно выспренних речах к моему отцу, расхваливая ланчены, я пребывал в углу комнаты вместе с Керр и Розенбахом. Никто не обращал на меня особого внимания. Альберту глубоко кланялись, Феликсу что-то считали нужным сказать, а мне в остаточном явлении поднимали бокал шампанского в знак приветствия и мерзко улыбались, словно морщась от кислого лимону. Ежели я скажу, что происходящее совсем никак меня не задевало, то солгу. Мне было больно быть никем на состоявшемся празднике жизни, я жаждал хотя бы крохотного уважения к своей персоне, но всякий присутствующий относился ко мне не более, чем к лакею. В какой-то момент к Керр подошли военные знакомые (никогда не знал Альберта хорошо, а оттого не могу точно обозначить подошедших его друзьями), не посчитавшие нужным даже улыбнуться мне из приличия. Среди прибывших был и граф Сухтелен, был г-н Чернышев, трижды повернувшийся на меня и нахмурившийся, как на помеху, был и г-н Сеславин, который и вовсе не увидал, что я такое. Они громко говорили, с горячностью жали друг другу руки, в особенности Чернышев Александр Иванович, ему непременно хотелось о чем-то пошептаться с Керр. Но когда подошел Алексей Петрович Ермолов, Альберта покорно оставили, а сами перешли к Розенбаху и забрали его в сторону. Я остался совсем один. Было не слышно, о чем говорил Керр с Ермоловым, но видно, что в конце концов речь их зашла обо мне. Пока Альберт смущался и стыдился поднять глаза, г-н Ермолов говорил энергически, но притом сдерживая себя, чтоб я не услышал. То и дело взгляд Ермолова устремлялся в мою сторону, обрывался и отворачивался, продолжая что-то насмешливо бубнить.
Наблюдая дальше, я заметил Мишу. Он был звездою вечера, девицы кружились вокруг него, как рой мотыльков у вечерней лампы. Слова Баринова хоть растворялись в общем потоке голосов, но четко слышался его заливной смех. Мария тоже вертелась вокруг Мишеля, будто стараясь заполучить его внимание, урвать мимолетный взгляд, но тщетно. Баринов обращал внимание на всех, но и ни на кого в целом, всякая милая мордашка для него мешалась с другой и ничем не отличалась от новой такой же милой мордашки. «Умру, как тихий шум листвы! Никому я не нужен!», – охватила меня меланхолия, – «прав отец, я бесполезен: не служил, не при деле, не женат, а рисунки мои – детский лепет, который вряд ли когда-нибудь станет достоянием общественности. Все, что умею я, то умею не вполне, и даже то, что не умею, я не умею не вполне. Какая, однако, рваная у меня жизнь, за все хватаюсь, ничего не довожу до ума, ни занятия, ни отношения. Помню, как-то слышал о себе таковое замечание, что жизнь у меня рваная, но тогда с этим не согласился. Теперь ясно сознаю, как заблуждался, четко вижу, что все у меня не так, как следует. Может, мне нужно завоевать внимание? Но зачем за-во-е-вы-вать?.. Не хочу ничего и никого завоевывать, я хочу просто и легко, а так, между тем, не бывает. Ничего не хочу, вот что».
Пока думал, подошел Альберт.
– Ты бледен, друг мой. Все в порядке? – со счастливым и румяным от улыбки лицом заметил Керр, освободившись от г-на Ермолова.
«В порядке… но не вполне! Впрочем, не говорить же вам этого. Моя пустяковая жизнь, ничем не увековеченная, не должна вас тревожить. Шли бы вы веселиться со своими товарищами, а я вам не товарищ, лишь знакомый, и то… не вполне! Ничего о вас не знаю, как и вы обо мне, значит, нечего и заботиться», – подумал я, но промолчал.
– У вас с Розенбахом кружок по интересам? Теперь и ты решил отмалчиваться? – нахмурился Керр, но я не отреагировал на его выпады. – Это модно теперь, Адольф?
– Лунин вам приветы шлет, Альберт Анатольевич, – вернулся Розенбах, всем видом показывая, что я меж ними лишний. – Жалуется, мол, не заходите вы к нему; полагает, зазнались. Сделайте визит. Он что-то затеял, вас зовет.
– Осведомлен. До меня не касаются те затеи. Я дал присягу и верен ей до смерти, – между делом отрезал Альберт, вновь отвлекаясь на подошедшее к нему лицо.
«А пошел-ка я к чертям собачьим», – насупился я и покинул компанию, удалившись в закулисье театра, где судорожно готовилась сцена по Шекспиру «Ромео и Джульетта». Сначала бездельно шатался по гримеркам, потом распоряжения отдавал, ставя тем самым труппу в замешательство, а затем до того вдохновился, что составил в голове космическую идею и поспешил привести ее в исполнение. Заманив в одну из дальних комнат актрису, должную исполнять роль Джульетты, я приказал ей молчать и не высовываться. Как только запер девчонку, тут же ушел переодеваться в женское платье. Бесспорно, далеко не всем театральщикам понравилось мое присутствие и идея, но спорить со мною никто не стал. Труппа почему-то страшилась меня, я это чувствовал и безнаказанностью наслаждался.
Мое появление на сцене в женском платье поразило публику, кто-то из дам даже вскрикнул. «Вот, чего они ждут, моего падения, оступки! Сын действительного тайного советника первого класса явился в женском платье, напомаженный, накрашенный, как гороховый шут! Вот что! Все они знают меня, все ненавидят, намеренно избегают общения, намеренно уязвляют холодным, жестоким равнодушием! О, зато сколько удовольствия доставил им теперь, унизив себя! – слезящимися глазами наблюдал я, исполняя роль Джульетты». К концу классического спектакля началась и моя идея: отравленная ядом Джульетта, то есть я, так и продолжила лежать на сцене, в то время как остальные действующие лица расходились за кулисы, затушивая после себя свечи канделябров. Мое бездвижное нахождение на полу вызывало у всех натуральное беспокойство, некоторые из гостей даже поднялись с мест и вылупились в лорнеты, стараясь разглядеть, жив я или нет. Когда тихо зазвучал рояль, проявляясь медленным и давящим клавишным наступлением, я принялся подниматься ломаными движениями марионетки. Чем отчетливее и быстрее звучала музыка, развиваясь надрывной, тревожной скрипкой и грубой виолончелью, тем сильнее и страстнее я скакал из стороны в сторону. Для меня тогда не существовало ничего, кроме пустоты и тишины, в которой я носился под воображаемым лучом света, снизошедшим из пустоты и мрака. То я скрывался в тени, то появлялся в свету, кружась на одной ноге. В те моменты, когда я был не слишком экспрессивен, подготовленные актеры накидывали мне на руки длинные веревки и по заранее оговоренному сценарию одергивали меня. Выступление завершалось началом: тяжело отстукивающими такт минорными аккордами рояля и постепенным затуханием оставшихся свечей. Когда я, наконец, оказался на середине сцены вместе с последним канделябром в руках, в зале не было почти ни одного источника света. Актеры подбирались ко мне и, управляя веревкой, наводили руку на огоньки, которые я, как марионетка, тушил, пока не осталась лишь одна свеча. Сорвав с себя парик Джульетты, я нарочно задрожал, принялся опасливо оглядываться по сторонам и тихо зарыдал, утирая слезы, как ребенок. Вместе с тем по сценарию моему театральщики принялись громко смеяться и тянуть веревки из стороны в сторону, как бы стараясь лишить свечи и выбить из равновесия. Скоро за спиною раздался выстрел. Пародируя раненого, я прижал ладонь к сердцу и пал. В заключение актер, облаченный в черное, подобрался ко мне и, громко усмехнувшись, затушил свечу ногою.
С концом выступления внесли огня в зал и на сцену. Актеры и я вытянулись шеренгой, ожидая аплодисментов. Какое-то время зрители выдерживали всю ту же тишину, но внезапно и почти разом прорвались, живо вскакивая с мест. Все двести человек безумно ликовали. А директору настолько понравилась идея, что он пригласил меня в свой театр корректировать постановки.
Пока приводил себя в порядок, смывал грим и переодевался, прошел час. Бывало, меня тревожили лакеи, передавая записки от отца, его приказания немедленно явиться. То, что я приготовлялся в гардеробной, для него не имело никакого значения и служило, по всей видимости, лишь отговоркой. Справедливости ради скажу, что я действительно мешкал, оттягивая время. После спектакля на меня накатила настолько сильная усталость, настолько сковывающий страх быть пристыженным и осмеянным, что я не хотел выходить в свет и буквально замирал на месте, тело сковывало. Впрочем, положение было безвыходным, пришлось выйти.
В парадных залах уже вовсю двигались танцы. Толпу, которая глядела на меня жадно и пытливо, я разрезал с холодной точностью, тягучими шагами продвигаясь к отцу.
– Мне сказали, вы меня искали, – окинув Эдмонда де Вьена его же презрительным взглядом, сухо произнес я. – Извините за задержку, папа. Переодевался.
– Да, искал… – отчего-то как бы удивился старый князь и ненадолго замолк, выжидая окончание танцев; прозвенев колокольчиком для привлечения всеобщего внимания, отец завел речь, выйдя прямо в центр зала: – Дорогие гости, самые родные и близкие, к чему же я вас собрал? Полагаю, пора развеять интригу. Адольф вступил в полноправное и всеобъемлющее наследство Акулины Петровны Шувиловой. В честь столь знаменательного события вечером вас ждет фейерверк.
