Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны
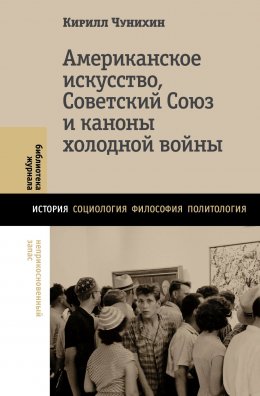
© К. Чунихин, 2025
© Т. Пирусская, перевод с английского, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Моим родителям
Список аббревиатур
АИГИ – Американский институт графических искусств
АНВ – Американская национальная выставка
ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ОР ГМИИ – Отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
РГАКФД – Российский государственный архив кино– и фотодокументов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
ССОД – Союз советских обществ дружбы
ЮСИА – Информационное агентство США (англ.: USIA – United States Information Agency)
AAA – Archives of American Art
NARA – National Archives and Records Administration
SIA – Smithsonian Institution Archives
Предисловие
В 2012 году, когда я приступал к этому исследованию, холодная война казалась далеким историческим прошлым. Искусство и культуру этого периода, завершившегося, как считалось, вместе с распадом Советского Союза, чаще всего осмысляли с постпозиции и исходя из новых реалий. В 1990-х годах российские архивы открыли двери для ученых, стремившихся пересмотреть нарративы советской эпохи. В западной историографии появились исследования культурной политики США, основанные на прежде засекреченных американских документах. Из научных работ стали постепенно уходить обусловленные холодной войной искажения, и наметилась возможность становления более объективной, эмпирически фундированной истории культуры и искусства. При этом в науке закрепилась тенденция рассматривать искусство и политику в одной связке, а задача исследователя прежде всего сводилась к поиску связей между ними. Такие исторические нарративы выглядели особенно привлекательно, когда принимали характер расследования, призванного разоблачить тайные планы по использованию модернистского искусства, особенно абстрактной живописи, как средства пропаганды, которое должно было подрывать авторитет Советского государства. Подобный подход к искусству и культуре сохраняется по сей день, задавая дальнейшую стереотипизацию представлений об истории бытования американского искусства в Советском Союзе.
В 2010-х годах, на первых этапах работы над этим проектом, я с увлечением собирал все больше и больше материала, казалось бы доказывавшего обоснованность метанарративов периода холодной войны, где на первый план выходило использование государством изобразительного искусства и культуры в политических и идеологических целях. Однако в какой-то момент у меня начали скапливаться данные, опровергавшие некоторые наиболее популярные представления о роли искусства в условиях противостояния двух сверхдержав. Казавшиеся мне прежде базовыми тезисы о том, что правительство СССР панически боялось приобщения советских граждан к американскому абстрактному искусству и что США, осознавая это, стремились целенаправленно подорвать советскую власть, потребовали переформулировки. Взволновавшие меня вопросы вели меня не только в архивы, библиотеки и музеи, расположенные по обеим сторонам Атлантического океана, но и к живым людям. Интервью с посетителями и кураторами экспозиций стали дополнительными источниками ценнейшего эмпирического материала. Но намного более важным оказалось то, что в этих беседах я начал отчетливо видеть, как сопряженные с холодной войной предубеждения влияют на исторические нарративы. Я с изумлением наблюдал, как охотно современники и «участники» холодной войны воспроизводят расхожие, но упрощенные представления о свободе американского абстрактного искусства в противовес тоталитарному советскому соцреализму. При этом их собственные рассказы порой рисовали куда более сложную панораму искусства периода холодной войны, не сводившуюся к противопоставлению свободного и несвободного творчества.
В конце концов новые материалы заставили меня задаться вопросом: неужели функция искусства в этот период заключалась только в подрыве или диверсии? Какие еще задачи ставили перед собой те, кто курировал выставки американской живописи? Можно ли выйти за рамки дискуссий о способности модернизма расшатывать авторитет государственной власти в СССР? В этой монографии я попытался скорректировать подход к изучению американского искусства периода холодной войны так, чтобы учесть политический фактор, но не свести логику исследуемого предмета к логике международной дипломатии и крупных политических событий. Книга, задуманная как политическая история искусства, постепенно, пока шел процесс работы над ней, заставила меня воспринимать теории, некогда вдохновившие на ее написание, гораздо более критически и скептически. Результатом этого стала оригинальная концепция истории американского искусства периода холодной войны, в становлении которой важная (но не всегда очевидная) роль отводится Советскому Союзу.
Так, господствующее сегодня представление об американском искусстве XX века как стилистически разнообразном и потому демократичном в значительной мере сложилось в 1940–1960-х годах под непосредственным влиянием идеологического противостояния двух сверхдержав. Такой образ американского искусства, однако, формировался одновременно с его альтернативными канонами, и в настоящей книге представлен ретроспективный взгляд на эту генеалогию. Возможно, предложенный в книге образ истории американского искусства покажется странным и исследователям холодной войны, и любителям американского искусства. Моя работа демонстрирует, что некоторые крупнейшие фигуры в истории американского искусства занимали в иерархических системах советского и американского культурных пространств совершенно несоразмерное положение. Скажем, Джексон Поллок, которого сегодня причисляют к главным американским художникам XX века, в контексте репрезентации американского искусства в СССР играл куда менее важную роль, чем нам сегодня кажется. А Рокуэлл Кент, куда менее известный реалист, в современных работах об искусстве XX века редко выходящий на первый план, в Советском Союзе эпохи холодной войны был настоящей суперзвездой.
Исследование этого важнейшего для формирования историографии американского искусства периода совпало с реактуализацией риторики холодной войны, которая, как мне прежде казалось, прожита, изучена и невозможна вновь. Прочно войдя в повседневность, эта риторика сделала очевидным тот факт, что многие элементы дискурса холодной войны не только никогда не покидали страниц академических трудов, но и продолжают определять векторы восприятия американского искусства как в профессиональной среде, так и вне ее. Эта книга выявляет некоторые значимые установки критиков и комментаторов американского искусства периода холодной войны (на обеих сторонах Атлантического океана) и помогает лучше понять истоки предвзятых суждений, активно распространяющихся и по сей день, как об американском искусстве, так и о советском обществе.
Первые подходы к этой теме пришлись на 2010–2013 годы – счастливое время учебы в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Я благодарен факультету истории искусств и лично Илье Доронченкову, Сергею Даниэлю, Вадиму Бассу и Борису Кацу. Научные руководители – Кира Долинина и Роман Григорьев – оказали сильнейшее влияние на мое академическое развитие, не пожалев времени на то, чтобы научить меня думать об искусстве профессионально. Именно на их примере я убедился в том, что оригинальное исследование возможно только при развитых навыках визуального анализа и, конечно, при глубоком погружении в архивные источники. Изабель Вюнше, научный руководитель моей PhD, помогла сфокусировать внимание на хронологическом отрезке, оптимально подходящем для формата монографии. Благодаря поддержке Юрия Левинга мне было проще продолжать этот проект в те моменты, когда он почему-то переставал двигаться. Если бы не критика Сергея Ушакина, мне было бы сложнее добиться четкой артикуляции своей исследовательской позиции.
На протяжении всего периода работы над этой книгой меня вдохновляли замечательные ученые-гуманитарии, которых мне посчастливилось повстречать и с которыми мне удалось обсудить свою работу: Леонид Фуксон, Михаил Мейлах, Владимир Паперный, Светлана Альперс, Михаил Ямпольский, Саша Обухова, Дик ван Ленте, Пия Койвунен, Елена Кочеткова, Алан Уоллак, Даниил Александров, Бояна Пежич, Эдит Андраш, Гиорги Папашвили, Дора Мераи. Еще на ранних стадиях этого проекта мне повезло познакомиться с Беверли Пайефф-Мейси – я благодарю ее за доступ к архивам Джека Мейси и за ее точные наблюдения по части истории ЮСИА. Диана Гринвальд, Джо Мадура и Амелия Горлитц в период моей архивной работы в Смитсоновском музее американского искусства в Вашингтоне облегчили погружение в историографию предмета. Эта книга также не увидела бы свет, если бы не академическое сообщество Колледжа новой Европы в Бухаресте. Моя признательность – Анке Оровяну, Константину Арделяну и Ане-Марии Сырги. Я благодарен Адриану Селину, Екатерине Калеменевой, Евгению Анисимову, Александре Бекасовой и Игорю Кузинеру, а также всем коллегам из Департамента истории и Центра исторических исследований и, конечно, Лаборатории визуальной истории НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Татьяна Борисова была одним из самых чутких, а потому полезных читателей.
В ходе работы над книгой, мыслимой и изданной на английском и русском языках, я сотрудничал c исключительно чуткими отзывчивыми редакторами. Я благодарен Кирстен Бёнкер и издательству DeGruyter. Я выражаю глубочайшую признательность Арсению Куманькову, редактору серии Библиотека журнала «Неприкосновенный запас». Я также благодарен переводчику Татьяне Пирусской, литературному редактору Анне Пономаревой и всему коллективу издательства «Новое литературное обозрение», без профессионализма которых эта публикация бы не случилась. Наконец, спасибо Анастасии Курляндцевой, Ксении Ремезовой, Артему Петрову и Анастасии Старковской за помощь в работе с первичными источниками.
Санкт-Петербург, 2025
Введение. Каноны искусства и холодная война
24 июля 1959 года в парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы открылась Американская национальная выставка (АНВ). Организовало ее Информационное агентство США (ЮСИА, англ.: USIA – United States Information Agency) – официальная государственная структура, отвечавшая за продвижение позитивного образа Америки за рубежом. Территория тогда еще не застроенного крупными зданиями парка площадью 600 гектаров идеально подходила для создания уникального выставочного пространства (ил. 0.1). Советские рабочие под руководством американских инженеров возвели целый комплекс сооружений, в который вошли Геодезический купол Бакминстера Фуллера[1], капитальный Стеклянный павильон (Glass Pavilion) и три пластиковых «зонтичных» павильона (Umbrella Pavilions). Ни до, ни после ЮСИА не предоставлялось возможности создать столь масштабный «уголок Америки в сердце Москвы», где взорам советских граждан явились бы разнообразные американские товары – от новейших моделей электрогитар и автомобилей до полностью оборудованной кухни, на которой можно было дегустировать свежеприготовленные блюда. Благодаря столь грандиозному масштабу эта первая выставка США в Советском Союзе, организованная в период холодной войны, ярко отпечаталась в памяти современников. Американка Ирма Вейнинг, работавшая гидом на АНВ, вспоминает:
Выставка была своего рода карнавалом – самым красочным местом в Москве. [Посетители], обычно убийственно серьезные и законопослушные, живущие в мире четко обозначенных «нельзя» и «руками не трогать», на этой выставке могли следовать своими собственными маршрутами[2].
Ил. 0.1. План АНВ. Paleofuture blog, https://paleofuture.com/blog/2014/7/24/the-all-american-expo-that-invaded-cold-war-russia (дата обращения: 24.03.2025)
Зарубежная и советская пресса с восторгом писала о выставке как об акте примирения, а в современной историографии это событие по праву предстает как олицетворение хрущевской оттепели, когда культурные контакты между Советским Союзом и Западом были частично восстановлены[3]. Но, хотя 1959 год действительно был одним из самых продуктивных в истории советско-американских отношений, не следует забывать, что Американская национальная выставка все же оставалась событием холодной войны. Развернувшиеся в пространствах выставки «кухонные дебаты» между Никитой Хрущевым и Ричардом Никсоном подчеркнули актуальность повестки идеологического противостояния коммунизма и капитализма[4]. Дав разрешение провести выставку, советская сторона проявила не только гостеприимство, но и прагматизм: под покровом мирной риторики Хрущев воспринимал это мероприятие как редкую возможность ознакомиться с технологическими достижениями Запада и стимулировать международную торговлю[5]. Свои тайные надежды на выставку возлагала и американская сторона. Организаторы из ЮСИА рассчитывали, что демонстрация достижений капитализма в конечном счете покажет посетителям, что Америка предлагает широкий выбор радостей культуры потребления, выгодно отличающий западную демократию от Страны Советов[6]. В продвижении этого образа демократичной Америки важную роль играл и раздел искусства XX века, который был призван продемонстрировать «свободу выбора и самовыражения в Америке… важнейшее, чего лишены советские граждане» (ил. 0.3)[7]. Более того, как настаивают некоторые исследователи, раздел американского искусства выполнял «подрывную» функцию[8]. Современная абстрактная живопись являла собой прямую противоположность искусству соцреализма, казавшемуся американским критикам консервативным, – таким образом, через контрасты стилей изобразительного искусства подчеркивалось отсутствие свободы самовыражения в СССР.
Ил. 0.2. Американская национальная выставка в Москве. Москвичи направляются на выставку. Фотограф: В. Мастюков. Музей Москвы
Ил. 0.3. Посетители на Американской национальной выставке в Москве. 1959 г. Фотограф: Ф. Гесс. Downtown Gallery, 1824–1974. Архив Американского искусства, Смитсоновский институт
В исследованиях культуры и искусства периода холодной войны в целом и в истории советско-американских отношений в области искусства в частности эта выставка по праву стала ключевым сюжетом. Дэвид Кот, автор одной из первых фундаментальных работ по теме, даже высказал сомнение, что до 1959 года в Советском Союзе существовала какая бы то ни было история американского искусства: «В действительности американское искусство не находило в Советском Союзе почти никакого отклика до американской выставки 1959 года в парке „Сокольники“, хотя термин „абстракция“ всегда оставался в лексиконе советской критики»[9]. Однако мне представляется, что справедливый, но чрезмерный интерес именно к этой выставке привел к искаженному восприятию истории американского искусства в СССР. Всецело завладев вниманием исследователей, Американская национальная выставка заслонила важный пласт советско-американских отношений. Добравшись до этого пласта, мы увидим иную хронологию репрезентации американского искусства за рубежом, в корне отличающуюся от общепринятых представлений.
В самом деле, если опираться на современные исследования культурной политики США, складывается убедительная картина того, что в 1950-х годах американские музеи и государственные организации превращали искусство в инструмент культурного воздействия, главной целью которого был Советский Союз[10]. Однако именно советские, а не американские институции первыми начали прибегать к определенным приемам, позволявшим использовать искусство США в политических целях во время холодной войны. Ко времени выставки 1959 года, которую нередко описывают как первую встречу широкой советской публики с искусством США, в советских музеях уже прошла серия выставок американской реалистической живописи (см. Приложение).
Первая часть этой книги посвящена малоизвестной, но оттого не менее значимой и, возможно, наиболее масштабной советской практике репрезентации американского искусства. Парадокс этой истории заключается в том, что до холодной войны, когда на свободный культурный обмен между двумя странами еще не были наложены ограничения, в Советском Союзе состоялось лишь несколько небольших выставок американского изобразительного искусства, едва ли оставивших какой-либо заметный след в истории искусства или американо-советских отношений. Однако в первые 20 лет холодной войны американские выставки в советских музеях стали обыкновением, а их тематическое разнообразие позволяло знакомиться с искусством США – от колониального периода до современности – миллионам советских граждан. При этом удивительно, что, помимо Американской национальной выставки 1959 года, ЮСИА – крупнейшая американская институция, известная пропагандистскими кампаниями международного уровня, – провела в СССР только одну выставку американского искусства – «Американская графика» 1963–1964 годов. Все остальные выставки были устроены усилиями советских учреждений, без содействия официальных американских организаций. И все они проходили вопреки обстановке железного занавеса и в контексте советского антиамериканизма.
Этот краткий очерк истории американского искусства в Советском Союзе может показаться неожиданным или даже контринтуитивным. Богатая история ранее не изученных культурных контактов между США и Советским Союзом составляет одну из ключевых тем книги. Такой фокус отражает тенденции, особенно популярные в исторической науке 2010-х годов. Тогда исследователи стали все чаще обращаться не только к проблеме противостояния двух сверхдержав и разделения сфер влияния, но и к проблеме их взаимодействия в чрезвычайно сложных условиях холодной войны[11]. Подобным образом вместо акцента на культурном изоляционизме Советского Союза я предлагаю обратить внимание на историю американского искусства как на область транскультурного контакта между США и СССР. В конечном счете эта монография демонстрирует, что железному занавесу не удалось полностью разделить мир на противостоящие друг другу блоки, воспрепятствовать распространению знания и помешать советским зрителям знакомиться с зарубежным искусством. Как будет показано, обе страны были чрезвычайно заинтересованы в продвижении американского искусства, расходуя на решение этой задачи существенные институциональные и финансовые ресурсы. Потому, с известными оговорками, можно вести речь о созидательном характере холодной войны, воспринимая ее не только как мощный катализатор культурного изоляционизма. Напротив, специфические ограничения, определяющие холодную войну как таковую, стали особыми условиями для возникновения беспрецедентно богатого культурного обмена и неожиданных сценариев истории американского искусства в СССР, речь о которых и пойдет в этой книге.
История советско-американских контактов в области изобразительного искусства – многослойный сюжет, в котором переплетаются эстетика и политика в контексте холодной войны. Конфликт капитализма и коммунизма отразился на представлениях об искусстве, породив хорошо известный дискурс с характерными жесткими бинарными оппозициями – «демократическое vs тоталитарное», «абстрактное vs реалистическое» и т. д., – повсеместно используемыми для анализа визуальной культуры второй половины XX века[12]. Однако, хотя политическая обстановка после 1945 года и в самом деле способствовала подобному бинарному мышлению, некоторые элементы этой риторики существовали и ранее. В настоящей книге исследуются интерпретации американского искусства, уходящие корнями в дебаты, возникшие до Второй мировой войны и переосмысленные в контексте холодной войны. В этом параграфе представлена краткая ретроспектива становления советских суждений об искусстве с целью облегчить читателю последующее восприятие сюжетов, составляющих историю репрезентации и рецепции американского искусства в СССР в конце 1940-х – 1960-х годах, – что является главной темой этой книги.
Важнейший контекст советской эстетики – это, безусловно, драматичные отношения цензуры и искусства в тоталитарном обществе[13]. К 1930–1940-м годам изобразительное искусство в Советском Союзе подверглось стилистической унификации, происходившей параллельно с нарастанием враждебности по отношению к модернизму. До и во время революции российский культурный ландшафт отличался известным многообразием, а авангардные течения активнейшим образом участвовали в утверждении новой социалистической культуры. Обстановка резко изменилась в начале 1930-х годов, когда произошло кардинальное переформатирование советской идеологии, которое в славистике известно как «великое отступление» (Great Retreat)[14]. Сталинизм и тоталитаризм проявляли себя, помимо прочего, в отказе от культурных практик и институций, сопровождавших рождение Советского государства в 1920-х годах, в пользу более консервативных, досоветских. По части изобразительного искусства эта тенденция реализовалась в монополии социалистического реализма – с 1932 года единственного официального советского художественного стиля. Концепция соцреализма предполагала его ориентацию на социально-критическое фигуративное искусство прошлого, в частности живопись передвижников, агрессивно противопоставляя себя течениям русского авангарда. Этому принудительному утверждению соцреализма способствовала масштабная институциональная реформа. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года, все литературные и художественные организации, в том числе и объединения художников, и органы печати, имевшие отношение к изобразительному искусству, были распущены, а 25 июня 1932 года была создана единственная официальная организация – Московский союз художников. Аналогичные региональные организации появились по всей стране. Учрежденные государством союзы позволяли централизовать и контролировать различные этапы производства и бытования искусства: от заказа до экспонирования.
Переход искусства в сферу компетенции государства в начале 1930-х годов сопровождался официальной пропагандистской кампанией, нацеленной, как полагали ее организаторы, на улучшение советского искусства с целью сделать его более доступным массам и очистить от пагубных западных веяний. Одной из ключевых вех этой кампании против формализма стала напечатанная в 1936 году в «Правде» разгромная статья «Сумбур вместо музыки» – отклик на оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»[15]. Это новаторское произведение содержало элементы музыкального экспрессионизма, чуждые соцреалистическим стандартам того времени и, как утверждалось в статье, повергающие в недоумение обычного советского человека. Отсюда следовало, что подобное «левацкое уродство» в целом представляет «опасность» для советской культуры, ибо «мелкобуржуазное „новаторство“ ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы».
Трагические последствия этой статьи для советской культуры уже привлекали внимание исследователей[16], но меня сейчас интересует роль, которую сыграла данная публикация именно в формировании советского дискурса об искусстве. Во-первых, ее автор открыто и гласно поделил искусство на хорошее советское и плохое западное, узаконив таким образом жесткие бинарные оппозиции в разговоре об искусстве на страницах «Правды», официального печатного органа ВКП(б). Во-вторых, в статье подчеркивалась угроза, таящаяся в «формалистическом»[17] западном искусстве, которое, по словам автора, портило советскую культуру. Наконец, «Сумбур вместо музыки» спровоцировал появление схожих заметок и о других видах искусства[18].
Одна из таких статей, напечатанная в «Правде» 1 марта 1936 года и озаглавленная «О художниках-пачкунах», касалась уже непосредственно изобразительного искусства. Критике подвергся Владимир Лебедев, выдающийся иллюстратор детских книг, чьи «формалистические» рисунки портили и уродовали советских детей. В статье утверждалось, что Лебедев, вместо того чтобы изображать вещи такими, какие они есть, искажает их облик: «Даже вещи, обыкновенные вещи – столы, стулья, чемоданы, лампы – они все исковерканы, сломаны, испачканы, приведены умышленно в такой вид, чтобы противно было смотреть на них и невозможно ими пользоваться»[19] (ил. 0.4). То есть, как считал автор заметки, искаженные контуры предметов на рисунках Лебедева внушали зрителю неправильную привычку восприятия действительности.
Ил. 0.4. Владимир Лебедев. Лампа, иллюстрация к стихотворению С. Маршака «Вчера и сегодня», 1933 г. По переизданию: Маршак С. Сказки, песни, загадки. М.: Детская литература, 1973. С. 74
Эта риторика, обличающая связь между формализмом, современным западным искусством и подрывной политической деятельностью, пережила 1930-е годы и Великую Отечественную войну (1941–1945) и развернулась с новой силой в период холодной войны. Об этом наглядно свидетельствует пример Владимира Кеменова, авторитетного советского искусствоведа и функционера[20]. В 1947 году Кеменов опубликовал программную статью «Черты двух культур» (Aspects of Two Cultures) – образец антагонистических суждений в сфере изобразительного искусства: подлинное соцреалистическое искусство в ней противопоставлялось «антигуманистическому», «упадочному» буржуазному искусству, «лицемерно скрывающему свою реакционную природу» и «враждебному интересам демократических масс»[21]. Кеменов, посвятивший 16 страниц выстраиванию негативных связей между советской и западной культурой, откликался на усилившиеся в СССР антизападные тенденции. В 1947 году, в самом начале холодной войны, советская пропаганда искала разных идеологических врагов, в том числе и в сфере искусства[22].
Одним из важнейших факторов, определивших такой идеологический модус критики, стало постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», вышедшее 14 августа 1946 года. Его автор, Андрей Жданов, на тот момент главный советский идеолог, подверг резкой критике Анну Ахматову и Михаила Зощенко за их «аполитичные», «идеологически вредные» произведения[23]. Ахматову он, в частности, критиковал за любовную лирику, а Зощенко – за неподобающую социальную сатиру. Жданов отмечал, что подобные литературные произведения едва ли соответствуют запросам советского искусства. В докладе на встрече с писателями в Ленинграде в сентябре 1946 года Жданов продолжил мысль, высказанную в постановлении, и объявил опальных авторов внутренними врагами государства, ведущими подрывную деятельность с целью «отравить сознание» молодежи[24]. Он утверждал, что нельзя терпеть такое непатриотичное и антисоветское искусство и что учреждениям, ответственным за пропаганду, следует внимательнее следить за тем, что издается в Советском Союзе. Результатом ждановского доклада стала усилившаяся критика «формалистических» писателей, художников и других интеллектуалов со стороны советской пропаганды, заявлявшей, что они транслируют западную идеологию, а значит, выступают агентами западного империализма. В сфере изобразительного искусства апогей этой репрессивной политики, также известной как кампания по борьбе с космополитизмом, пришелся на 1948 год, когда закрыли Государственный музей нового западного искусства[25]. Это было последнее в стране публичное пространство, где демонстрировались картины западных модернистов: французских импрессионистов и постимпрессионистов.
Таким образом, в первые годы холодной войны в Советском Союзе оставалось все меньше следов присутствия модернизма, а негативная критика западного искусства активно набирала обороты. Как и почему, несмотря на столь последовательную и жесткую политику запретов и цензуры, американское искусство в 1950–1960-х годах стало заметной частью советского культурного ландшафта? Специалисты по истории СССР охотно – и справедливо – объяснят интерес Советского Союза к американскому искусству последствиями оттепели: при Хрущеве советское общество возобновило контакт с Западом. Однако в этой монографии представлена более детальная картина. Действительно, в хрущевскую эпоху предпринимались шаги, противоположные репрессивной культурной политике сталинизма. Но нельзя забывать, что некоторые базовые принципы советского подхода к искусству, такие как государственная цензура и монополия социалистического реализма, оставались неизменными на протяжении всего советского периода. Учитывая эти обстоятельства, история американского искусства в СССР позволяет глубже понять логику культурной оттепели. Возникшие в конце 1950-х – 1960-х годах в Советском Союзе подходы к репрезентации и рецепции американского модернизма и реализма выстраивали особый баланс между доступом к западному искусству и запретом на него в условиях холодной войны.
Для сюжетов этой книги в значительной степени важна и предыстория взаимоотношений искусства и власти в США в период холодной войны. Как заметил Макс Козлофф, именитый американский арт-критик, «до Второй мировой войны эта страна [Америка] не могла претендовать на подлинное лидерство и не обладала серьезным культурным авторитетом в сфере изобразительного искусства»[26]. Отсутствие какого-либо единого общепринятого нарратива о национальном американском искусстве воспринималось как проблема[27], затрудняющая борьбу с распространенными стереотипами того времени, согласно которым американская живопись, провинциальная версия великой европейской традиции, не представляла особой художественной ценности. Эта основанная на существенных огрублениях точка зрения, разумеется, давно пересмотрена. При этом можно утверждать, что именно начало холодной войны ознаменовало появление нарратива, определяющего реноме американского искусства и по сей день. Так, в 1983 году Серж Гильбо в своей ныне классической книге о становлении модернизма в США заметил, что после Второй мировой войны Нью-Йорк «похитил идею современного искусства», а американский авангард добился международного признания[28]. В 2005 году историк культурной дипломатии Майкл Кренн показал в деталях, как начиная с конца 1940-х годов в ходе подготовки выставок американской живописи для зарубежной аудитории американское искусство обретало все более высокий статус и международное признание[29]. Таким образом, возникновение в США концепции свободного и демократичного модернизма и практик ее продвижения вне Америки напрямую связано с идеологической поляризацией в период холодной войны.
Однако не следует думать, что история американского искусства в Советском Союзе была легким и закономерным переносом свободного искусства модернизма из демократической страны на враждебную почву тоталитарного государства. Еще в 1976 году американский историк Джейн де Харт Мэтьюз одной из первых исследовала происходившее в США после Второй мировой войны системное вмешательство цензуры и политики в сферу искусства, хотя, как справедливо заметила автор, «борьба с определенными видами искусства никогда не достигала таких масштабов… как в тоталитарных государствах»[30]. Ключевой импульс для развития тенденции государственного контроля в области искусства исходил от сенатора Джозефа Маккарти и Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, особенно активной в конце 1940-х – конце 1950-х годов[31]. Сопутствовавший маккартизму антикоммунистический террор оказал прямой эффект на изобразительное искусство. Под удар попал целый ряд художников: от реалистов, таких как Рокуэлл Кент и Антон Рефрежье, до радикальных модернистов, таких как Джексон Поллок. Все они имели в прошлом или до сих пор сохраняли связи с коммунистическими либо социалистическими организациями, что делало их очевидно уязвимыми в условиях развернувшейся при маккартизме «охоты на ведьм». Произведение искусства, а вместе с ним и его автор могли подвергнуться осуждению и в тех случаях, когда содержание носило социально-критический характер, затрагивая проблемы общества (как это произошло с работами известнейшего социального реалиста Бена Шана) или если предлагало спорную трактовку американской истории (как у Антона Рефрежье, история которого будет освещена на страницах этой книги). Наконец, произведение искусства могли счесть коммунистическим просто потому, что оно было модернистским. Яркий пример такого рода критики – известное высказывание Джорджа Дондеро, еще одного сенатора, прославившегося нетерпимостью в отношении авангарда. Приведу его слова, очень напоминающие советские доводы касательно подрывного и непатриотичного модернистского искусства:
Дадаизм разрушает осмеянием, сюрреализм – отрицанием разума, кубизм – продуманным беспорядком, футуризм – мифом о механизации, экспрессионизм – подражанием примитивному и больному сознанию, абстракционизм – головоломками. Четыре лидера этих «измов» – Пикассо, Брак, Леже и Дюшан. Леже и Дюшан теперь в США, где они хотят приложить руку к разрушению наших стандартов и наших традиций. Коммунистическое искусство при помощи и потворстве сбитых с толку американцев всаживает американскому искусству нож в спину с самыми кровожадными намерениями[32].
Эти непростые отношения искусства и политики оказали сильнейшее влияние на формирование американского подхода к организации зарубежных выставок. В 1946 году Госдепартамент США начал закупать работы самых современных американских художников для заграничной выставки «Продвигая американское искусство» (Advancing American Art). В финальную экспозицию вошли 79 работ таких художников, как Джорджия О'Кифф, Артур Доув, Уильям Базиотис и другие. За рубежом выставка удостоилась высоких оценок, но на родине изначально благосклонная реакция резко сменилась жесточайшей критикой. Противники выставки утверждали, что отобранные картины, особенно наиболее современные примеры американского модернизма, не дают адекватного представления об искусстве США, не говоря уже об опасных связях некоторых художников с коммунизмом: имена восемнадцати из сорока семи авторов работ фигурировали в открытых отчетах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а трое из этих восемнадцати были членами Коммунистической партии США. Возмущение публики нарастало, и Конгресс, который забрасывали письмами разгневанные налогоплательщики, консервативные любители искусства и антикоммунисты, решил организовать публичные слушания. На повестке стоял вопрос о допустимости расходования государственных денег на модернистскую живопись, едва ли адекватно отражавшую эстетические предпочтения большинства. Итогом общественного давления стал отзыв выставки из европейского турне в 1947 году. Годом позже собрание из более чем ста произведений распродали, выручив 6000 долларов.
Общественная критика и последующая отмена выставок американского искусства, проводившихся за рубежом, становились системными явлениями. Как продемонстрировал Кренн, историю американской культурной дипломатии в конце 1950-х – 1960-х годах вообще можно рассматривать как историю борьбы кураторов против отмены выставок. Даже Американская национальная выставка в Москве 1959 года, сегодня считающаяся безусловным успехом саморепрезентации США, не избегла критики у себя на родине – за включение модернистских холстов и скульптур, за отсутствие американских картин XVIII и XIX веков и, конечно, за экспонирование художников, в прошлом имевших связи с коммунистами или социалистами (таких, как Джексон Поллок, Бен Шан, Питер Блюм и многие другие)[33]. Специальное слушание Конгресса по поводу секции искусства на Американской национальной выставке состоялось 1 июля 1959 года, когда экспозиция уже была на пути в Сокольники. Однако, в отличие от предыдущих выставок, благодаря личному вмешательству президента Дуайта Эйзенхауэра ни одну работу в 1959-м не сняли. Вместо этого в Москву дополнительно направили еще двадцать восемь реалистических картин, написанных до Первой мировой войны, чтобы уравновесить экспозицию современного искусства более консервативными фигуративными полотнами.
Ни такой исход, столь удачный для организаторов Американской национальной выставки, ни распространение нарратива об американском искусстве как свободном и демократичном были бы невозможны без общественного сопротивления разным формам маккартизма в 1950-х годах. Яркий пример этого сопротивления – Альфред Барр, куратор Музея современного искусства в Нью-Йорке и теоретик авангарда, 14 декабря 1952 года опубликовавший в газете The New York Times статью «Является ли современное искусство коммунистическим?». Барр заявлял, что борьба с модернизмом – отчетливая примета тоталитарных режимов, и таким образом побуждал американских читателей делать весьма неутешительные выводы о демократии США. 22 октября 1954 года Американская федерация искусств, авторитетная институция в художественном мире США, выпустила Декларацию о свободе творчества, где говорилось, что такая свобода – «неотъемлемая часть» демократии и что она существует «вне зависимости от политической или общественной позиции художника, его симпатий или деятельности»[34]. Эта декларация, развивавшая аргументы Барра, недвусмысленно обозначала саму возможность использовать американское современное искусство в холодной войне: «свобода и многообразие – наиболее действенный ответ тоталитарной мысли, стремящейся к контролю и унификации»[35].
Отголоски этих эстетических дебатов будут напоминать о себе на протяжении всех семи глав монографии. Говоря об этом во введении, я стремлюсь отчасти дистанцироваться от популярного сегодня суждения, утверждающего, что в условиях американской демократии естественным образом возникла практика саморепрезентации через модернистское искусство. Напротив, концепция модернизма как свободного искусства не была изначально присуща обществу США. Она созрела в крайне напряженной обстановке, обусловленной неприятием авангарда существенной частью американского общества и очередной волной страха перед «красной угрозой», и, как будет показано во второй части этой книги, осознанно модифицировалась для советской аудитории.
История культурных контактов – важная тема этой книги. Но в первую очередь эта монография посвящена именно истории искусства. Первые десятилетия холодной войны совпали с периодом, когда по обеим сторонам Атлантического океана знания об американском искусстве заметно обогатились. Сама эта тема, вообще мало кого интересовавшая до Второй мировой войны, внезапно оказалась лакуной, и обе сверхдержавы активно участвовали в ее заполнении. До сих пор изучение этого важнейшего этапа возникновения истории искусства США сводилось практически полностью к дискуссиям о послевоенной абстрактной живописи, а вопрос об участии Советского Союза в формировании историографии американского искусства вообще не поднимался. Однако в СССР собственная концепция американского национального искусства сложилась уже в 1950-х годах. Советские искусствоведы отводили искусству США место в одном ряду с национальными искусствами других стран: Италии, Франции, Нидерландов и пр. К 1959 году, когда американскую живопись показали на АНВ в Москве, среди советских искусствоведов и критиков уже сложился полноценный дискурс как о модернистском, так и о реалистическом искусстве США. К примеру, еще в 1953 году издательство «Знание» выпустило тиражом 150 000 экземпляров 24-страничную лекцию П. С. Трофимова «Современная буржуазная американо-английская эстетика на службе врагов мира, демократии и социализма»[36]. Столь значительный тираж свидетельствует о явном намерении советской власти популяризировать свою критическую позицию по отношению к современному западному искусству среди советских людей, большинство которых в 1953 году в принципе не могли видеть никаких модернистских полотен. Американская фигуративная живопись привлекала не менее пристальное внимание советских ученых. В 1960 году Андрей Чегодаев, известный искусствовед, сотрудник Института истории искусств АН СССР и страстный любитель американского реализма, выпустил важнейшую монографию «Искусство США от Войны за независимость до наших дней», изданную тиражом 20 000 экземпляров[37]. Этой публикацией Чегодаев предвосхитил более поздние тенденции в изучении реалистического искусства США, которое американские и европейские критики до конца 1960-х годов будут преимущественно воспринимать как вторичное и провинциальное[38]. Магистральное исследование Чегодаева стало первой работой по американскому искусству, написанной не в США, а тот факт, что вышла эта монография в СССР, в стране – антагонисте Америки в холодной войне, сам по себе примечателен.
Одновременное формирование в 1950–1960-х советского и американского канонов искусства США показывает, что даже в годы холодной войны его история была транснациональным явлением. В исторической науке транснациональный подход получил заметное распространение с конца 1990-х годов благодаря своему эвристическому потенциалу, позволяющему выстраивать оригинальные нарративы с учетом «динамики и сил, не ограниченных национальными границами»[39]. Сейчас для исследования международных связей и культурного обмена эффективно применяются самые разные родственные методы: история культурных трансферов, история пересечений (histoire croisée), переплетенная история (entangled history), – что побуждает задуматься об уместности транснационального подхода и для изучения искусства[40]. Историки американского искусства тоже обогатили знания о своем предмете, принимая во внимание транснациональную перспективу. Возьмем, к примеру, вышедший в 2009 году сборник «История американского искусства в международном контексте» (Internationalizing the History of American Art)[41]. Это издание особенно ценно тем, что дает пеструю картину восприятия американского искусства в Великобритании, Германии, Франции, Канаде и Нидерландах, убедительно доказывая важность изучения неамериканского, внешнего (outsider) взгляда. При этом в сборнике, как и в более поздних работах о «внешних», неамериканских исследованиях искусства США, так и не была изучена русскоязычная литература и советская перспектива[42]. Это важное обстоятельство подчеркивает актуальность данной монографии, в которой предпринята попытка в духе транснациональной истории изучить конкурировавшие американский и советский каноны искусства Америки «в их соотнесенности, но также сквозь призму друг друга, на уровне отношений, диалога, взаимного обмена»[43].
В англоязычной версии моей монографии используется трудно переводимое на русский язык словосочетание shared history of American art[44]. Эта фраза достаточно точно определяет как специфику исследуемой темы, так и мой подход к ней: и Советский Союз, и Америка одновременно создавали свои конкурирующие и взаимовлияющие варианты общей для них истории искусства США. В конечном счете выбранная мной перспектива позволяет увидеть, как именно пересекались истории создания советского и американского канонов американского искусства. Выставки являлись наиболее характерными, но далеко не единственными способами взаимодействия США и СССР в области искусства и в пространстве конструирования его смыслов. Хотя эта книга и не обнаруживает прецедентов научного диалога в общепринятом понимании, предметом последующих глав окажутся неожиданные параллели, аналогии и переклички советских и американских канонов искусства США, возникавшие в процессе их становления и развития. Взаимодействие советской и американской историй искусства могло носить односторонний характер – скажем, интерес Чегодаева к американской историографии и активное ее использование практически не вызвали никаких реакций по ту сторону железного занавеса. При этом советские реалии, и в их числе представления о нормах искусства, оказывали сильнейшее влияние на то, как американские искусствоведы создавали свой канон для советской аудитории (данный вопрос будет рассмотрен во второй части книги). Эти и другие сложные и не всегда очевидные переплетения советского и американского канонов подтверждают актуальность не локального и изолированного, а транснационального исследования истории искусства США.
Представленная выше интерпретация выставки 1959 года в Сокольниках, основанная на символическом восприятии американского абстракционизма и советского соцреализма как противостояния свободного и тоталитарного обществ, является примером стандартного анализа экспозиций периода холодной войны. Однако стоит отметить, что на фотографии с Американской национальной выставки картина Поллока висит рядом с произведением фигуративной американской живописи – работой Гранта Вуда Parson Weems' Fable (1939) (ил. 0.3, с. 17). Не следует забывать и о том, что на выставке была хорошо представлена и американская скульптура. В моей монографии предложена новая интерпретация этого ключевого для истории холодной войны эпизода; интерпретация, избегающая ловушек, в которые можно попасть из-за чрезмерного схематизма, чреватого акцентом именно на абстрактной живописи. Уделяя должное внимание этому известному аспекту американского искусства, я сфокусируюсь на широком диапазоне художественных стилей и техник, выступающих предметом активных дискуссий об американском искусстве начиная с 1950-х годов. Подобная нестандартная перспектива переворачивает с ног на голову некоторые базовые представления об истории данного периода. Так, например, специалист по истории искусства США второй половины XX века удивится, узнав, что подлинно американским искусством называли не только абстракции Поллока, но и сюрреализм Дали и что наиболее резкой критике в СССР подвергалась не абстрактная живопись, прочно ассоциируемая с Америкой, а скульптура.
Моя конечная цель не только в том, чтобы дать детальную картину выставок американского искусства в Советском Союзе. Данная монография – это эмпирическое исследование, переосмысляющее сами способы интерпретации, обычно применяемые к выставкам периода холодной войны. Изучая на протяжении 10 лет архивные материалы на двух континентах, я собрал свидетельства, показывающие, что информация об известных и неизвестных выставках американского искусства в Советском Союзе не вписывается в господствующий метанарратив. Перефразируя риторику советских марксистов, можно сказать, что количество материалов побудило меня к поиску качественно нового подхода в изучении американского искусства.
Последние полвека важнейшей характерной особенностью – и главным ограничивающим фактором – истории искусства холодной войны выступает риторика, присущая этому периоду. Исследователям-гуманитариям, как правило, приходится анализировать произведения искусства средствами вербального языка, а история искусства веками вырабатывала специфические языки описаний для этих целей. Однако отличительной чертой изучения искусства эпохи холодной войны стало избыточное использование политической лексики, пропагандистских клише и даже понятий из области международных отношений, таких как «мягкая сила». Таким образом, унаследовав элементы политического дискурса холодной войны, искусствоведы сделали идеологические штампы базовыми инструментами анализа. Насущность политического контекста в конце концов обратила историю искусства этого времени в захватывающее повествование о заговорах кураторов и организаторов выставок и о подрывных функциях модернистского искусства, направленного на снижение лояльности советских граждан по отношению к собственному правительству.
Взять хотя бы известную фразу «битва за сердца и умы» (battle for hearts and minds), чрезвычайно распространенную в дискуссиях о культуре и искусстве эпохи холодной войны. Перед нами попытка иносказательно обозначить способ ведения войны без применения оружия. Подразумевая, что достичь цели можно, лишь склонив на свою сторону граждан, эта фраза обозначает два основных пути воздействия – эмоциональный (сердца) и рациональный (умы). Как и более широкие понятия – «железный занавес» и собственно «холодная война», вышеозначенное клише содержит в себе логику противостояния. Отчасти поэтому и кажется таким естественным осмыслять и описывать историю искусства эпохи холодной войны с помощью бинарных оппозиций: американское vs советское, капиталистическое vs коммунистическое, свободное vs тоталитарное, абстрактное vs реалистическое и т. д. В сложившихся условиях работа историка искусства приняла характер сортировки фактов с ориентацией на эти противостоящие друг другу категории. В то же время прочно вошедший в научный оборот метафорический язык размыл границы между искусством и политикой, искусством и войной, так что холсты художников-модернистов стали повсеместно пониматься в качестве оружия (и ученые зачастую даже не заключают это слово в кавычки). Майкл Кренн, автор первого подробного исследования истории американских выставок за рубежом, начал свою историю искусства именно с военной метафоры: экспозиция «Продвигая американское искусство» стала, по его словам, «первым залпом по СССР на поле боя искусства»[45].
Не будет ошибкой сказать и то, что в культуре периода холодной войны семантика изобразительного искусства как такового нередко сводилась к политическому комментарию. Эту особенность выразительно иллюстрирует карикатура, напечатанная в 1959 году в «Правде», – работа известного советского карикатуриста Наума Лисогорского озаглавлена «Великий реалист и карлики-абстракционисты» (ил. 0.5). Карикатура помещена рядом с выдержкой из речи Хрущева, где он критикует концепции «народного капитализма» (ссылаясь на Маркса, Хрущев подчеркивает, что капитализм основан на эксплуатации, а потому не может быть «демократическим», «гуманным» или «народным»). Сам Маркс изображен в центре карикатуры. Он стоит в характерной позе художника, держа в руках кисть и палитру. «Картина», которую рисует Маркс, представляет собой обличительное изображение капитализма (мешки с долларами лежат на черепах), а потому «реалистична». Карлики же держат «картину»-рекламу народного капитализма, которая, следуя логике карикатуры Лисогорского, ошибочна: она только сулит выгоду покупателю акций. Такой образ народного капитализма далек от реальности, и поэтому карлики названы «абстракционистами». В конце концов, в этой карикатуре само изобразительное искусство как вид деятельности и оппозиция «абстракционизм vs реализм» выражают конкретные политические смыслы.
Ил. 0.5. Наум Лисогорский. Великий реалист и карлики-абстракционисты // Правда. 1959. 9 ноября. С. 5
Не то чтобы взгляд на искусство сквозь призму понятий, сопряженных с холодной войной, совсем не соответствует действительности. Точнее будет сказать, что они отражают реальную картину, но лишь частично. История искусства этого периода до сих пор изучается как политическая история искусства. Но мне хотелось бы предотвратить то, что Сергей Даниэль, советский и российский семиотик и искусствовед, назвал превращением искусства в риторику[46] (политическую в моем случае):
Риторика, конечно, не противопоказана науке. Вопрос в том, служит ли она познанию или претендует заменить собой таковое. Как известно, говорить и писать об искусстве можно не только ради самого искусства, но также ради удовлетворения ораторских и литературных амбиций, ради овладения аудиторией, ради того, скажем, чтобы покорять сердца прекрасных дам (или мужей) и т. п. Если автор не лишен риторического дара и мастерства… он может с успехом навязать аудитории представление, будто самый процесс овладения ею (аудиторией) и есть мышление об искусстве. В таком случае ни автора, ни читателя или слушателя уже не интересует, по существу, что стоит за именами Леонардо или Сезанна, как эти художники видели и мыслили, в какие законы верили, о чем писали и говорили и т. д. Художник становится риторической фигурой[47].
Действительно, Джексон Поллок давно уже стал риторической фигурой. То же самое можно сказать об американском абстракционизме, понимаемом как символ свободы, или советском фигуративном искусстве как символе тоталитаризма. Напротив, в этой монографии американское искусство понимается не только как инструмент политической риторики, позволявший буквально визуализировать или метафорически выразить идеологические штампы. Американские кураторы никогда не забывали об эстетическом аспекте искусства. Например, в 1963 году организаторы выставки «Американская графика», второй важнейшей выставки ЮСИА в СССР, совершенно не стремились свести изобразительное искусство к трансляции идеологических тезисов, а воспринимали искусство как универсальный транскультурный язык: «Цвет, форма, линия и символ не зависят от языка, обладая почти уникальной способностью обращаться к тому, что объединяет, а не разделяет людей»[48]. Такая повестка в корне отличалась от логики идеологического подрыва, обычно ассоциируемой с выставками нефигуративного искусства в СССР. Не мыслила исключительно политическими категориями и публика. Яркий тому пример – случай с картиной Ясуо Куниёси «Артистка цирка отдыхает» (Circus Girl Resting) (ил. 0.6). В 1946 году президент США Гарри Трумэн, который сам был художником-любителем, заявил, говоря об этой картине: «Если это искусство, то я готтентот»[49]. Через 13 лет первый секретарь Никита Хрущев посетил Американскую национальную выставку 1959 года, где другая, но стилистически родственная работа Куниёси «Удивительный жонглер» (The Amazing Juggler) вызвала у него смех (ил. 0.7)[50]. Хрущеву ни разу не представилось возможности обсудить свои художественные вкусы с Трумэном, но эти насмешки над Куниёси показывают, что их эстетические предпочтения были не так уж и противоположны. Заметим, что, реагируя на творчество Куниёси, оба лидера совершали и акт эстетической интерпретации художественного текста, а не только акт культурной политики. Как будет показано в этой книге, советские зрители, как и американские кураторы, тоже не рассматривали искусство исключительно в политических категориях холодной войны.
Ил. 0.6. Ясуо Куниёси. Артистка цирка отдыхает (1925). Музей изящных искусств Джул Коллинс Смит, Обернский университет
Ил. 0.7. Посещение Н. С. Хрущевым и А. И. Микояном Американской национальной выставки в Москве // Советская культура. 1959. 5 сентября. С. 2
Итак, перед нами по-прежнему стоит вопрос: как анализировать историю американского искусства в годы холодной войны, учитывая ее многослойность, транснациональный характер, а также недостатки существующих подходов? Правда ли американцы пытались подорвать советскую власть абстрактной живописью и действительно ли советская сторона так уж боялась нефигуративного искусства? А главное, можем ли мы адекватно оценить роль искусства как оружия в холодной войне? Логика ответов на эти вопросы определена четырьмя ключевыми методологическими посылками, кратко сформулированными ниже. Эти посылки, направляющие мое повествование, позволяют наметить некоторые альтернативные подходы к истории американского искусства в период холодной войны. Вместе с тем сами эти подходы проходят проверку эмпирическим материалом, представленным в этой книге.
Во-первых, как мне представляется, историю американского искусства в Советском Союзе в годы холодной войны нельзя объяснить одной только политикой или дипломатией. Поэтому я предлагаю избегать повсеместного проецирования политической обстановки на ситуацию в искусстве. Моя задача состоит в том, чтобы переключиться с политики искусства на искусство и политику в годы холодной войны. Иными словами, вместо истории политического детерминизма в американском искусстве и культуре определенного периода я анализирую историю искусства в ее сложном взаимодействии с политической повесткой.
Во-вторых, акцент на искусстве и его лишь частичной зависимости от политики позволяет – и требует – пересмотреть понятийный аппарат, обычно применяемый для анализа искусства в контексте холодной войны. Популярная оппозиция «абстрактное vs реалистическое» не является главной и единственной отправной точкой для такого рода анализа. Этими двумя категориями и производными от них («капитализм vs коммунизм» и т. д.) зачастую злоупотребляют, вчитывая их в произведения искусства и выставки периода холодной войны. В действительности за произведениями американского искусства и их восприятием могли стоять и более сложные и разнообразные контексты, чем те, что диктовались политической ситуацией. И роль американских кураторов вовсе не сводилась к организации идеологических диверсий через искусство, а советская публика не вела себя как наивный индоктринированный соцреализмом зритель, панически боявшийся встречи с абстрактным искусством. Помимо политической обстановки, самобытная реакция советской аудитории на американское искусство зависела от предшествующего эстетического опыта и глубины познаний в изобразительном искусстве (или отсутствия таковых) и, конечно, от субъективных ассоциаций. До сих пор исследователи, фокусируясь прежде всего на идеологических смыслах, закрывали глаза на эмоциональную палитру рецепции искусства холодной войны. Меня же будет интересовать буквальная суть того, что исследователи называют «битвой за сердца и умы». Поэтому в монографии уделяется особое внимание и тому, как кураторы и критики формировали уникальный эмоциональный габитус для восприятия американского изобразительного искусства.
Третья посылка моего исследования касается ремесла историка искусств – если перефразировать заглавие знаменитой монографии Марка Блока[51]. Историю американского искусства в годы холодной войны следует изучать не просто как вербальный нарратив, создававшийся в западных университетах и музеях. В одной из своих главных работ, «Историях искусства» (Stories of Art), Джеймс Элкинс отмечает, что историю искусства можно осмыслять в разных формах – от привычных учебников до различных карт, схем, графиков и т. п.[52] Чтобы проследить, какие формы принимала история американского искусства в годы холодной войны, в книге я сосредоточусь на разнообразных медиа и жанрах, от сатирических фельетонов и карикатур до мультфильмов. Мы привыкли к определенным моделям истории искусства, в значительной степени опирающимся, по утверждению Элкинса, на западную традицию изучения предмета. Вторя призыву Элкинса к критическому осмыслению различных дискурсов об искусстве, в этой книге я уделяю внимание многообразию способов конструирования смыслов американского искусства.
Внимание к периферийному и маргинальному подводит меня к моей последней посылке. Итак, в-четвертых, я предлагаю, обращаясь к советскому и американскому дискурсу об искусстве США, соблюдать необходимую для критического взгляда дистанцию. В советской художественной критике и истории искусства, основательно пропитанных идеологией, долгое время видели только разновидность пропаганды. Характерна реакция Клемента Гринберга, отца американской арт-критики, на уже упомянутую статью Кеменова «Черты двух культур»[53]
