Россия под градусом: власть, народ и бутылка
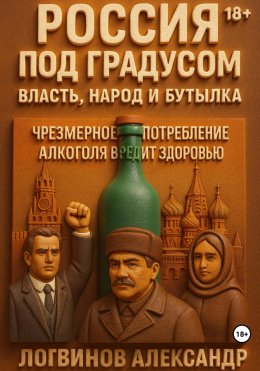
Введение. «Питие есть веселье Руси, не можем без того быти!» – эта легендарная фраза, приписываемая князю Владимиру Святому, определила судьбу алкоголя в российской истории. От средневековых пиршеств до современных вечеринок, алкоголь прочно вошёл в культурный код России – став и «врагом» нации по официальной риторике, и её непременным спутником в быту. Недаром Екатерине II приписывают циничное изречение: «Пьяным народом легче управлять» – намёк на то, что власти нередко смотрели сквозь пальцы на народное пьянство, если оно помогало держать подданных в повиновении. Эта книга – ироничное, но основанное на фактах путешествие через века алкогольной диалектики в России: постоянного противоречия между государством, пытающимся обуздать “зелёного змия” (но одновременно получающим от него доходы), и народом, для которого спиртное – то отдушина, то традиция, то тихий бунт. Мы проследим исторические этапы отношения к алкоголю в СССР и постсоветской России, рассмотрим государственные кампании против пьянства, социальную роль застолий и рюмки, экономику “пьяных денег”, региональные различия, влияние пития на культуру и современные трезвеннические тенденции. Все факты подтверждены серьёзными источниками, а изложение приправлено лёгким юмором, ведь как говорил герой одной шутки: «Водка – наш враг, но кто сказал, что русские боятся врагов?».
Глава 1. Исторический экскурс: от имперского кабака до советского застолья
Царская монополия и «пьяный бюджет». Алкоголь присутствует в русской истории с древних времён. В средневековой Руси пили в основном слабоалкогольные напитки – мёд, пиво, квас, разбавленное вино. Крепкие спиртные напитки появились в XV веке, а уже в XVI веке царь Иван Грозный, нуждаясь в средствах, учредил государственные кабаки с монополией на продажу водки. Это решение заложило двоякую традицию: с одной стороны, максимизировать доход казны от продажи «хмельного», с другой – пытаться контролировать народное пьянство. Например, в царских кабаках не продавали закуску («чтоб закуска не крала градус и копейку государеву») и не пускали женщин, дабы ничто не отвлекало мужчин от пития во имя пополнения бюджета. А для окончательно пропившихся предусматривалась “гунька кабацкая” – тряпка, в которую завертывал нагой тело тот, кто спустил на водку всю одежду. Символ крайнего падения – но и знак, что государство осознавало социальные издержки пьянства даже при стремлении наживы.
К XVIII веку питейные доходы стали краеугольным камнем российской казны. После реформ Петра I водочные акцизы давали около 50% доходов бюджета – гораздо больше, чем в других странах Европы того времени! На рубеже XIX–XX веков ситуация схожая: министр финансов С. Ю. Витте ввёл винную монополию (1894), и к 1913 году продажи казённой водки приносили 26% всех доходов российского бюджета. Эти “пьяные деньги” – существенная доля казны – позволяли государству финансировать армию и держать низкие цены на хлеб, но за это приходилось расплачиваться здоровьем нации и моральными издержками.
Сухой закон, революция и советская легализация. Первая мировая война принесла в Российскую империю резкий поворот: в 1914 году Николай II ввёл сухой закон, запретив продажу крепкого спиртного. Парадоксально, но одно из самых пьющих государств вдруг стало трезвым – и, как отмечают историки, не прошло и нескольких лет, как империя рухнула. Позднее исследователи заметили мистическую параллель: в 1985 году генсек Горбачёв тоже решился «закрутить крышку» и ограничил доступность главного народного напитка, и через шесть лет Советского Союза не стало. Хотя прямая причинно-следственная связь спорна, совпадение подчёркивает центральное место водки в российской жизни.
После Октябрьской революции большевики унаследовали от старого режима сухой закон. Новая власть декларировала борьбу с «буржуазным наследием» пьянства – в ноябре 1917 Петроградский реввоенсовет подтвердил запрет производства алкоголя. Ленин называл спиртное «злом, мешающим строительству социализма». Однако очень скоро идеология столкнулась с экономикой: молодая Советская республика остро нуждалась в деньгах. В 1925 году Совет Народных Комиссаров признал, что казна пустеет, и возобновил госпродажу водки. Нарком здравоохранения Н. Семашко оправдывал это тем, что государственная водка, мол, безопаснее самодельной (меньше сивушных масел) и вытеснит ядовитый самогон. Политический подтекст тоже был ясен: лучше уж люди пьют контролируемую водку и пополняют бюджет, чем травятся суррогатами вне контроля государства.
Так началась диалектика советского алкоголя: с одной стороны, декларировалась борьба за трезвость и новый, здоровый советский человек, с другой – государство само стало монопольным торговцем спиртным. К концу 1920-х алкоголь в СССР продавался открыто, а народ наверстывал упущенное за годы запрета. По воспоминаниям современников, 1920-е – начало 1930-х ознаменовались всплеском потребления: люди отвыкли, что можно легально выпить, и теперь с радостью пользовались возможностью. Недаром уже в 1928–1929 гг. советские власти затеяли первую кампанию против пьянства (о ней ниже) – но быстро отступили, увидев удар по доходам.
Рис.: Советские граждане празднуют отмену “сухого закона” в 1920-е годы – алкоголь вновь доступен, и радости нет предела. Государство ослабило узду трезвости, чтоб наполнить казну, а народ поспешил наверстать упущенное.
Пьянство под властью Сталина. В 1930-е – 1950-е отношение режима к алкоголю было двойственным. С одной стороны, пропаганда осуждала пьянство как недостойное строителя коммунизма, вводились меры против самогонщиков. С другой – в народе укоренился ритуал фронтовых 100 грамм во время Великой Отечественной войны. По приказу наркома Ворошилова бойцам Красной Армии с 1940 года полагалась суточная выдача водки (наркомовские сто грамм) для поднятия боевого духа, особенно в окопах и в лютый мороз. Этот “второй фронт” против стресса на войне дополнял официальную идеологию: спиртное стало частью воинской культуры. После Победы 1945 года алкоголь прочно вошёл и в образы народного празднования, и в горькую реальность миллионов фронтовиков, вернувшихся с привычкой выпивать, чтобы забыть ужас войны.
При Сталине серьезных антиалкогольных кампаний не проводилось – в послевоенные годы государство даже расширило производство спиртного. В 1940-х появился легендарный бренд водки «Москвa» (в народе “Столичная”). В бюджете доля “пьяных” поступлений росла; по некоторым данным, к 1970-м алкогольно-винные доходы составляли уже до трети всех поступлений от розничной торговли в СССР. Проблема пьянства при этом усугублялась: к 1980-м годам страна достигла рекордного уровня потребления за всю свою историю. Но, прежде чем перейти к “пиковому” кризису, взглянем, как власть пыталась с этим бороться.
Глава 2. Государство против бутылки: антиалкогольные кампании и политика
Государственная политика в отношении алкоголя всегда балансировала между стремлением улучшить здоровье населения и желанием пополнить казну. Отсюда цикличность: алкогольная диалектика власти – периодические антиалкогольные кампании сменялись откатами, когда планы по трезвости разбивались о финансовую реальность. Ниже – основные вехи этой борьбы.
Первые советские кампании (1918–1920-е). Большевики, как уже сказано, унаследовали сухой закон. В гражданскую войну и первые послевоенные годы спиртное считалось злом, рассуждали, что пьянство – порождение капитализма, которое исчезнет при социализме. Однако уже к концу 1920-х власть встревожилась масштабом пьянства. 1929 год: по всей стране закрывали пивные лавки и кабаки, вместо них открывали чайные и “трезвеннические столовые”. Выпускали журнал «Трезвость и культура», бичующий пьянство. Даже пиво объявили вне закона – его потребление резко упало, крупнейшие пивзаводы закрылись. Однако очень скоро правительство подсчитало убытки и передумало: уже в 1934 году производство пива возобновили, появились новые марки – казна не могла отказаться от доходов. Так первая кампания кончилась, толком не начавшись.
Компания 1958 года: полгода трезвости. В послесталинское десятилетие алкоголизация населения достигла такого размаха, что власти вновь забили тревогу. В 1958 году вышло Постановление Совмина «Об усилении борьбы с пьянством…», вводившее серьёзные ограничения: запретили продажу водки на вокзалах, в аэропортах, рядом с заводами, учебными и детскими учреждениями. Вводилось ограничение на места и время торговли: фактически убрали водку из повседневной шаговой доступности. Усилили наказания за самогоноварение. Более того, винодельческая промышленность получила разнарядку переключиться на выпуск слабых плодово-ягодных вин – народу вместо водки предложили дешёвое «чернило». Однако советские люди от такого обмена были не в восторге, а главное – бюджет вдруг похудел. Всего через 6 месяцев кампанию тихо свернули, признав, что это был слишком сильный удар по бюджету. Ограничения отменили, вернув статус-кво: государство предпочло стабильную выручку идеалам трезвости.
Эра «Пьянству – бой!» (1972). Следующая крупная акция началась при Брежневе. Постановление Совмина №361 от 16 мая 1972 года снова целилось в пьянство. Решили сократить выпуск крепких напитков, вместо них увеличить производство вина, пива и безалкогольных напитков. Цены на спиртное повысили; крепость водки урезали – перестали выпускать 50° и 56° сорта. Продажу любого алкоголя крепче 30° разрешили лишь с 11 утра до 19 вечера. В систему принудительного лечения ввели лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) – фактически трудовые лагеря для алкоголиков-рецидивистов. Даже кино и телевидение почистили: из фильмов вырезали сцены застолий и распития. По всей стране звучал лозунг кампании: «Пьянству – бой!» – коротко и ясно.
Эта кампания сопровождалась большой пропагандой. Интересно, что изменилась тональность культуры: если раньше в кино пьянство показывали лишь как порок сугубо отрицательных персонажей, то теперь появились сюжеты превращения запойных героев в трезвенников. Пример – фильм «Афоня» (1975), где главный герой-алкаш осознаёт пагубность своего образа жизни и пытается начать с чистого листа. Вышел киноальманах «Сто грамм для храбрости…» (1976) о вреде алкоголя. Даже знаменитый мультфильм «Ну, погоди!» 1970-х серий, как отмечали критики, завуалированно продвигал трезвость – Волк предстает в карикатурно нетрезвом виде, получая отпор от положительного Зайца. А бард, советский поэт – Владимир Высоцкий откликнулся на кампанию острыми песнями – «Милицейский протокол (Скажи, Серёга!)», «Ой, где был я вчера», «Скажи ещё спасибо, что живой», высмеивающими бытовое пьянство. То есть антиалкогольная риторика проникла даже в массовую культуру тех лет.
Каковы же итоги 1972 года? Увы, неутешительные. Производство водки поначалу снизилось, а потребление пошло вниз, но ненадолго. К началу 1980-х советские граждане пили больше, чем когда-либо: официально 10,5 литров чистого алкоголя на человека к 1984 году, а с учётом подпольного самогона – все 14 литров. Это эквивалентно 90–110 бутылкам водки в год на каждого взрослого мужчину (не считая малочисленных трезвенников). Алкоголизм стал настоящим социальным бедствием: по оценкам МВД, в начале 1980-х две трети убийств и тяжких преступлений совершались пьяными, а тысячи людей гибли на дорогах по вине нетрезвых водителей. Пьянство косило работоспособное население, снижало дисциплину труда. Генсек Ю. В. Андропов незадолго до смерти (1983 г.) писал Брежневу, что алкоголизм – одна из причин экономической стагнации и морального разложения общества.
“Сухой закон” Горбачёва (1985–1988). Весной 1985 года новый лидер СССР Михаил Горбачёв развернул самую радикальную в советской истории антиалкогольную кампанию – ту самую, что народ окрестил «горбачёвской перестройкой печени». 7 мая 1985 вышли постановления ЦК КПСС и Совмина «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма…», а 16 мая 1985 – Указ Президиума Верховного Совета о борьбе с пьянством, подкреплённый административными и уголовными санкциями. Началось беспрецедентное наступление на фронте производства и торговли спиртным:
Резкое сокращение производства: выпуск алкогольных напитков урезали почти вдвое за 1985–1987 гг. (с 199 млн декалитров абсолютного алкоголя до 93 млн). Закрывались винокурни, пивоварни, ликёро-водочные магазины – например, первый секретарь МГК Виктор Гришин гордо доложил, что в Москве ликвидировано множество алкомаркетов, “работа по отрезвлению завершена”.
Ограничение продаж: спиртное разрешили продавать лишь с 14:00 до 19:00 часов. Пропал с полок популярный дешёвый портвейн и водка «Андроповка» (стоившая 4 руб. 70 коп) – минимальная цена водки подскочила вдвое (с августа 1986 – 9 руб. 10 коп). На рабочих местах и в общественных местах пьянство стало тяжким проступком: за распитие на работе увольняли и исключали из партии, пьяных в парках и поездах задерживали милицией. Запрещены были банкеты по поводу защиты диссертаций, рекомендованы безалкогольные свадьбы, создавались целые “зоны трезвости” без продажи спиртного.
Принудительная воспитательная мера: профсоюзы, школа, здравоохранение, творческие союзы – все должны были включиться в воспитание трезвости. Всюду развесили лозунги «Трезвость – норма жизни», газеты печатали статьи академика Ф.Г. Углова о том, что пьянство чуждо русскому народу. Цензура чистила литературу и песни – вымарывали любые снисходительные упоминания об алкоголе. Например, рок-группе «Машина времени» пришлось переписать строки песни о пустой бутылке в купе на более нейтральные.
Можно сказать, что Горбачёв объявил водке войну на уничтожение. Впервые в истории советское государство сознательно пошло на гигантские потери бюджетных доходов (по разным оценкам, алкоголь давал до 15–30% поступлений в бюджет перед кампанией) ради великой цели оздоровления нации. И первые результаты были обнадёживающими:
Потребление алкоголя официально снизилось более чем в 2,5 раза за 1985–1987 годы. Реальное общее потребление тоже упало – самогон не смог полностью компенсировать падение легальной выпивки.
Продолжительность жизни подскочила. За 1986–1987 мужская ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,6 года, достигнув рекордных значений за всю историю России. Резко снизилась смертность (особенно от несчастных случаев и от отравлений алкоголем), возросла рождаемость – на полмиллиона дополнительных рождений в год! Графики статистики того периода показывают провал кривой смертности и всплеск рождаемости именно на годы кампании – демографы назвали это «горбачёвским эффектом».
Преступность и травматизм тоже пошли вниз. С уменьшением пьянства в 1986–87 фиксировали спад убийств, семейного насилия, хулиганства. Даже коэффициент общей преступности на 100 тыс. населения падал. Казалось бы – вот она, светлая сторона всеобщей трезвости.
Однако обратная сторона медали проявилась очень быстро. Кампания встретила массовое негодование населения – народ воспринимал её как абсурдную и лицемерную меру власти против “простого народа”. Возник анекдот: «Что такое перестройка? – Это когда вначале было слово, а теперь – сушняк». Для элиты и цеховых начальников алкоголь по-прежнему был доступен (номенклатура не отказывала себе в привычных застольях), а вот простым гражданам приходилось “доставать” по блату или стоять в адских очередях за бутылкой. Советская экономика тоже получила чувствительный удар:
Бюджетные потери: Ежегодный товарооборот алкоголя рухнул на 16 млрд руб. Уже в 1986 году доходы от пищепрома недосчитались 22 млрд руб. против плана. В 1985 ожидали получить 60 млрд руб. от продажи спиртного, а получили лишь 46 млрд – минус 14 миллиардов. В итоге союзный бюджет впервые за долгие годы стал дефицитным на те самые 14 млрд и оставался в минусе вплоть до распада Союза. По оценке советника Горбачёва Шахназарова, кампания стоила стране 100 млрд рублей недополученных средств. А премьер Н. Рыжков позже упоминал цифру 200 млрд потерь. Гигантская сумма для ослабленной экономики!
Расцвет теневого рынка: Люди не перестали хотеть выпить – они нашли обходные пути. Самогоноварение выросло взрывно: продажи сахара подскочили на 18% (вся эта сахарная масса ушла в самогонные аппараты). По оценкам, только за 1987 год население выгнало 140–150 млн декалитров самогона – почти догнав объём легальной водки в прежние годы! В 1987 полиция задержала 397 тысяч самогонщиков (против 30 тыс. до кампании). Нелегальный бизнес разбух, чёрные дельцы наживались на дефиците – как заметил генерал КГБ В. Ф. Грушко, страна получила «астрономический скачок теневых доходов, первоначальное накопление частного капитала, бурный рост коррупции» за счёт подпольного алкоголя.
Алкогольные суррогаты и отравления: От отчаяния люди стали пить что попало. Продажи клея БФ, одеколона, стеклоочистителей и даже дихлофоса выросли на десятки процентов – ведь их содержимое употребляли внутрь в поисках спирта. Появился дикий метод: оптом скупали зубную пасту, намазывали на хлеб, вымачивали – и ели хлеб, пропитанный спиртом из пасты. В 1987 году зарегистрировано более 44 тысяч случаев алкогольных отравлений, из них 11 тысяч смертельных – люди травились кустарным пойлом. Количество наркоманов тоже выросло вдвое (с 9 до 20 тысяч), поскольку кто-то переключался на доступные химические вещества.
Неудивительно, что к концу 1980-х кампания выдыхается. Массовое недовольство, назревающий экономический кризис 1987 года заставили советское руководство фактически свернуть антиалкогольную политику. Формально указы не сразу отменили (запрет утренней продажи действовал до 1990 г.), но с 1988 года пошёл откат: перестали пропагандировать трезвость, тихо-на-тихо увеличили поставки вина и водки в торговлю. К началу 1990-х потребление не только вернулось на прежний уровень, но даже превзошло его, а вслед за этим в 1992–94 гг. произошёл катастрофический рост смертности в России, особенно мужской. Как горько шутил народ: «Боролись-боролись – да спились». Сам Горбачёв спустя 20 лет признал: «Из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно». Тем не менее историки отмечают: кампания 1985–87 спасла около 1,3 миллиона жизней (мужчин и женщин, которые не умерли от алкоголя в те годы). Так что в краткосрочном плане она достигла цели, хотя и ценой экономических издержек. К слову, в опросе 2005 года 58% россиян ретроспективно позитивно оценили ту кампанию, правда только 15% считают, что она принесла реальные плоды.
1990-е: либерализация и вакханалия рынка. С распадом СССР жесткий госконтроль рухнул, и начались лихие 90-е – время свободной торговли алкоголем. Новая Россия стремилась к рыночной экономике, и спиртное хлынуло потоком: появились сотни частных производителей водки, полки наполнились заграничным виски, ромом, ликёрами. Реклама алкогольных брендов заполонила СМИ, футболки, неоновые вывески. Государственной монополии на алкоголь больше не существовало, акцизное регулирование хаотично менялось. Цены сначала резко выросли с освобождением цен в 1992, потом относительная доступность крепкого алкоголя оставалась высокой – бутылка водки стоила дешевле бутылки импортной колы. Потребление алкоголя в России на душу населения в 1990-е стало одним из самых высоких в мире. Исследования указывают, что в 1992–94 гг. уровень употребления взлетел, а вместе с ним – смертность от причин, связанных с алкоголем (отравления, болезни, травмы). В некоторых регионах более 50% всех смертей мужчин трудоспособного возраста были связаны с алкоголем. По оценке эпидемиологов, рост пьянства после 1987 привёл к лишним 3 миллионам смертей в России к началу 2000-х – страшная цена.
Отмена ограничений привела и к другим побочным эффектам. Контрафакт и суррогаты хлынули на рынок: поддельная водка, технический спирт, всевозможные лосьоны “двойного назначения”. Периодически страну сотрясали массовые отравления. Показателен случай: в 1990-е на прилавках открыто продавался дешёвый спиртовой лосьон “Боярышник” – его пили вместо водки, хоть и понимали риск. Такая практика дошла до трагедии уже в 2016 году в Иркутске: 78 человек погибли, отравившись концентратом “Боярышника” (метанолом). Это отголосок тех смутных 90-х, когда ради наживы нечистые на руку дельцы спаивали население буквально чем угодно.
