Шаровая молния
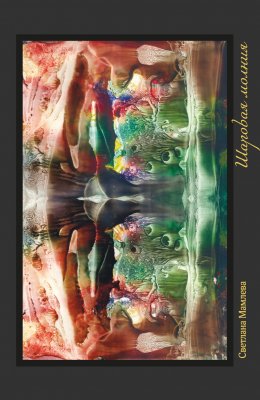
© Мамлева С.В., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
В оформлении книги использованы иллюстрации автора
Оформление обложки – В.В. Ярин
Добрые волшебники и маги
1960–1970 гг.
Кузнечики
Здесь на ресницах радуги роятся,
Здесь музыка кузнечиков звенит.
И кто из нас придумал целоваться
Под солнцем, устремившимся в зенит?
Горят, горчат – полынью, мёдом? – губы.
– Воды! – кричат кузнечики в траве
В тугую высь пылающему кругу
И прижимают лапки к голове.
А солнце опаляет наши плечи,
И каждую травинку плавит жар,
Ты, я иль этот маленький кузнечик
Получит первым солнечный удар?
Добрые волшебники и маги
Добрые волшебники и маги!
Осень. Никнет жёлтая трава,
Есть же на пергаментной бумаге
Колдовские тайные слова.
Подтвердят созвездия и ветер,
Что мы с вами – близкого родства.
Вы раскиньте золотые сети
Самого большого волшебства.
Пусть споют, пусть жарко вспыхнут двери,
Что обратно в прошлое ведут,
Пусть возникнет музыка Равеля,
Яблоки в заброшенном саду.
Добрые волшебники, скорее!
Что вам стоит – только захотеть.
Там – с горы бегущая аллея,
Над которой хочется взлететь.
В жёлтых одуванчиках газоны,
Солнце и грозы ушедшей след.
Поцелуй тот пахнет и озоном,
И колючим дымом сигарет.
Но печальны стали и туманны
Магов звёздно-синие плащи.
А на звёздах, словно на экранах,
Вспыхнуло: – Не жди и не ищи.
Мы сличали до глубокой ночи
Цифровой и знаковый расклад.
Нужная магическая точка
Напрочь лишена координат.
– Добрые волшебники и маги!
Вопреки и сумраку, и сну,
Пусть потусторонне вспыхнет магний,
Возвращая прошлую весну.
Там цыганка поднимает веки.
Жаром каждый зуб её горит.
– Маяться тебе по нём вовеки
Да страдать вовеки, – говорит.
– И вникай покрепче в говоренье:
Он тебя не вспомнит никогда.
Вкруг него забвения деревья,
И трава забвенья, и вода.
– Добрые волшебники, – не это!
Вы вращайте время, словно руль.
Вы верните нынешнее лето –
Август или, может быть, июль.
Примет время ваш творящий тигель.
Нет чудес. Возникнет лишь одно,
Писанное телеграфным стилем,
Сотни раз прочтённое письмо.
– Добрые волшебники и маги!
Если точен неба календарь,
Знаки на пергаментной бумаге
Пусть предскажут будущий февраль.
Стал велик весёлый рыжий свитер.
Только в этом нет его вины.
Навсегда оставлена, забыта –
Это видно даже со спины.
– Добрые волшебники и маги!
Знаю: вас и не было, и нет.
Вы лишь тёмный вымысел бумаги,
Мой печальный полуночный бред.
Острый отблеск на странице древней.
А цыганка та была права.
Вкруг него – забвения деревья,
И вода забвенья, и трава.
И дома забвения, и флаги.
Как прожить мне чёрный день и ночь?
Добрые волшебники и маги,
Вы мне не сумеете помочь.
Последний трамвай
Фонари – островами света.
И уходит последний трамвай.
Ах, как шепчут весенние ветки:
– Забывай, забывай, забывай.
Ветки тычутся мне в ладони
И лежат на моём плече.
И бормочут, и шепчут: – Помнишь?
А зачем? А зачем? А зачем?
Шепчут ветки садовой ограды,
Шепчут вместе и полночь, и май,
Что забывшего помнить не надо.
– Забывай, забывай, забывай.
Что они в бормотанье вплетают?
Отчего всё прозрачней печаль?
Словно сон, где тебя забываю.
Лишь на миг. Не навек. Невзначай.
Звёзды очень светлы и печальны.
И, почти прикасаясь, звенят.
Как во сне, что прозрачней кристалла,
Легче, чем расцветающий сад.
Пусть трамвай остановки листает.
Пусть, быть может, счастливый билет
Мой кондуктор кому-то подарит –
Мне и дела до этого нет.
Здесь звенит заклинаньем над садом,
Над аллеей, где полночь и май,
Что забывшего помнить не надо.
– Забывай, забывай, забывай.
Счастье, как солнце
Счастье, как солнце, обратно вернётся – по кругу.
Ветер, летавший на север, уже возвращается к югу.
Прежнее облако заново в небе утонет,
И одуванчик всё тот же окажется снова в ладонях.
И в облака все пушинки опять воспарят от щелчка,
Ввысь унося всё того же жучка-паучка.
Странное лето
И было звонким и весёлым лето,
Отбившееся начисто от рук.
В то лето я за чистую монету
Всё принимала сущее вокруг.
Без мыслей о Платоне и Сократе
Здесь над землёй несли меня легко
И на ветру трепещущее платье,
И бедность вечно сбитых каблуков.
Вдруг – странно: бабочка ночная, бражник,
На солнечной поверхности стекла,
Неправильность – как знак. Сейчас… мне скажут…
Иль я сама почти что поняла.
Деревья оплетали ловчей тенью,
Чтоб, заманив, опутав и согрев,
Открыть мне недоступные к прочтенью,
Но явленные знаки на коре.
И зеркала. Что в них скользило тенью?
То, что прошло? То, что сейчас? Иль впредь?
Какой-то слабый отблеск, дуновенье,
Скосила глаз. Да поздно: не успеть.
В них только мир реальный, вещный, плотный,
Захваченный поверхностью стекла,
И мне не виден путь за поворотом,
Мой путь, куда уводят зеркала.
Остался только чудящийся зуммер,
Какая власть над нами в них жила?
Не зря же в доме, там, где кто-то умер,
Завешивали тканью зеркала?
В автобусе, всегда набитом плотно,
Отсчитывая в булочной гроши,
Я уловить в себе пыталась что-то –
Подвижкой, напряжением души.
И мне нужна была такая малость:
Чтобы себя о чём-то известить.
О том во мне, что брезжилось – не зналось,
И не давалось вслух произнести.
И слишком близкой звёзд казалась россыпь,
Как будто я бывала там уже.
Мне было одиноко. И не просто
Всё время пребывать настороже.
И уходила я из зоны риска,
От бабочки средь солнца и стекла,
Хотя была от истины так близко,
Как никогда позднее не была.
Отвожу от лица ветки
Отвожу от лица ветки.
Иду напрямик, по ручьям.
На лице моём – солнца метки.
Я – нездешняя. Я – ничья.
Как во сне, проплывает улица, –
Расплываясь, звеня, рябя.
А ручьи всё сильнее жмурятся,
На осколки солнце дробя.
Мои руки становятся крыльями.
Припадает ветер к плечу…
Ну, ещё небольшое усилье,
Шаг, рывок – и я полечу.
И над вётлами, и над крышами.
И над синей тенью – крыльцом,
Чтоб ложились веснушками рыжими
Блики солнца мне на лицо.
Так легко – сквозь синее таянье.
Так легко – сквозь солнечный звон.
Это – что-то давнее, давнее.
Так похоже на сон.
Сны
В самой грустной из аудиторий
Нарисую короля – белым,
От несданного зачёта – горьким.
На доске крошащимся мелом.
– Мой любимый, – скажу, – король мой,
Летом жарко в этой короне.
Я – босая, в платье из ситца.
Мы корону – подарим птицам?
Или, хочешь, – быстрому ветру?
Иль весёлым кленовым веткам?
Разве счастье хранят пороги?
Облака подскажут дороги.
А судьбу нам предскажут птицы,
А живая вода струится.
Там, где были с небылью свиты,
Белой ниткою начерно сшиты.
Та вода всё знает, всё помнит
И с живым неживое ровнит.
– Будет так, – король мой ответит, –
Пусть корону получит ветер.
И, оставив заботы ветру,
Мы пойдём по белому свету,
Где тропинки, как судьбы, вьются.
Только стоит лишь оглянуться,
Посмотреть, как птицы взлетают, –
А король, словно сон, растает.
—–
– Мой разбойник, – скажу, – король мой!
Вот рубаха, что цвета крови.
Удалой мой, чернобородый!
В том лесу – ни дорог, ни брода.
Только твой разбойничий посвист,
Да дожди, да тоска под осень.
Золотые монеты, листья,
И погоня, и длинный выстрел.
А для тех, кто живёт без страха,
Есть награда – топор да плаха.
Сколько счастья – столько и горя,
Мой любимый, – скажу, – король мой.
Он растает, мне не ответив,
В сонном облаке, в лунном свете.
—–
– Светлый витязь, – скажу, – король мой!
Слышишь? – кони ржут за горою.
Там мечи впиваются в тело,
Там не птицы мечутся – стрелы.
Чёрный ветер тянется с юга.
Он наденет шлем и кольчугу.
– Ни бесчестья тебе, ни боли,
Мой любимый, – скажу, – король мой.
– Будет так, – он тихо ответит, –
Да не выдадут – конь и ветер.
—–
Конь и ветер к вечеру вместе
Принесут печальные вести.
– Конь мой! Справимся мы с бедою,
За живой поскачем водою.
Той, что всё и знает, и помнит,
И с живым неживое ровнит.
—–
– Мой любимый, – скажу, – король мой!
Я пришла с живою водою.
Ничего он мне не ответит.
Конь заржёт, да заплачет ветер.
Да кровавый закат допылает,
Ведь живой воды не бывает.
И разбойников нет на свете,
И корону не носит ветер.
И король нарисован мелом,
Потому он призрачно-белый.
—–
Ночь придёт. И всем, – но откуда? –
Вдруг на долю выпадет чудо.
Чтоб сквозь сонный вымысел плыло
Всё, что будет, и всё, что было.
Вот и я – лишь глаза прикрою:
– Мой любимый, – шепну, – король мой.
Тополиный пух
Разве для головокруженья мало солнца, лета и везде снующего, мельтешащего, осыпающего весь город – тополиного пуха?
Люди проходят, не замечая, что закружены падающей с деревьев, кружащейся – на миг зависающей в воздухе метелью.
Пуха столько, что почти не видно травы на газонах.
Вот навстречу идёт смуглый мальчик, с которым я недавно танцевала в студгородке. Я знаю: мы нравимся друг другу.
И неожиданно набираю полную горсть тополиного пуха и протягиваю ему. Он крепко обхватывает своей ладонью запястье моей руки. Наши руки – поднятые и соединённые – на фоне синего неба. И мы не знаем, что делать дальше. Я разжимаю ладонь, и нас словно чуть кружит светлое рассеивающееся облачко.
Растерянные, мы размыкаем руки и продолжаем свой путь в разные стороны. Спотыкаемся, оглядываемся, неуверенно улыбаемся друг другу.
Маленький глобус
Мальчику Васе, укравшему для меня этот глобус в кабинете истории на филфаке Мордовского университета
Чтоб дразнить меня пылью дорожной,
Глобус кружится – только лишь тронь,
Так на маленький мячик похожий,
Чтоб поставить его на ладонь.
Весь легко освещаемый солнцем,
Без мельканий то ночи, то дня,
Этот глобус на слабой ладони
Всё уносит, уносит меня –
От крыльца факультета, от лекций,
Где царит растянувшийся час,
И от жизни, с которой не спеться.
Никогда? Или только сейчас?
Я смотрю на кружащийся глобус
И лечу, с ним в движеньи совпав.
Вот дохнул своим холодом полюс,
Вот саванна, и грот, и жираф.
Глобус мал. Он чуть больше ладони,
Но плывут сквозь него, неясны,
Отрицаньем печали и горя
Все весёлые сказки и сны.
Вот и я – уходящей по странным
Перепутьям, где пыль или дым,
Вот увидела я океаны,
Словно с очень далёкой звезды.
Я стою, прислонившись к колонне
И извёсткою спину беля.
А от лёгких касаний ладони
По орбите несётся земля.
Студенческая осень
Как полёт вдоль пологого склона –
Ветер бьёт по лицу, по плечу.
Я стою на подножке вагона –
И лечу, и лечу, и лечу.
Всем звенящим взмывающим телом:
Сквозь мосты, через лес и овраг,
Мимо церкви, окрашенной мелом,
И куда-то бегущих собак.
И ракит вдоль канавы глубокой,
Еле слыша, как ноет плечо –
Столько собрано сахарной свёклы,
Что турнепс и картошка не в счёт.
А в вагоне девчонки из группы
Тоже что-то поют про полёт.
А округа уходит по кругу,
Вслед за мною верша поворот.
Ветер вмиг, без единой иголки,
Что-то сшив, шелестя и звеня,
Быстрым всплеском упругого шёлка
На лету одевает меня.
Стук колёс – от вагона к вагону,
Всё вперёд, или ввысь и вперёд.
Нас и эхо уже не догонит –
Отстаёт… Отстаёт… Отстаёт…
Не хочу быть ни ветром, ни эхом.
Ни любить, ни смеяться, ни петь.
Но хочу – до скончания века –
Всё лететь, и лететь, и лететь.
Чтоб вздымались леса и болота
За моим тёмно-синим плащом.
Чтобы жить ощущеньем полёта,
Чтобы ввысь, и ещё, и ещё.
Ева
Ночь. Дождь. Льдистые капли.
А в раю – тёплые яблоки. Ночь.
Там теплы – листва, плоды и корни.
А в раю бывает ли темно?
Дело – то, что станет самым чёрным,
Начерно задумано давно.
И оно свершится очень скоро
В безмятежной вечности саду,
Где змеиный взгляд, скользящий шорох
К яблоку ведут на поводу.
Вот оно уже: у рук. У горла.
– Ева, подожди!
На земле, на порыжелых взгорьях
Ледяные хлёсткие дожди.
Не смотри! Что в яблоке мерцает
Хрупкостью кристаллов – словно соль.
Ева, нет! Ведь ты ещё не знаешь,
Что такое боль.
Как согнутся, как поникнут плечи
Под тяжёлой ношей, словно серп.
Как бывает бесприютен вечер
И печален хлеб.
Как придётся, изгнанной из рая,
Ошибаясь: думать, плакать, сметь.
Что такое сын-убийца, Каин.
Что такое смерть.
Взгляд змеиный хитростен и опытен –
Перламутра мертвенного цвет.
Если б я могла – хотя бы шёпотом.
…Но меня ведь нет.
Я опять взлетаю
Я опять взлетаю, как в тумане,
Зная, что когда-нибудь меня,
Как ночную бабочку, обманет
Яркое свечение огня.
Бабочка, чьи крылья пламя гложет,
Падает в раскрытую ладонь.
Я порой лечу на свет и тоже
Крылья обжигаю об огонь.
Тот огонь благословлю, сгорая.
Он – скорей удача, чем беда.
Только б на земле была живая,
Лёгкая и чистая вода.
Чистая, без режущей осоки.
Только б хоть однажды привело
Опустить в холодные протоки
Ноющее тёмное крыло.
Весна в Саранске
Край света – за лесами да болотами,
В туманной дымке, неизвестно где,
А город весь пронизан солнца золотом
И, отражаясь, плавится в воде.
Бликуют и отсвечивают искрами
Здесь каждая сосулька и ручей,
И стёкла окон любопытных, пристальных,
И ниточка капели на плече.
Кто океаны видел лишь на глобусе?
На мостовых такая ширь и глыбь,
Что стали даже синие автобусы
Сородичами океанских рыб,
Осыпанных сверкающими искрами, –
Зелёный, золотой и алый крап.
И вся округа словно жарко искрится,
Когда автобус рушится в ухаб, –
Чтоб тут же вынырнуть у остановки.
В него шагнут, сминая облака,
Весёлый парень, рыжая девчонка
И женщина с ребёнком на руках, –
По лужам, словно радугой рисованным.
Забудут и на номер посмотреть.
Как будто им куда-то вдаль и в новое
По изменённым улицам лететь.
А мне? Да как же всё легко и просто,
И разве кто дорогу заказал –
Журнал какой-то не найти в киоске –
Не повод ли помчаться на вокзал?
Дома – как корабли перед отплытием,
Распахнутыми окнами светлы.
И радостным предчувствием открытия
Пронизаны и ветки, и стволы
Деревьев, что шалеют от бессонницы,
Забыв, что корни крепко держит твердь,
Простившихся с газоном и оконницей
И, кажется, намеренных взлететь.
Ну а в районе привокзальной площади
На всём такой таинственный покров.
Здесь блюдо с бутербродами засохшими
Явилось из неведомых миров.
И кофе остывающим облитые,
Стаканы издают дорожный звон.
Чуть мутные, как патиной покрытые –
Наверно, из неведомых времён.
Купить журнал. А ветки так качаются.
Почти не глядя, наспех пролистать.
Немыслимо, ну просто до отчаянья,
Смотреть, как убегают поезда.
И, чтоб от искушения избавиться,
Зажмуриться и к кассе подойти.
Купить билет, хотя бы самый маленький,
Как талисман, зажать его в горсти.
А поезда, зовя и не прощающе,
Прощаются. Они уже вдали.
И снова что-то без меня свершается –
Там, далеко, где самый край земли.
Тень перемен
Так легко, свивая быль и небыль,
Быть, пока ещё издалека,
В бесконечном, ввысь растущем небе,
Где-то растерявшем облака.
Слушать листьев дружественный шорох.
Ощущать, шагая налегке,
Холодок мороженого в горле
И лимонный вкус на языке.
Жизнь даёт мне, может, слишком много.
Слышать: как весной поёт вода.
Видеть: бесконечную дорогу,
Птичью чернь на певчих проводах.
Только что сулит судьбы всевластье
И вот-вот потребует взамен
На почти что достоверность счастья –
Тень почти настигших перемен?
Водяная лилия
Лилия средь озера – одна.
Тонкий стебель тянется со дна,
Вот она качнулась на волнах.
Облака над нею – словно башни,
Под тобой – такая глубина,
А тебе от этого не страшно?
Водоросли режуще упруги.
Обжигают холодом ключи.
Бродят в серебрящихся кольчугах
Рыбины. Хвосты их – как мечи.
Цепкие стрекозы подлетают.
Хочешь, я возьму тебя туда,
Где есть безопасная, другая,
Вазой окольцована, вода.
Подплыла – и чуть её коснулась,
Но она, досматривая сны,
От меня надменно оттолкнулась,
Вознесясь на гребешке волны.
Ей принадлежит всё это небо.
Солнце и деревьев ближний круг,
И туман, что в сказку или небыль
Превращает всё, что есть вокруг.
Здесь, как геральдические флаги,
На воде лежат её листы,
Ей не надо занимать отваги,
Силы стебелька и чистоты.
Дикий пляж
Йодистый запах моря.
Слепящая рябь воды.
Гальки прибрежной шорох,
И над жаровней – дым.
Да это и не жаровня.
Просто железа кусок
Лежит на камнях неровных
Немного наискосок.
Горча, полынь разгорается.
И пляшет горький огонь.
И мидии раскрываются,
И жадную жгут ладонь.
Мы – хищники. Мы глотаем
Солёные их тела.
И ракушки к солнцу взлетают,
Как два заострённых крыла.
Но вот они небо прошили –
Ножами вонзились в песок.
Я слышу – во мне закружился
Медлительной лавы поток.
По сетке сосудистой вьётся
Тягучий, палящий огонь.
Так что горячее – солнце
Или моя ладонь?
А марева знойный омут
Всплывает из-под ресниц.
И в позолоте тонут
Чёрные крылья птиц.
Взлетать позолоченным легче ль?
А солнце, как шмель над виском,
Гудит. И горячие плечи
Оплавлены жёлтым песком.
И волны о берег дробятся,
И не существует меня.
И можно ль ожить и подняться
В застывшем блаженстве огня?
Зажмурюсь: багряная темень
Оттенков пылающих пир.
А в море рождается пена,
Чтоб заново выстроить мир –
Прохладного, лёгкого цвета,
Что дышит, прибоем звеня.
И, может быть, именно это
Заставит подняться меня.
Как к чуть приоткрывшейся двери
Шагну по невнятным следам
Всё глубже и глубже, и веря,
Что это живая вода.
Что там – зеленее и тише,
Что в сумеречной глубине
Иная Вселенная дышит
На потаённом дне.
Новгородский кремль
Здесь щедрый тополь, склонясь,
Сыплет пух из горстей.
Согретая солнцем стена
Уютна, словно постель.
Устав от сотен дорог,
Ветер спит на стене.
Ползёт в облака вьюнок.
Крапива среди камней.
Лишь в паводок воду пьют
Сухие, в осыпи, рвы.
Репейник здесь зол и лют.
Крапива среди травы.
Когда-то здесь был пролом.
Тропинка бежит вперёд
От самых глухих углов
До самых больших ворот.
Петли ворот скрипят.
В солнце и в тишине
Красные бабочки спят
На крепостной стене.
И я прислонюсь к стене,
Хранящей крепче тепла
Поющие в ней и во мне
Призрачные колокола.
От самых древних времён,
Физике вопреки,
Плывёт колокольный звон
Сквозь пальцы моей руки.
То праздничный, красный звон,
То грозовой набат.
Но правда ли – слышен он?
Ведь даже бабочки спят.
Об осенних листьях
Они уже мёртвые – жёлтые листья, упавшие на асфальт? Или, оторвавшись от ветки, ощутив краткую свободу парения и полёта, они ещё чувствуют боль от тяжести подошвы, придавливающей их к тротуару?
Алёнушка
Бурелом. Ни звука, ни шороха.
Настороженная листва –
В ожиданьи чуда какого-то
И какого-то волшебства.
Не видать здесь ясного солнышка –
То ли сумерки, то ли рань.
Знаю, что за беда, Алёнушка,
Завела тебя в глухомань.
Листья падают на Алёнушку
И скользят вдоль тонкой руки,
Неживые и позолоченные,
Так похожие на медяки.
А вода прозрачною теменью
Манит, тянет, вводит в обман:
– У тебя нет ни роду, ни племени,
И пропащий твой братец Иван…
Здесь, в лесу, тропинки обманчивы.
Здесь тебя найти нелегко.
По иголкам, по колкой ржавчине,
Как и ты, я пройду босиком.
– Мы дождёмся ясного солнышка, –
Я скажу, как сказать должна.
Сяду рядом с тобой, Алёнушка.
Вот и ты уже не одна.
По счастливому сказка кончится.
Не пропащий твой братец Иван.
Вот – колючки чуть меньше колются.
Вот ушёл из леса туман.
Вот тропинка уходит в дальнее –
Нам по ней и надо туда.
Хочешь, я скажу тебе тайное?
Знаешь, где живая вода?
Раковина
Всех чужих океан, словно в сеть
Отловив, уничтожит и слижет.
Я снаружи такая, как все,
Потому что иначе не выжить.
Те, кто схож, выживают гурьбой.
Но под замкнутой створчатой крышей,
Изнутри, я останусь собой.
А иначе бессмысленно: выжить.
Пляж
Ах, сколько тот пляж перевидел,
И неба слепящего синь,
Мальчишек, добытчиков мидий,
И девочек, рвущих полынь.
Для моря добыча – не кража.
Бери и не бойся погонь.
У скал возле дикого пляжа
Горит горьковатый огонь.
Здесь чудища – маски и ласты.
Здесь носятся чайки, крича.
Я мальчику розовый пластырь
Кладу на порез у плеча.
Глаза его сумрачно-кари,
И смуглые плечи блестят.
Ведь можно влюбиться, но втайне,
Чтоб было, о ком помечтать.
Чтоб скрыть эти мысли, я хмурюсь.
И лучше, что времени нет:
У мальчика в северный Мурманск
На завтра обратный билет.
Здесь скалы. Мы в радужных брызгах.
Вдали на гитаре бренчат.
Здесь к ракушкам кисленький рислинг –
И полная воля дичать.
Смуглеть не на пляже – на скалах.
Забыть про часы, про обед.
Здесь юбка, что куплена алой,
Давно в бледно-розовый цвет.
Здесь волны Гомеровы льются,
Маня в бесконечность уплыть.
Вяжу я из раковин бусы,
И странной мне кажется нить.
Ей нет ни конца, ни начала.
Всё это неведомо где.
У древних скрипучих причалов,
В грядущего моря воде.
Как будто движением малым,
В котором сама не вольна,
Я вдруг вкруговую связала
Не ракушки, а времена.
И мир покружился и замер,
Меняя и цвет, и размер.
Как будто моими глазами
Вдруг глянул ослепший Гомер –
И всё возвратилось случайно
Едва ль не к началу начал.
А море, впитавшее тайны
Веков, чтоб их вечно качать,
Запутав событья и даты,
Свело их в слепящую сеть.
И можно ли будет когда-то,
Всё это распутав, прочесть?
В ней – я и из Мурманска мальчик.
Запретны нам взрослых грехи.
Мои очень робкие пальцы
Случайно коснулись руки –
И встречные пальцы ответом.
А море смывает следы,
Когда мы по камешкам светлым
Проходим вдоль кромки воды.
Пусть всё безвозвратно и дальне –
Один поцелуй над водой,
И раковин-бусин шуршанье,
И нас окропивший прибой.
И звёзды, что кружит и множит
Оркестра взнесённого медь,
И сердце, которое может
Покинуть меня и взлететь.
Тот пляж я припомню случайно,
Печаль моя будет легка,
И облачко – выдох печали –
Легко ускользнёт в облака.
Чтоб, став на мгновение прежней,
За ним в бесконечность уплыть,
Где всё наше прошлое держит
Незримая вечная нить.
Афродита
Она была для пены лёгкой ношей,
Такой же, как мерцание звезды.
Гусиные пупырышки на коже
И капельки мерцающей воды.
Возникли в миг рождения и дрожи,
Отрыва от пучины и миног,
И рыб со скользкой серебристой кожей,
И звёзд морских. А под ступнями ног
Хрустел песок и панцири от мидий.
Среди олив сушилась чья-то сеть.
Она узнала: есть глаза, чтоб видеть,
И волосы – окутывать и греть.
Каким ещё она владеет даром?
Ей подсказал возникшей крови жар:
У сердца нет последнего удара,
Лишь первый, запускающий удар.
И что в бессмертном и прекрасном теле –
Богиня и любви, и красоты.
Но, как Венере кисти Боттичелли,
К ней с облаков не падали цветы.
Богиня! Но ни тёмных и ни светлых
Нет знаков на руках и на груди.
Но всё же ей известно, что бессмертна –
И что такое вечность впереди.
Вдали стелился дым, сияли горы.
Там цвёл багрянник. В храме жгли огонь,
А где-то злое яблоко раздора
Готовилось упасть в её ладонь.
Оно ещё незримо в цвете яблонь,
Ещё невинный излучает свет,
Но, словно кровь, однажды станет алым,
И совпадут значение и цвет.
Как сладко на рассвете пахнут травы,
Но мир жесток в свой каждый миг и час,
Здесь и богиня может стать неправой,
Так что ей предназначено сейчас?
От кораблей, что могут сгинуть ночью
В Эгейском море, отвести беду,
И сделать невидимками для прочих
Влюблённых днём, в оливковом саду.
Как сладко той – и в горести, и в счастье
Ослабнуть вдруг у сильного плеча.
Но тонкие сомкнувшиеся пальцы
Преодолели краткую печаль.
Сейчас взойдёт и мир согреет солнце,
И с плеч исчезнут капельки воды.
Пора принять всё то, что ей даётся:
Власть, вечность и предчувствие беды.
Ах, тьма
Ах, тьма! Ты – разбойник отпетый,
Что держит завьюженный нож.
Будильник, не взвидевший света,
Вобьёт в меня звонкую дрожь.
И тут же попрячутся тапки.
Где свитер? Неведомо где.
Листы из оброненной папки,
Как планеры, реют везде.
А сон продолжает клубиться,
Он цвет набирает и вес.
Сквозь сон я подкрашу ресницы.
Но где разлетевшийся текст?
А кофе, конечно же, сдобрит,
Пока собираю листы,
Кипеньем могучим и злобным
Отмытую плоскость плиты.
А сон свои домыслы вяжет.
Он всё ещё реет в ночи.
Вот сумка. Но кто же мне скажет,
Куда подевались ключи?
Анатомический атлас
Мордовия, село Моревка, больница
Вот мы с сестрой склоняемся над книжкой.
И кошке не до бабочек и птиц.
Как тайные движенья тихой мышки,
Шуршания и шорохи страниц.
Проём окошка фикусами занят.
Ещё снаружи тополь застит свет.
Переводной картинкой сквозь пергамент
Просвечивают сердце и скелет –
В том атласе средь комнаты и лета,
Навеки сохранившем, как альбом,
Опасную улыбчивость скелета,
Ни бормашин не знавшего, ни пломб.
А дальше – вздрогнешь, вспомнив о гельминтах:
Идут ведь и сквозь наши животы
Кишечников витые лабиринты,
Где могут жить опасные глисты.
Вот на трёхцветной вклейке фолианта
Застыло – без биенья, в тишине –
Чьё сердце – в странных патрубах и пятнах?
Такое, как звучащее во мне?
К чему тут всё ведёт, как в страшной сказке?
Кто кольца для трахеи так связал?
Вот смотрят на меня из красной маски,
Из голых мышц, стеклянные глаза.
И все ресницы потеряло веко,
И без ногтей кровавая рука,
Вот так сдирали кожу с человека
Давно когда-то, в средние века.
А лишь вчера у речки в морге, или
Привиделся? Иль впрямь лежал во мгле?
Разрезанный, багровый, тёмно-синий
Утопленник на мраморном столе.
Пылинки солнца в щели ставен плыли,
И три лягушки прыгали у ног.
Хоть ставни заколоченными были
И в рыжей сыпи ржавчины замок.
Нет, не был там ни призрак, ни покойник,
Ведь облака над моргом так легки,
И так теплы корой, и так спокойны,
Небоязливы ивы у реки,
Где, между ивами и баней вклинясь,
Вдаль парусами чистыми плывёт
В морозной белой свежести от синьки
У прачечной больничное бельё.
Но мыслью к двери той весь день вчерашний
Была я как привязана за нить.
Так, как сейчас: и тягостно, и страшно,
И невозможно книгу отложить.
Лежит он, атлас, смерти соучастник,
На вышитой подушке в тишине,
Всё, что в нём есть, разъятое на части,
Под тонкой кожей собрано во мне.
Вот я дышу. И двигаются рёбра,
А там, во мне, царит глухая тьма и кровь течёт,
А в ней плывут микробы,
И что ещё – не ведаю сама.
Намуслив карандаш, чтоб ярче краска,
Сказав: «Моя страница, чур-чура», –
Отличнейшим альбомом для подкраски
Считает атлас младшая сестра.
Страницы шорох. Тихий шелест сада.
Во всё вплелась, чтоб всех осилить, смерть.
В далёкой бесконечности когда-то
Ведь даже мне придётся умереть?
И я решаю, как решали в древнем:
Нет, что-то в этом мире невпопад.
Вот – вечность: солнце, небо. И деревья?
Вот – атласа пугающий расклад.
Печалюсь и вплетаю в косу ленту,
Как это – умереть и не дышать?
Но я ещё не знаю, что бессмертна.
Ведь в атласе не значится душа.
Саранск. Парк
Мне иль парку осеннему почестью
Замирающий голос трубы?
Если мне, то тогда одиночество –
Это знак поворота судьбы:
Облегая подробнее пластыря
В уходящем уже сентябре.
Позволяя прощально и ласково
Прикоснуться к древесной коре.
Птичьих крыльев негромкие выстрелы
Здесь отчётливы, точно слова.
Здесь деревья прощаются с листьями,
Здесь легко засыпает трава.
Зря ли музыка время замедлила,
Как во сне, закружила листы,
Возводя их в полёт над аллеями,
В смену ракурсов и высоты.
Их полётом особенной сложности
Правит голос трубы в вышине,
Изменяющий мира возможности
И меняющий что-то во мне.
Если б стать мне незримою данностью
Уходящего в прошлое дня,
Лёгкой смутой печали и радости,
И поверить, что нету меня.
По законам небесной механики,
Что с земной никогда не связать,
Мне б оставили только дыхание
И незримые миру глаза.
Чтоб легко, по воздушным течениям,
Через золото, бронзу и медь,
Сквозь горенье листвы, сквозь свечение,
Исчезая, парить и лететь.
Но с собой унося это кружево,
Жар весёлых осенних убранств,
Весь любимый, судьбою не суженый,
Ускользающий город Саранск.
Словно скопище звёздочек радужных
И сверкнувшую золотом нить,
Осторожно в коробку укладывать,
Чтоб когда-то случайно открыть.
В электричке
В электричке холодно и тесно,
Ей судьбою приданный навек,
Как молитву, тянет свою песню
Пьяный и увечный человек.
Он поёт – и падают монеты.
– Ты меня обидеть не моги.
Я который год не вижу света
После Курской огненной дуги.
Я который год не вижу света
И путей-дорог давным-давно.
Падают холодные монеты,
Вот уже хватает на вино.
Над перроном… вороны… взлетают…
Близятся, чертя свои круги.
Снова – сорок третий… налипает…
Грязь… на фронтовые… сапоги…
Первая смерть
Тих и пуст Эдемский сад,
Помнящий беду.
Тень замкнутых райских врат,
Яблони в саду.
На земле же ночь – печать
Тлена и тепла.
Мирта чёрного печаль.
Ева умерла.
Весенний лёд
Как, вешнему солнцу послушна,
Зима здесь сдаёт рубежи!
И тот, что у старой конюшни,
Где груда навоза лежит.
И вот, из храненья изъятый,
Затем чтоб пропасть без следа,
Лежит на широкой лопате
Кусок затвердевшего льда.
Он жарко горит, он пылает,
Он стал бриллиантом всерьёз,
И пылко его обвивает
Своей позолотой навоз.
Кот Баюн
В лес, где леший на лапнике дремлет,
В лес, где филины гнёзда вьют,
В никому не доступные дебри
Проведи меня, кот Баюн.
Даже ветер здесь ходит верхом –
Пропадать ему не с руки:
В паутине, тяжёлой и цепкой,
Кровожадные пауки.
—–
Свой опасный, свой белый кров
Распушил здесь болиголов.
Аконит и лех ядовитый
С чемерицею перевиты.
Ядовитее ль, чем она,
Злая чёрная белена?
Лех готов поспорить стократ –
Чашу с ним и испил Сократ.
Всех пропащих, забытых дома
Усыпит, укачает дрёма.
Чтоб Яге иль Кащею в руки
Им попасть на смерть и на муки.
—–
Здесь дожди ядовитые хлещут,
Здесь случаются странные вещи.
Здесь тропинки всё вьются, вьются
И назад не дадут вернуться,
А болотом ведут по кругу –
Только что оно было лугом.
Если страшное неизбежно,
То не трусь! Мимо жутких лежбищ
Леших, змей, кикимор угрюмых
Ты иди – и о них не думай.
—–
Здесь ковёр-самолёт, из химчистки
Возвращаясь к Кащею чистым,
По пути вступил в перебранку
С мятой скатертью-самобранкой,
Утверждая на трассу право,
Полагая скатерть неправой.
Хоть дана ей Ягою воля
Брать из трав на лету всё злое.
Змей Горыныч стал третьим в споре,
Пяля крылья, зло тараторя.
А Яга, не впадая в ступор,
К ним летит, тормозя всей ступой.
И мгновенно её метла
Спор летающих гасит дотла.
А Яга вернётся в избушку,
К тёплой печке; в огромной кружке
В щах к обеду ей и Кащею
Человечье ли мясо преет?
Волчье лыко с полынью цитварной
Будет чаем им – не отравой.
—–
Вот – в обнимку Беда и Горе
Тянут песню про сине море.
Облысели у них затылки,
Самогон мутнеет в бутылке.
И обходит косматые ели,
Заблудившись, печка Емели.
Муравьи свои замки строят…
Мы с тобой, Баюн, одной крови.
Ты слагаешь песни и сказки,
Я ведь тоже – с твоей подсказкой.
—–
Проведи меня к ведьмину дому!
Почему мне здесь всё знакомо?
Может, здесь я бывала в детстве?
Домик ведьмы – моё наследство?
Через сколько же поколений
Накрывают нас прошлого тени,
И во мне колобродят предки?
Кто я: с чёрной иль белой меткой?
Эта мысль не даёт мне покоя,
Я не знаю, что я такое.
Вспомню трав названья, заклятья,
Сарафан на мне, а не платье.
Трав пучки. Мухоморов связка.
Рядом – пруд, где жёлтая ряска.
Не с живой он – с мёртвой водою.
Сразу видно – место худое.
Претворились русалок слёзы
В капли соли на листьях рогоза…
Но подарен мне, а не куплен
Тот в зенит уводящий купол.
—–
У костра, где рисует пламя,
Я училась владеть словами.
Заводя слова в лабиринты,
Но не в те, что Дедалом свиты,
А в свои, средь алых дендритов,
В голове от рожденья скрытых.
Чтобы, думая, путь искали,
Не болтаясь шальною стаей,
А, намаясь, нашли свой выход
Сквозь дыханье: то вдох, то выдох.
—–
Так вернуться мне к ведьмину дому
Иль к чему-то совсем иному?
Где пчела на ладонь садится,
Как ручная весёлая птица.
Где лишь к счастью бьётся посуда,
Где обычное дело – чудо.
Где крутые горки растают,
Сивку-Бурку не укатают.
Где ромашки счастье пророчат,
Где и в чаще глубокой ночью
Светлячки разноцветные служат
Огоньками заблудшим душам.
—–
Вот – опять я ныряю в сказку,
Что живой раскрашена краской –
Потому и живёт, не дремлет…
Мне пора из сказки – на землю.
—–
Та же мысль не даёт мне покоя:
Я не знаю, что я такое.
Ты же, кот, вероятно, будешь
Из мурлычущих добрых чудищ.
Этой ночью весёлой связкой
Промелькнут во мне пёстрые сказки.
Ты в ногах свернулся как вьюн.
Слушай сказки, спи, кот Баюн.
Облака
А облака лежат небрежным ворохом,
И словно бы забыли про полёт,
Как свежо, отхлёстанное воздухом
С верёвки только снятое бельё.
Попытка утешения пространством
1970–1990 гг.
Подаренный мир
Яблоко отъявшая от древа
На мою похожею рукой,
Где ты, прародительница Ева?
Видишь ли меня ты с облаков?
Это – я. Живая и родная.
Между нами – поколений нить.
Да, я знаю. Мне не видеть рая.
В прошлом невозможно изменить
Цепь поступков, что свершать не надо,
Средь идущих клином неудач.
Расскажи уж всё про муки ада,
Про зубовный скрежет и про плач.
Ведь течёт в моих печальных венах
Суть твоей и крови, и вины.
Потому и снятся мне, наверно,
Яблоки за толщею стены.
Свойств иных, и в недоступной близи.
Ведь с небес отринутые вниз,
Мы оделись в кожаные ризы
Вместо прежних светоносных риз.
И к твоим добавилась кромешность
Всех моих проступков и грехов,
Но расплата хоть и неизбежна,
Всё ещё, наверно, далеко.
Но когда б не первый грех великий,
Не было б Рождественской звезды
И тяжёлой, льдистой, в звёздных бликах
Январём дарованной воды
Мира, зачарованного тайной:
Чуть коснёшься – всё, она вдали,
Кораблей, ведомых в океане
В поисках приснившейся земли,
Тех дорог, что вновь приводят к дому –
Чудом, наугад или в объезд.
Шёпота таящихся влюблённых.
Слов: прозренье, истина и крест.
Колокольни с колоколом звонким.
Времени, и жатвы, и весны.
Воздуха, бегущего сквозь бронхи
Запахами липы и сосны.
Горя, и счастливого мгновенья.
И такого радостного дня
Для резной, колеблющейся тени.
И меня, конечно же, меня!
Болеро Равеля
Глаза прикрою, и почти поверю,
Что, как тогда, лицом к лицу с тобой.
И, как тогда, здесь музыка Равеля –
Тягучей, проницающей волной,
Плывущим, расширяющимся кругом,
Где я найти дыханье не могу,
Где первый вдох горяч, и сух, и труден,
Как будто у возникшей на бегу.
И, стоя за исчезнувшею дверью
У временем оплавленной стены,
Я верую – мы созданы Равелем
И в музыку навеки вплетены.
Мы вне её истока и причины.
Но мы вошли в её круговорот,
И с нами слитно-родственны песчинки,
Танцующие в ритме болеро.
А время тоже поймано кругами,
Но время знает странные ходы –
Сквозь путаные дворики Альгамбры,
Сквозь запах апельсина и воды,
Сквозь каждую частицу белой пыли,
Сквозь веер, вдох и поворот плеча.
Всё то, что было, и всё то, что будет,
Едино всё по времени: сейчас.
Как в этот миг вписались наудачу,
Где времена свои узоры вьют,
Все миражи твои, и все удачи,
И мной произнесённое – люблю.
Стук кастаньет – и только наша осень,
Стук кастаньет – и без тебя зима.
На краткий миг. Но нас уже разносит
И музыки, и времени волна.
Чтобы в сухом, палящем ритме танца,
Где нет ни слёз, ни мороси дождя,
Нам вдаль и врозь лететь через пространства,
Всё дальше друг от друга уходя.
Кругов летящих выверена точность,
И я твержу себе: «Не верь, не лги,
Что вновь сойдутся в болевую точку
И времени, и музыки круги».
Во сне
Ты – навсегда с другой, в том городе, где яблони в
чужом саду ещё помнят наш первый поцелуй. Где нас
и наши полночные шаги помнят старые деревья вдоль
улиц, даже если их уже нет – но они живы в нашей памяти.
Но сегодня ночью я приду в твой сон, где ты меня –
всю – любишь и помнишь, и легко поцелую тебя, чтобы попрощаться и уйти.
Это так легко, почти безбольно – поцеловать тебя и уйти.
Мария
Лёгкая – под тяжестью кувшина –
В нём едва колеблется вода –
Слыша плач проснувшегося сына,
Убыстряет шаг, как и всегда.
И, неся в душе обет и знанье –
Пальмовую ветвь и тот огонь, –
Пеленает, вдруг облив слезами
Крохотную пухлую ладонь.
Дом в Малаховке
Какой же дом без милых суеверий?
О чём кричат под окнами грачи,
Предупреждают тихим скрипом двери,
Таинственные шорохи в ночи?
О чём спешит сказать гуденье кранов,
И трещина, прошившая консоль,
И платье второпях и наизнанку,
Нечаянно рассыпанная соль?
Когда же с полдороги возвращеньем
Меняется вдруг заданный расклад,
Какие в зеркалах мелькают тени,
И чем пороги тёмные грозят?
Так с толстою соседкой схожий клубень
Картофеля, зевота днём – врасплох,
Во сне – не с кровью ль? – выпавшие зубы.
Внезапная икота или чох.
И что нам говорит о предстоящем
Настырность пенья чайника – к беде?
Рисунок гущи на кофейной чашке?
Усмешка отражения в воде?
Вот обувь разбрелась – стоит не к месту.
И стал неподдающимся орех.
И почему-то не подходит тесто,
Наверное, обидевшись на всех.
В час неурочный в сон кого-то клонит.
Перебежал дорогу чёрный кот.
И чешутся внезапно две ладони:
Так получать или – наоборот?
И пусть смирится острых ножниц дерзость:
Чтоб не пошли событья вкривь и вспять,
Здесь нужно каждый узел не разрезать,
А очень осторожно развязать.
В магазинной очереди
Очередь за мясом и капустой,
Сыром, колбасой и молоком.
Господи! Мне нынче очень грустно.
Небо бесконечно далеко.
Разве здесь – дорога к искупленью?
Так ли искупаются грехи –
В вечном, несмолкающем гуденьи
Вкруг меня, бормочущей стихи.
Я разиней, вечною растерей
В слитный гул вошла, как в облака,
В место вероятнейшей потери
Рифмы, и ключей, и кошелька.
Если б только не мешала думать
И с Тобою тихо говорить,
И в плечо бы не врезалась сумка,
А могла бы рядышком парить.
Нет же, вот – перекосила свитер,
И толпа взяла меня в тиски.
Высоко ль возносятся молитвы
Среди банок сайры и трески?
Цирк ночью
Разве смерть и веселье не дружат?
Купол цирка ушёл в облака.
Акробаты над городом кружат
И во сне, не срываясь пока.
Шире круг – и слабее страховка.
Через ночь, наобум, на авось,
Над пропахшей бензином парковкой.
А с кружением купола врозь,
Как на вытертой плёнке, заснежен,
Словно сон, что забыли стереть,
Гонщик шлёт мотоцикл по манежу.
Что он выберет: жизнь или смерть?
Там, одета в сверкающий плащик,
На пути у всего, что летит,
Спит мартышка – и всё-таки пляшет,
А мартышкино сердце болит.
И звенит легкомысленно скерцо,
Обещая – вблизи и вдали –
Сбой в биении каждого сердца,
А затем – во вращеньи земли.
Этой ночью под куполом серым
Всё былое свершается вновь.
И горит очертанием тела
На манеже из прошлого кровь.
И не только жонглёру лишь служит
Бесконечность весёлой игры,
Где, как в космосе, медленно кружат
Вкруг него золотые шары.
И его, – усыпив, обморочив, –
Кто гадает, не зная, что спит:
– Достоверен иль, может, не очень,
Тот повторный анализ на СПИД?
Но в бинокле волшебном под пылью
Перепутались «было» и «впредь».
А гадальные карты забыли,
От чего и кому умереть.
Верят в это, уснув под туманной,
Перештопанной в лоск мишурой,
Арлекин – невезучий карманник,
И Пьеро – завсегдатай пивной.
Дремлет лев под сверкающим шаром,
Перекинувшим в прошлое трап,
Где песок словно сахар Сахары
Для тяжёлых подушечек лап.
И бежит мимо львиной подошвы,
И усов, и хвоста, и десны
Что-то вроде невидимой прошвы,
Вдруг сближающей яви и сны.
Все границы с реальностью минув,
Что вершат в полуночной тиши
Сны – творцы незаконченных линий, –
Или слепки творящей души?
Сны в осколке бутылочном кружат.
В тех кристаллах, что попросту соль.
В зеркалах, что готова обрушить
Древоточцев держава – консоль.
Сны плывут с еле значимым креном,
Одиночеством цель изнулив.
Над растянутой болью ареной,
Над печальным вращеньем земли,
Над загадкой, над мукой, над казнью,
Над челом, излучающим свет,
Как частицы огромного пазла,
Только пазла, возможно, и нет.
Над домами, где крыш постоянство
Не защита от смерти и краж,
Уходя в мировые пространства
Претворёнными в хрономираж.
Цирк из снов сотворён, словно соты, –
Те, в которых не смех, а печаль.
Но в одном лишь горит для кого-то
Невидимка. Защита. Свеча.
Коты
Деревня декорацией была
К репейникам – густым, широкоплечим,
От огородов вниз сбегавшим к речке.
Туда, где жизнь бурлила – не текла.
А там гуляла вольница – коты.
Сводя знакомства, учиняя драки,
Охотясь, убегая от собаки,
Вылизывая шубки и хвосты.
—–
Там шла красотка – сжатая пружина.
Нацелясь на разиню-воробья,
Обманно – и брезгливо, и картинно,
Отряхивая с лапки муравья.
Там шёл чернейший маг и чернокнижник.
Он презирал, в иное восходя,
Шипящих, спины выгнувших детишек,
Отцовских чувств в себе не находя.
Вдыхал он ветер, движущийся с юга.
И, обойдя коровий тёплый блин,
Молчаньем призывал котов округи –
Владыка. Прирождённый властелин.
И вот тогда, не глядя друг на друга,
Пестря разнообразием одежд,
Коты садились произвольным кругом,
Почти воссоздавая Стоунхендж.
Не флибустьеры зарослей репейных,
Не хищники гнезда или норы,
Не мастера особых техник пенья –
В глазах их плыли дальние миры.
Он уводил их взгляды в синий купол,
Чтоб там в единой точке прорасти.
Но отступался. Кто бы мог те супер –
Сверх индивидуальности свести?
—–
А иногда коты текли утайкой,
Как тати, к дальней роще за рекой.
Но возвращались, снисходя к хозяйкам
За налитое в миски молоко.
—–
Котам был дан защитой в жизни бренной
Тот вертикальный, узкий, лунный, древний
Зрачок – пароль на связь со всей Вселенной,
Возвысив их до звёзд – от чердаков.
Ивы
Над речкой Кустаркой в деревне Моревка в Мордовии
Над рекой с золочёною ряской
Ивы лист серебром лишь богат,
Но не только в легендах и сказках
Защищает она от врага.
Но умеет листвой своей светлой
Укрывать от обид, от дождя.
И к тебе лишь протягивать ветки,
А не прочь от тебя уводя.
Путь к вершине не кажется кручей,
Но выводит из сумрака вверх,
Так как щедро разбросаны сучья
По её тепловатой коре.
И с листвой шелестящею слиты,
Как почти различимая речь,
Обещание тихой защиты
С тихой просьбой её уберечь.
Адам и Ева
Что – шалаш перед песчаной бурей
Против смерчевого виража?
Вся защита – лишь тростник да шкуры.
Он стоит, колеблясь и дрожа.
Но под вой песчаной бури мрачной
Равноценно сладостны душе
И тоска по раю, что утрачен,
И любовь, и дети в шалаше.
Ева и Мария
Здесь трава во сне от зноя глохнет.
Воздух сух, а пыль бела, как мел.
Здесь гремели голоса пророков.
Здесь ли голос Евы отзвенел?
Этого не знают даже камни
Возле виноградников и троп:
Что на месте тех, что были в давнем.
Прежние, рыча, унёс потоп.
Но в саду, где ветка уронила
Золочёной каплей мирабель,
Кто, незримый, маленькой Марии
Колыхнул с надеждой колыбель?
Комары
Он сегодня ночью жаждет лакомств –
Крови спящих, алой, как вино.
Комары, посланцы вурдалака,
Осыпают каждое окно.
Тот, кто жаром крови обозначен,
Мог с окном распахнутым уснуть.
Комары ликуют, а не плачут,
Комары указывают путь.
Скоро, обойдя опасный угол,
Где чеснок навешан на плетень,
И клыки, и жаждущие губы
Выпялит сгустившаяся тень.
Сгинь! И сгинет. Комары же крови
Жаждут шибче, тонко ноют: – П-и-ить.
Не дают уснуть, язвят и колют,
Обсыпают – бить не перебить.
Ой! И – хлоп. И – хлоп. Скорей бы осень –
Тут уж вы получите своё,
Кровопийцы злые, кровососы,
Вурдалачье племя, комарьё.
Паук
Почти по Брэму
Отдалённый потомок Арахны,
Он, шныряя в рассветной росе
И ещё не предчувствуя краха,
Создавал свою ловчую сеть.
Меж татарником и чертополохом –
Попытайся-ка их различить –
Для начала строительных хлопот
Перекинул он первую нить.
Закрепил. Огляделся пристрастно.
И ещё одну вниз поволок.
Сколько подвигов было и странствий,
Чтоб такой отыскать уголок.
Шёл сюда он по травам, по росам,
И сверяли со звёздами путь
Восемь глаз в произвольном разбросе
И упрямая головогрудь.
Для своей паутины парящей
Выбрал место он в том уголке,
Что от прыткой калитки подальше
И от звонкой тропинки к реке.
Чтоб всё краткое лето Господне
Здесь, вкруг сети, мерцал и парил,
Исчисляясь в мильонах на сотни,
Перламутровый бал мошкары.
Снова – вверх. Огляделся, довольный.
Хорошо, что остались вдали
Трассы с пасек к гречишному полю,
Клеверам и соцветиям лип.
Избежал он путей к медоносам,
Чтоб тенета, опасно крылья,
Миновали бы наглые осы
И таранная лихость шмеля.
То ныряя в глубь листьев колючих,
То взмывая меж них в небосвод,
Создавал он из ниток тягучих
Круг – основу для мощных тенёт.
Нить за нитью ведя постепенно,
По диаметрам нёсся бегом
И творил: создавая систему
Концентрических белых кругов.
В центре – шёлковых, нежных и тонких.
Дальше – липкая вязь узелков,
Чтоб враги и добыча тенётов
На неё налипали легко.
План рисунка нигде не прошляпив,
Ни один узелок не забыв,
Все диаметры ловкою лапой
Он сводил, словно нити судьбы.
Сеть всё больше светилась. Ваялась,
Шла по кругу, как стрелки часов.
И сквозь время текло, не вращаясь,
Никуда не катясь, колесо.
Но внезапно откуда-то, с маху,
Сквозь нахлынувшей вечности гул,
Вдруг запретный рисунок Арахны
Замелькал в его тёмном мозгу.
Как невольник, творил он узоры
И тянул по наитию нить,
Возрождая рисунок, который
Только он лишь и мог повторить
Чередой бесконечных касаний.
И рисунок почти что возник,
Открывая пред смертными тайны
Олимпийцев любви и интриг.
Но откуда-то взявшийся ветер
Паутину раздул и напряг.
Он, почуяв опасность для сети,
Поступил, как заправский моряк,
Вдруг застигнутый бурей средь странствий,
С этой сетью творя чудеса:
То менял направленье в пространстве,
То спускал её, как паруса.
Напрягал свою круглую спину,
Тормозил всею силою ног.
Но липучая часть паутины
Сбила сеть в бесполезный комок.
И, кляня этот шквалистый ветер,
Он скукожился, грустен и сер.
Всё погибло! И ловчие сети,
И в разгаре творенья шедевр.
Утро на кухне
И порезать прохладную мяту,
И чеснок поскорей потолочь.
Мать стоит над распластанным скатом:
– Будь же чуть попроворнее, дочь.
Вдохновившись огня полыханьем,
Очагом управляет Гефест.
А котлы отражают мельканье –
То ладони, то ступку, то пест.
– Где тут было топлёное сало?
Да очнись же и носом не клюй.
А она этой ночью узнала,
Что творит – лишь один – поцелуй.
– Где оливки? Неси их скорее.
Дай сюда базилик и чабрец.
Шевелись же: вот-вот из Пирея
Возвратятся твой брат и отец.
– Эта печень как будто подтухла?
Кинь собакам, подальше, в траву.
…Тают стены родительской кухни
Средь блаженного сна наяву.
Козий сыр так пронзительно порист…
Он сказал ей в той жизни, вчера:
– Хоть опасно с богинями спорить
Красотой, но она бы смогла.
– Наколи для баранины соли, –
Мать кричит. – Да очнись, наконец.
Для лентяйки такой и засони
Жениха не отыщет отец.
Кто засони? Но машут хвостами
Красноглазые рыбины вновь.
А она этой ночью узнала,
Как вдвоём совершают любовь.
Под хитоном, горячим и грубым,
Сердце бьётся звончей и звончей:
Пересохшие вспомнили губы
Тот стремительный шрам на плече.
– Дочь, ты слышишь? Неси-ка лимоны
Да вино не забудь перелить.
…Он средь скал, что над морем бездонным,
Ждёт. Чтоб вместе. Исчезнуть. Уплыть.
Он – под небом, высоким и синим.
Там, где вольная чайка летит.
Воздух горек понтийской полынью.
А она всё не может уйти.
Тесто сбито и ровно, и плотно.
И, наверно, наверно, пора
К белым скалам, где спрятана лодка,
И они… А теперь уж – вчера…
Даже моря не видно в окошко.
Солнцем съедены пристань и мол.
Так легко разбивается плошка,
Ударяясь о каменный пол.
От огня очага всё багрово.
Всплеск воды – как прощающий всхлип.
А ладони алеют от крови
Потрошённых для завтрака рыб.
Неужели вот-вот ей придётся –
Руки всё ещё в рыбьей крови –
Без хитона, под яростным солнцем,
Обмирать и сгорать от любви?
Блинная в Сокольниках
Сокольники. И молнии, и ветер,
Египетская тьма ревёт, как зверь.
Меня грозой прибило к двери блинной,
Чья вывеска огромнее, чем дверь.
Вся дверь была в каких-то тёмных пятнах,
Наверно, не от этого дождя.
– Откроется? Иль, может быть, заклята? –
Я, кажется, подумала, входя.
Вошла. В котле, искрясь, кипело зелье.
Две бабищи огромной ширины,
Две ведьмы в совершенном исступленьи
Со злобой молча жарили блины.
Тут лампочка горела в треть накала.
Стучал и бился кто-то за стеной.
И было всё так жутко и так странно,
И каждый блин во тьме сиял луной.
Одна из ведьм, меня надрезав глазом,
Схватила чайник красною рукой –
Да мне в стакан. И было видно сразу,
Что этот чай – смертельный, колдовской.
Что в том котле? Разрыв-трава иль мята?
Дождь хлещет. Тьма – хоть нет ещё пяти.
И ноги стали словно бы из ваты.
И мне теперь, конечно, не уйти.
Здесь воздух как-то сразу: пухл и плотен.
И так тяжёл, что не поднять руки.
А сердце так молотит, так молотит,
Что скоро разбегутся позвонки.
Не зря же так пыхтит и стонет тесто.
Я – в путанице сгинувших веков?
Я – в изменённом времени и месте?
Попалась, словно муха в молоко.
Хоть кто-нибудь. Бывали здесь когда-то,
Наверное, хоть тати иль шиши.
Но всех заколдовали. Всё заклято.
И нет во всей округе ни души.
Но кто стучит и, может, смотрит в щели
И, кажется, простуженно сопит?
Такой, как я, пропащий, иль Кащея,
Чтоб зря не шлялся, держат на цепи?
Тут нет границ меж истинным и ложным.
Отсюда перекрыты все пути.
Здесь всё не так. И, значит, невозможно
Самой спастись. Или – кого? – спасти.
Вдруг лампочка совсем почти пожухла.
Сковороде гремучей вторит гром.
Из дальней двери прямиком на кухню
Вошёл мужик. Синюшный. С топором!
Ой! Может быть, всё это снится ночью?
Как занесло меня в такую мглу?
Мужик сказал: – Подсыпьте-ка блиночков.
Наладил вам я полочки в углу.
– Вишь, у стакана пересохло донце.
Смелей – не перельётся через край.
И всё вернулось – выглянуло солнце,
И зазвенел отмывшийся трамвай.
А время, что казалось рыбой снулой,
Творя ошибки, ринулось: спешить.
И средь кустов в Сокольниках очнулись
Забытые им тати и шиши.
Шаровая молния
С утра собиралась гроза.
На зеркале было заклятье:
В нём стали чужими – глаза,
Нелепым и горестным – платье.
Во рту, словно два леденца
Из хины, навеки отлитых,
Катались, горча без конца:
– Я брошена! Я позабыта!
Лицо изменяли, как флюс,
К губам прилипали несластью.
Чтоб горький и горестный вкус
Сильней соответствовал платью.
—–
Болтаясь меж штор, сквозняки
Гадали: сдержусь иль заплачу.
А зеркало отблеск реки,
Меня и соседскую дачу
Включало в скользящую гладь
Всей лиственно-солнечной дрожью,
Но если б могла я сбежать
Куда-то из собственной кожи!
Ведь только представить: ты – здесь,
С другой, у меня за плечами.
И зеркалу не перенесть
Напор, или натиск, печали.
И рамы тяжёлый обрез
Осядет вдруг, стёклами щёлкнув,
Чтоб ты в Зазеркалье исчез
Средь тысячи брызг и осколков.
Под осыпи шорох и звон
Из этого мира бы сгинул
В тугом завихреньи времён,
Пространств и крутящихся линий.
За множеством странных земель,
На веки веков, безвозвратно.
Она пусть рыдает теперь,
А ты не вернёшься обратно.
Но зеркала глубь холодна,
Незыблимы плоскость и грани,
Там – я, совершенно одна,
Средь тёплых туманов дыханья.
—–
А пригород жил, как всегда –
Небрежно растянутым часом.
Окрестный народ осаждал
Цистерны с пузыристым квасом,
Округа сомлела в жару.
А дом был с ней крепко повязан.
Хоть льдисто сверкал на полу
Осколок разбившейся вазы.
Вразброс – и ещё, и другой,
Цветы, обречённые тленью,
И я – с опустевшей рукой,
В попытке возврата мгновенья,
Средь сотен осколков и брызг.
Как символ сплошного несчастья.
Пусть всё разбивается вдрызг,
Сейчас же, на мелкие части.
На мне – словно чумная сыпь,
Что рядом со мной быть рискует?
Вот – умерли, стали часы.
Чтоб прочь от меня, в мастерскую.
Вчера лишь – потеря ключей.
Сегодня – из рук, да и об пол.
Ко мне – до таких мелочей! –
Все беды несутся галопом.
И – пусть. И – вперёд. И – не жаль.
Но в мире меж тьмою и светом
Есть что-нибудь? Свиток. Скрижаль.
С начертанным. Даже об этом?
—–
Но пригород жил, как всегда.
От зноя попрятались кошки.
В ларьках раскупалась вода.
На рынке же – лук для окрошки.
Хоть пригород таял, как воск,
Но жил себе, в силу привычки.
Открылся газетный киоск.
Прошла, грохоча, электричка.
А я, собирая фасоль
Стручковую в белую миску,
Всё сыпала, сыпала соль
На рану, к чернейшему списку,
В ничтожнейший перечень бед
Добавив сгоревшие гренки,
В метро позабытый пакет
Со свитером, струп на коленке.
Себе я казалась смешной
И знала, чего это стоит.
Но, боль обходя стороной,
Блуждала околицей боли.
Стручки находя меж листов,
Что никли, желтели и тлели,
Хотела – не знаю, за что, –
Но пусть бы меня пожалели:
И ты бы внезапно возник.
Иль выпало мне хоть бы это:
Губами коснуться на миг
Потухшей твоей сигареты,
Где вкус твоих губ и тепло.
Так больно – стать третьей и лишней.
А время меж пальцев текло
Легко, навсегда и неслышно.
Зачем родилась я иной –
Иной, не умеющей звякать
Оружьем, что Евой дано –
Лукавить, молить или плакать.
Кто создал, на милости скуп,
Моей немоты неизбежность?
Не знает пути к языку
В гортани замкнутая нежность.
—–
Был день, но темнело. К беде,
Вдогонку, в добавку и в прибыль.
Река стекленела. В воде
Застыли осока и рыбы.
Дождь чуть шелестел через сад,
Как тонкого веера шорох.
Но тучи – их первых отряд –
Несли для сражения порох.
И словно старинная рать
Сбираясь – и кучно, и грозно.
И не собираясь менять
Намерений самых серьёзных.
Но кто-то, как юркая тень,
Проверил готовность к осаде.
Вот хлопнула форточка. Дверь.
И трещиной стёкла в мансарде
Пометились после хлопка
И злого щелчка шпингалета.
А белая сеть гамака
Казалась начертанной светом.
Но светом, слепящим всерьёз,
Округу подняв и наполнив,
Свиваясь, и разом, внахлёст
Ударили несколько молний.
И грохот расплющил, как пресс,
Меня возле грядки с фасолью,
Бледнее, чем обморок, лес,
Весь струсивший дачный посёлок.
—–
А в грохоте слышался смех,
Как будто – но кто? – обнаружил,
Что я не такая, как все,
Что странность заметна снаружи.
И туч разодравшийся мех,
И молний сиганье и сшибка,
Твердили, что вся я – из тех,
Чьё имя – Сплошная ошибка,
Неправильность, Замкнутый круг.
Но с каждой растущей минутой
Всё быстро менялось вокруг –
Зачем, отчего, почему-то.
Листвою штормило в саду
Под белыми вспышками света.
И облик свой вмиг, на лету,
Смещаясь, меняли предметы.
Что – выбрав округу как цель,
Возникшее в глуби Вселенной,
Сюда приближалось теперь
Стремительно и закономерно?
Шли тучи, черней, чем мазут.
Бедой иль виною, невольно,
Не я ль притянула грозу –
И, может быть, тысячи молний.
Весь тот нисходящий поток
От центра древнейших мистерий.
А я так слаба – как листок,
Прибившийся к замкнутой двери.
—–
И тоже, как сорванный лист,
