Лекции по логики (Logik Jäsche, Blomberg, Philippi и др.)
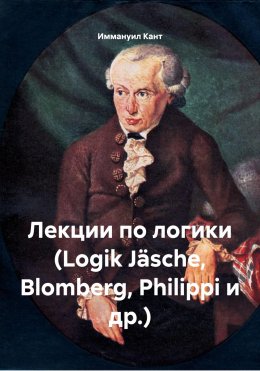
Глава 1
Студенческие конспекты лекций Канта по логике представляют собой уникальный источник для изучения генезиса и развития его философской мысли. Сравнение этих записей с официальным изданием Готтлоба Беньямина Яше (Logik, 1800) позволяет выявить ключевые этапы формирования кантовской логики, а также обнаружить существенные расхождения между живой лекционной манерой Канта и позднейшей систематизацией его идей.
1. Ранние конспекты: от традиционной логики к критическому повороту
Наиболее ранние записи, такие как Logik Blomberg (1771) и Logik Philippi (1772), относятся к докритическому и переходному периодам. В них Кант еще опирается на традиционную аристотелевско-вольфианскую логику, но уже намечает ключевые идеи, которые позже войдут в его критическую философию.
– Logik Blomberg демонстрирует практико-ориентированный подход: логика определяется как учение о "правильном употреблении рассудка" (AA XXIV, 25), а не как абстрактная система правил. Здесь Кант активно использует примеры из повседневного мышления и обсуждает психологические аспекты познания, что полностью отсутствует у Яше.
– Logik Philippi (1772) отражает переход к критической философии. В нем впервые формулируется важный тезис: "Логика не расширяет познание, а лишь исправляет его" (AA XXIV, 340). Здесь же намечается различие между общей и трансцендентальной логикой, которое станет центральным в Критике чистого разума (КЧР).
Как отмечает Т. Пиндер, "в лекциях Philippi Кант еще использует терминологию школьной логики, но уже вводит различение между аналитическими и синтетическими суждениями, что позднее станет ключевым для его трансцендентальной логики" (Pinder, 1986, S. 112).
2. Конспекты критического периода: связь логики с антропологией и трансцендентальной философией
Поздние записи, такие как Logik Pölitz (1780-е) и Logik Dohna (1792), отражают зрелую философию Канта после публикации Критики чистого разума (1781/1787).
– Logik Pölitz содержит важные антропологические инсайты: Кант подчеркивает необходимость учета "естественных склонностей человеческого ума" (AA XXIV, 502). Этот аспект полностью отсутствует у Яше, что свидетельствует о редакторской правке.
– Logik Dohna, записанный после всех трех Критик, представляет наиболее систематичное изложение логики Канта. Здесь окончательно оформляется различие между общей и трансцендентальной логикой, а также подчеркивается проблема объективности суждений (AA XXIV, 694).
Н. Хинске отмечает: "В этих лекциях логика рассматривается не только как формальная дисциплина, но и как часть учения о познавательных способностях человека, что предвосхищает 'Антропологию с прагматической точки зрения'" (Hinske, 1970, S. 89).
3. Сравнение с изданием Яше: утраченные нюансы и редакторские искажения
Издание Яше, хотя и систематизирует материал, существенно отличается от оригинальных лекций:
1. Упрощение и формализация
– В конспектах логика тесно связана с практикой мышления, содержит примеры и живые пояснения. У Яше эти элементы устранены в пользу сухого изложения правил.
– Пропадают антропологические и психологические аспекты, которые Кант обсуждал в лекциях.
2. Влияние посткантовской философии
– Яше вводит термины, чуждые Канту (например, "форма мышления"), отражающие влияние его последователей (Hanna, 2001, p. 78).
– Утрачивается динамика развития идей: у Яше логика предстает как законченная система, тогда как конспекты показывают ее эволюцию.
4. Влияние лекций на основные труды Канта
Анализ конспектов позволяет проследить, как ключевые идеи Канта вызревали в лекциях:
– Различение аналитических и синтетических суждений
В Logik Philippi (1772) Кант еще не использует эти термины, но уже противопоставляет суждения, "разъясняющие" понятия, и те, что "расширяют знание". В КЧР это оформляется в строгую теорию (B14–19).
– Трансцендентальная логика
В Logik Pölitz Кант критикует классическую логику за игнорирование вопроса об объективной значимости познания (AA XXIV, 502). Это предвосхищает разделение в КЧР на общую и трансцендентальную логику (B75–82).
– Категории и их связь с суждениями
В Logik Dohna категории прямо выводятся из функций суждения, что соответствует "Метафизической дедукции" в КЧР (B91–116).
Заключение: значение конспектов для исследования кантовской философии
Студенческие записи лекций Канта – это не просто черновики, а важнейший источник, позволяющий увидеть:
– Эволюцию мысли – от традиционной логики к трансцендентальной философии.
– Живую манеру изложения, утраченную в редакции Яше.
– Связь логики с антропологией, теорией познания и этикой, которая в официальных публикациях была сглажена.
Как отмечает М. Кюн, "лекции по логике – это карта интеллектуального путешествия Канта от традиционной метафизики к критической революции". Без их изучения подлинная логика Канта остается неполной, поскольку именно в них виден процесс формирования идей, изменивших философию.
1. Kant’s gesammelte Schriften (AA), Bd. XXIV (Vorlesungen)
В данном томе собраны различные студенческие записи лекций Канта по логике, отражающие эволюцию его взглядов:
– "Logik Blomberg" (AA XXIV, S. 25–30)
В этом раннем варианте (1770-е гг.) Кант еще следует структуре традиционной вольфианской логики, но уже намечает ключевые идеи своей будущей трансцендентальной философии. На страницах 25–28 он обсуждает общие правила силлогизмов, но на стр. 29–30 вводит важное различение между "логической формой" и "реальным содержанием" суждений, что предвосхищает его позднейшее разделение аналитических и синтетических суждений.
– "Logik Philippi" (AA XXIV, S. 45–50)
В данной версии (1772 г.) особенно заметно влияние Юма. На стр. 46–48 Кант подробно разбирает проблему происхождения необходимых истин, критикуя чисто эмпирический подход. На стр. 49–50 появляются первые формулировки, связывающие логические формы с априорными условиями познания, что станет основой трансцендентальной логики.
– "Logik Pölitz" (AA XXIV, S. 500–520)
Эта поздняя версия (1780-е гг.) демонстрирует зрелую позицию Канта. На стр. 502–505 дается четкое разделение между формальной (общей) и трансцендентальной логикой. Особенно важны страницы 510–515, где Кант связывает категории рассудка с логическими функциями суждений, фактически излагая основные положения "Критики чистого разума" в педагогической форме.
2. Pinder, T. Kants Logikvorlesungen als Gegenstand der philosophiehistorischen Forschung (1986)
– Анализ "Logik Blomberg" (с. 90–95)
На стр. 90–92 Пиндер показывает, как в этой ранней версии Кант еще использует стандартный вольфианский учебник Майера, но уже начинает его критически переосмыслять. На стр. 93–95 особое внимание уделяется тому, как Кант трансформирует традиционное учение о понятиях, подготавливая почву для своего учения о категориях.
– Сравнение "Logik Dohna-Wundlacken" и "Logik Wiener" (с. 110–115)
На стр. 110–112 анализируется, как в версии 1792 г. ("Dohna-Wundlacken") Кант вводит новые примеры, иллюстрирующие связь логики с трансцендентальной философией. На стр. 113–115 подробно разбирается важное добавление в "Wiener Logik" (1780) – учение о "логической иллюзии", которое позже войдет в "Критику" как учение о трансцендентальной видимости.
– Критика издания Яше (с. 150–155)
На стр. 150–152 Пиндер показывает, как редактор Яше произвольно комбинировал материалы из разных лекционных циклов. На стр. 153–155 приводятся конкретные примеры, когда фрагменты из "Logik Blomberg" (1770-е) были механически соединены с положениями из поздних лекций 1790-х годов, что создает ложное впечатление о единой и неизменной позиции Канта.
3. Hinske, N. Kants Weg zur Transzendentalphilosophie (1970)
– "Logik Herder" (1760-е) (с. 60–65)
На стр. 61–63 Хинске анализирует, как в этой самой ранней версии Кант еще полностью следует аристотелевской классификации суждений, но уже на стр. 64–65 появляются критические замечания о недостаточности чисто формального подхода, где он впервые употребляет термин "реальная логика" (später "transzendentale Logik").
– "Logik Busolt" (1788) (с. 130–135)
На стр. 131–133 показано, как в этой поздней версии Кант прямо связывает формы суждений с категориями рассудка. Особенно важен фрагмент на стр. 134–135, где он в педагогических целях излагает свою знаменитую "таблицу суждений" из "Критики", сопровождая ее подробными примерами, отсутствующими в основном труде.
4. Hanna, R. Kant and the Foundations of Analytic Philosophy (2001)
– "Logik Blomberg" и теория суждений (с. 80–85)
На стр. 81–83 Ханна показывает, как в этой ранней версии Кант разрабатывает свою классификацию суждений, которая станет основой для аналитико-синтетического различия. На стр. 84–85 приводится важное наблюдение: именно в лекциях (а не в опубликованных работах) Кант наиболее подробно обсуждает "модальные" формы суждений, что позже повлияет на логику XX века.
– Влияние "Logik Dohna-Wundlacken" (с. 120–125)
На стр. 121–123 анализируется, как в этой версии Кант развивает учение о "логическом содержании" понятий, что предвосхищает фрегевскую теорию смысла и значения. На стр. 124–125 Ханна показывает связь между кантовским анализом общих понятий в лекциях и более поздними дискуссиями в аналитической философии о природе универсалий.
Список литературы.
Этот список и анализ позволяют проследить эволюцию кантовской логики от ранних вольфианских влияний до зрелой трансцендентальной философии.
1. Kant, I.
– Kant’s gesammelte Schriften (AA), Bd. XXIV (Vorlesungen).
– Logik Blomberg (AA XXIV, S. 25–30).
– Logik Philippi (AA XXIV, S. 45–50).
– Logik Pölitz (AA XXIV, S. 500–520).
2. Pinder, T.
– Kants Logikvorlesungen als Gegenstand der philosophiehistorischen Forschung (1986).
– Анализ Logik Blomberg (с. 90–95).
– Сравнение Logik Dohna-Wundlacken и Logik Wiener (с. 110–115).
– Критика издания Яше (с. 150–155).
3. Hinske, N.
– Kants Weg zur Transzendentalphilosophie (1970).
– Logik Herder (1760-е) (с. 60–65).
– Logik Busolt (1788) (с. 130–135).
4. Hanna, R.
– Kant and the Foundations of Analytic Philosophy (2001).
– Logik Blomberg и теория суждений (с. 80–85).
– Влияние Logik Dohna-Wundlacken (с. 120–125).
Логика (Руководство к лекциям)
Издано Готтлобом Беньямином Яше.
Кёнигсберг, у Фридриха Николовиуса
1800
Прошло уже полтора года с тех пор, как Кант поручил мне подготовить к печати его логику, изложенную им в публичных лекциях перед слушателями, и представить её публике в виде краткого учебного пособия. С этой целью он передал мне свою собственную рукопись, которой пользовался при чтении лекций, выразив особое, лестное доверие ко мне в том, что я, будучи знаком с принципами его системы в целом, легко проникну здесь в ход его мыслей, не искажу и не извращу его идеи, а изложу их с необходимой ясностью и определённостью, соблюдая должный порядок. – Поскольку, приняв на себя эту почётную задачу и стремясь выполнить её, насколько это в моих силах, в соответствии с желанием и ожиданием достойного уважения мудреца, моего глубокочтимого учителя и друга, я должен отчасти отвечать за всё, что касается изложения – формы и разработки, представления и расположения мыслей, – то естественно, что именно мне надлежит дать здесь читателям этого нового кантианского сочинения некоторый отчёт. – Итак, вот несколько пояснений по этому поводу.
С 1766 года профессор Кант непрерывно использовал в своих лекциях по логике учебник Майера (Георга Фридриха Майера «Сокращение умственного учения», Галле, у Гебауэра, 1752) в качестве основного руководства – по причинам, которые он изложил в программе, опубликованной им в 1765 году для объявления своих лекций. – Экземпляр этого учебника, которым он пользовался на лекциях, как и все остальные учебники, служившие ему для той же цели, был проклеен чистыми листами; его общие замечания и пояснения, а также более частные, относящиеся непосредственно к тексту учебника в отдельных параграфах, находятся отчасти на вклеенных листах, отчасти на полях самого учебника. И вот это письменно зафиксированное в разрозненных примечаниях и пояснениях составляет вместе тот склад материалов, который Кант здесь накопил для своих лекций и который он время от времени пополнял новыми идеями, а также пересматривал и улучшал в отношении различных отдельных вопросов. Таким образом, здесь содержится по меньшей мере всё существенное из того, что знаменитый комментатор учебника Майера обычно сообщал своим слушателям в свободно построенных лекциях по логике и что он счёл достойным записи.
Что касается изложения и расположения материала в этом сочинении, то я полагал, что наиболее точно смогу выразить идеи и принципы великого человека, если в отношении структуры и деления целого буду придерживаться его прямого указания, согласно которому в собственно трактат по логике, и особенно в её элементарное учение, не должно включать ничего, кроме теории трёх основных функций мышления – понятий, суждений и умозаключений. Всё же, что относится лишь к познанию вообще и его логическим совершенствам и что в учебнике Майера предшествует учению о понятиях, занимая почти половину всего объёма, должно, согласно этому, быть отнесено к введению. – «До сих пор, – замечает Кант прямо в начале восьмого раздела, где его автор излагает учение о понятиях, – речь шла о познании вообще как пропедевтике логики; теперь следует сама логика».
Следуя этому прямому указанию, я перенёс всё, что встречается до упомянутого раздела, во введение, которое по этой причине получило гораздо больший объём, чем обычно в других учебниках по логике. Следствием этого стало также то, что методология как другая основная часть трактата оказалась тем короче, чем больше материала, который впрочем с полным правом относится нашими новейшими логиками к области методологии, уже был рассмотрен во введении – например, учение о доказательствах и тому подобное. – Было бы столь же излишним, сколь и неуместным повторением снова упоминать эти вопросы на их законном месте, лишь чтобы сделать неполное полным и расставить всё по своим местам. Однако последнее я всё же сделал в отношении учения о определениях и логическом делении понятий, которое в учебнике Майера уже относится к восьмому разделу, а именно к элементарному учению о понятиях; этот порядок Кант сохранил и в своём изложении.
Само собой разумеется, что великий реформатор философии и – что касается структуры и внешней формы логики – особенно этой части теоретической философии, согласно своему архитектоническому замыслу, основные черты которого намечены в «Критике чистого разума», обработал бы логику, если бы ему это было угодно и если бы его дело научного обоснования всей системы собственно философии – философии реального истинного и достоверного – это несравненно более важное и трудное дело, которое только он один мог впервые выполнить в своей оригинальности, позволило бы ему подумать о самостоятельной разработке логики. Однако эту работу он вполне мог поручить другим, которые, обладая пониманием и беспристрастным суждением, могли бы использовать его архитектонические идеи для действительно целесообразной и стройной разработки и изложения этой науки. Этого следовало ожидать от нескольких основательных и непредвзятых мыслителей среди наших немецких философов. И Кант с друзьями его философии не были обмануты в этих ожиданиях. Несколько новых учебников по логике в большей или меньшей степени, в отношении структуры и расположения целого, могут рассматриваться как плод этих кантианских идей о логике. И то, что эта наука действительно выиграла от этого, – что она, правда, не стала ни богаче, ни по существу содержательнее или более обоснованной в себе самой, но зато очистилась, отчасти от всех чуждых ей элементов, отчасти от многих бесполезных тонкостей и просто диалектических игрушек, – что она стала более систематичной и при всей научной строгости метода одновременно проще, – в этом должен убедиться всякий, кто имеет правильные и ясные понятия о своеобразном характере и законных границах логики, даже при самом беглом сравнении старых учебников по логике с новыми, разработанными согласно кантианским принципам. Ибо как бы ни выделялись многие из старых руководств по этой науке научной строгостью метода, ясностью, определённостью и точностью в объяснениях, а также убедительностью и очевидностью доказательств, почти ни одно из них не свободно от того, что границы различных областей общей логики в широком смысле – пропедевтической, догматической и технической, чистой и эмпирической – переплетаются и смешиваются так, что одно невозможно отчётливо отличить от другого.
