И остыли берега. Фантастическая утопия
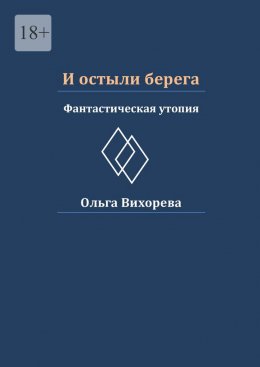
© Ольга Вихорева, 2025
ISBN 978-5-0067-7747-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
И остыли берега. Сквозь мёртвую корку спёкшейся кожи Земли, из трещин, взломанных силою Жизни, пробились тонкие, налитые стремлением впитать свет, первые ростки осота.
Но не было света. Чёрное с серым полотно неба не пропускало его к испепелённой Земле.
Спираль событий сжалась в кольцо, и на определённом отрезке времени неизменно повторялся один и тот же исход, как дурной сон человечества. Ни опыт прошлых цивилизаций, ни истошные призывы к благоразумию не приводили к исполнению Божественного замысла, и борьба Добра со Злом стала вечной, раскачивая безумные весы справедливости, лишая их смысла равновесия и смысла бытия.
Часть 1
Бабаня
– По дороге разочарований снова зачарованный пойду! – дурнинушкой орал в ванной Максим. «Видать, бреется», – Бабаня ухмыльнулась и перевернула блин. Нынче даже первый не был комом, значит, у Максимки день будет хорошим, без заковырок. Эта примета работала уже лет тридцать, как только он впервые с радостным визгом схватил с подноса горячий блин и вонзил в него свой единственный молочный зуб.
Начинать субботу с блинов – добрая традиция их маленькой дружной семьи, где первые семь лет Максимка звал ее Аннушкой, и только пойдя в школу, повысил до Бабани, ловко соединив имя и звание в одно слово. Бабанин сын, отец Максима, погиб уже после Третьей Мировой войны, а мать умерла через месяц после родов. «Слабенькая была», – утирая пухлой рукой мокрые глаза, говаривала Бабаня в дни памяти, разливая вишнёвую наливку по маленьким граненым рюмочкам. Эти дни сближали их, отодвигая бесчисленные споры и обиды по мелочам, обнажали родство душ и невероятную схожесть в мимике и повадках, как будто окутывая невидимой шалью тёплого единения два поколения одной семьи.
Максим ворвался в кухню мокрый, довольный, босоногий, с взлохмаченной рыжей шевелюрой, в мокрых же шортах рухнул на стул и всплеснул руками:
– Ну, ты почему опять на старой сковородке блины жаришь? Я же тебе «умную» блинницу подарил!
– Ой, да привычнее на старой, меня уже твой умный дом так достал, что скоро совсем на дачу съеду, будешь тут один куковать. Ни дверь открыть-закрыть, ни унитаз смыть, ни даже комнату проветрить – орёт твоя Катька как блаженная про то, что я застужу тебя, драгоценного.
– Так я ж её отключал, вроде бы…
– А я вместо выключателя в прихожей по пульту попала, вот она и опять тут.
– А чего молчит?
– А мы поссорились.
Максим громко захохотал басом, прихлопывая по коленкам, понимая, что хитрая Бабаня сама включила ИИ, чтобы «не сдохнуть со скуки в ваших каменных джунглях». Она не любила все эти «новомодные штучки», по-прежнему звонила ему по смартфону, пугаясь, когда в саду возникал его аватар1, уничижительно называла ИИ «ишаком» и высаживала морковь на высокую грядку.
Суббота выдалась на редкость пакостная, солнце жарило с раннего утра, и кроме крытого бассейна с кондиционером морского бриза на втором уровне ехать никуда не хотелось. Но Бабаня ещё с вечера твердила ему про дачу, и «отмазаться не получится, заводи свой драндулет, да панамку не забудь». Максим просто помешан был на головных уборах и обуви, и Бабаня не упускала возможности поддеть его всякий раз, когда заставала в прихожей, замершего перед гардеробом с кучей кепок и кроссовок.
Армагеддон2
Выехав за Город, Анна добавила скорости, пытаясь уйти от невозможного, нереального ужаса, свершившегося три дня назад. Всё, что казалось незыблемым в её внутреннем мире, было разрушено безумием мира внешнего. Она, ещё молодая женщина, месяц назад отметившая своё сорокалетие в шикарном ресторане в кругу близких и друзей, заодно собравшихся «на кашу» к её драгоценному внуку, осталась вдруг совсем одна с грудным младенцем на руках.
И ей, не привыкшей принимать решения, всегда и во всем полагавшейся на сильного, любящего и любимого мужа, было невероятно страшно. Страшно от воспоминаний о гибели своих близких, от сюрреалистичных картин взрывающихся улиц и домов, от падающего на головы растерянных людей кроваво-красного неба.
Как могло случиться такое, ведь пришла долгожданная Победа, вернулись с войны муж и сын, счастливая Алечка показала ей в окно роддома запеленатого в белоснежные кружева внука, а обожаемые сваты Иришка и Коля обозвали её «юной бабкой».
Вообще, Анна не интересовалась политикой, и когда прозвучало «война», не сразу поняла, что произошло. Да, в мире не было стабильности, да, где-то у окраин её страны бомбили города с мирными жителями, экраны телевизоров и интернет кричали о новой мировой войне. Она плакала, думая о безвинно убитых детях, приносила в пункты сбора гуманитарной помощи лекарства и тёплые носки для солдат… Но если по телевизору показывали новости с фронта, переключала на другой канал с очередным детективным сериалом или мелодрамой.
Тем октябрём они собирались сыграть свадьбу сына, вместе с будущими сватами выбирали ресторан, но Анины родители, жившие в ста километрах от Города, настояли, чтобы торжество состоялось у них в Деревне, на природе, благо, осени в последние годы были тёплыми – «затяжными». А в сентябре, одним из дождливых вечеров, муж с сыном пришли с работы с виноватыми лицами, долго шептались в прихожей, в то время как она варила им традиционный «послетрудовой» кофе, и, усадив её вместе с собой за стол, долго молчали, пока сын, не выдержав, бухнул:
– Мы записались добровольцами, мам.
Анна сначала не поняла, о чём это он. У обоих Александров была «бронь» оборонного завода, и она уверилась в их безопасности, в том, что война пройдет мимо её семьи, что они вносят свой вклад, делая огромные военные машины для фронта… Муж и сын смотрели на неё исподлобья, одинаково настороженные, ожидая реакции на пугающую новость. Пугающую? Анна застыла от безысходности, от своей невозможности что-то исправить, или просто закатить истерику, заплакать, наконец. Сидела, сцепив руки на коленях, с сухими глазами, прямой спиной и совершенно пустой головой. До неё медленно доходило, что произошло.
– А как же свадьба? – глупо спросила она, как будто сейчас это было самым важным.
Ее мужчины облегчённо рассмеялись, муж достал из буфета «новогодний» коньяк, рюмки, разлил со своей неизменной приговоркой «на троих – святое дело». Анна вскочила, засуетилась, готовя скорую закуску, поранила палец, нарезая сыр. Саша-старший отобрал у неё нож и, мягко повернув за плечи, усадил за стол.
– Мамуличка, мы с Алей послезавтра распишемся, уже узнавали, нам идут навстречу. А свадьбу можно и не делать, ты только бабе Вере и деду позвони, пожалуйста, сама, а то они меня даже на расстоянии убьют, – затараторил сын, неловко улыбаясь и расставляя тарелки с закусками на столе.
На мобилизационный пункт молодые приехали прямо из ЗАГСа, окружённые толпой родственников и друзей. Вместе с Сашей-младшим уходили добровольцами два его самых близких друга, поэтому провожающих утроилось. Все пытались смеяться и шутить: мужчины (и уходящие, и остающиеся) бодрыми голосами вели разговоры о положении на фронте, о внешней политике, старики вспоминали курьёзные случаи из армейской жизни.
Анна стояла как вкопанная, нелепо улыбаясь кривым ртом, кивками отвечая на поздравления с бракосочетанием сына, и сдерживалась изо всех сил, чтобы не зареветь в голос, по-бабьи, навзрыд, с криками и причитаниями, как это всегда было на Руси. Чтобы не броситься к мужу, повиснув у него на шее, зацеловав любимое лицо до последней щетиночки, не отпустить, укрыть, защитить… И тут она увидела Алю, с огромными карими глазами на грани слёз, вцепившуюся в Сашу-младшего тонкими пальцами, в белом шелковом платье, стянутом на узкой талии сиреневым поясом из парчи, и с огненно-рыжей косой, перекинутой за спину. «Девочка моя», – подумала с нежностью Анна и подошла к сватье. Та обняла её, прижалась всем телом, и Анна почувствовала мелкую дрожь, впервые увидев эту статную красивую женщину растерянной и испуганной. Так они и стояли, обнявшись – невысокая кругленькая Аня и стройная «модельная» Ирина, обе с влажными синими глазами и накрепко сжатыми губами. Чтобы не разреветься.
Дача
Дачей Бабаня называла старенький, но ещё крепкий дом своих родителей в той самой Деревне, устоявшей после Взрыва благодаря своему расположению – далеко от Города и в низине, в пойме реки. Родители, рано выйдя на военную пенсию, затеяли разводить сад из экзотических деревьев, да зоопарк, из не менее экзотических птиц. Сейчас сад поредел, давно разлетелись и разбежались кто куда птицы (чему Бабаня была даже рада), и теперь она с гордостью «фоткала» свой «горный огород», и занимала призовые места на сельскохозяйственных конкурсах. Почему горный? Так участок расположен на склоне, грядки, соответственно, были террасные, красивым каскадом нисходящие к реке.
Прохлада кирпичного дома встретила Бабаню и Максима уже на пороге, едва они открыли дверь.
– А-а-а, какое блаженство, – Максим рухнул на диван, сдёрнув майку. – Нет, ба, все-таки у тебя здесь рай.
– Так он тут и у тебя, – усмехнулась Бабаня. – Лезь в погреб, варенья к чаю достань.
Максим вышел на улицу и направился к зеленому холму в глубине двора. Спускаясь по бетонным ступеням, он вспоминал, как малышом сидел на них ранними утрами, дожидаясь, пока Аннушка подоит козу. Бабаня рассказывала, что однажды, в очередном «походе за жизнью» они случайно нашли не до конца разряженный аккумулятор в разбитой машине, и целых два вечера читали книжки. Погреб тогда был для них и домом, и укрытием, и крепостью. Дым из печной трубы мог привлечь нежеланных гостей – мародеров хватало. Аннушка собрала весь арсенал оружия, хранившийся в доме – муж с сыном были заядлые охотники. Да и наградной пистолет отца пригодился, она ведь поначалу только из него и умела стрелять. В первую после глобальной катастрофы зиму в деревню пришли волки. Именно тогда Аннушка с внуком перебрались в погреб – и от всяких выродков, шастающих по заброшенным домам, и от зверя. Пригодилась и печка на соляре, и запас топлива, всегда имевшийся у добрых охотников, и блиндажные свечи, которых родители немало наготовили для фронта, да не успели отдать – война закончилась…
Вернувшись с вареньем, Максим застал Бабаню за странным занятием: высунув от усердия кончик языка, она старательно что-то чистила в кухонной раковине.
– Поставь, иди лука нарви на салат, – «без отрыва от производства» сказала она.
А когда внук принёс и лук, гордо выдернула за хвост из мойки здоровенного леща и воскликнула восторженно:
– Во, видал!
И, опережая вопрос, разъяснила:
– Никитка принёс.
Никитка, а иначе – дед Никитос, как называл его Максим, был одноклассником Анны, пришел к ним в школу в шестом классе, когда его родители переехали в Город из бывшей союзной республики. Отца, выдающегося инженера, переманили с другого оборонного завода на их предприятие. Семьи сдружились, вместе отмечали праздники, а потом приобрели по «домику в деревне», соседствуя и там. Никита стал кадровым военным, пойдя по стопам Аниного папы, которого боготворил.
Потерявший на войне здоровье и левую руку, после Первой Зимы он приехал в Деревню, даже не надеясь встретить там живую душу. Радости Анны не было предела, когда она, стоя посреди огорода с лопатой в руке и маленьким Максимкой в «кенгурятнике» за спиной, увидела в воротах старого друга.
– Я в очередной раз в госпитале лежал, – прихлебывая горячий травяной чай, рассказывал Никита, – готовили к тестированию биопротеза. Разработка-то новая, мне третьему его поставили. Теперь уж без тестирования как-то, привык за полгода, удобным оказался.
При первой встрече они не вспоминали о погибших родных, да и потом не смогли преодолеть барьер молчания, слишком больными и невозможными были события того страшного сентября, когда в один день исчезли с лица земли целые государства. Но об этом Анна с Никитой узнали позже, когда с началом тепла в Деревню потянулись выжившие, занимая пустующие дома и ремонтируя покосившиеся заборы. К июлю до них добрались электрики, к которым примкнули Никита и ещё трое мужчин из пришлых, а «наладив свет», уже все вместе на закопчённом УАЗе поехали дальше – восстанавливать линию. Женщины потянулись к Анне за семенами и советами, вечерами собирались то в одном доме, то в другом, по очереди укачивали на коленях Максимку и говорили, говорили…
Лещей была пара, и на сковородку они не вмещались, тогда Бабаня велела разжечь мангал во дворе, и мужики наперегонки рванули в двери. Чтобы не было скучно, Анна устроила им соревнование: кто быстрее найдет в погребе её знаменитую вишнёвую наливку, «куда-то запропастившуюся ещё с той осени» последнюю бутылку прошлогоднего урожая, тот будет удостоен специального приза. Молодой и ловкий Максим вчистую проиграл хитрому деду Никитосу, который недаром был военным разведчиком и знал много всяких отвлекающих манёвров. Нарочито быстро метнувшись к погребу, он дал Максимке себя обогнать, и когда тот стал спускаться по ступеням внутрь, развернулся, и штатной рысцой (чтобы не издавать лишнего шума) обогнул насыпь погреба с тыла. Он-то знал свою давнюю подружку, наверняка бутыль перепрятала, а куда ещё, как не в приямок за бугром, сооружённый для отвода небесной водицы? Вот она, голубушка, тут и лежит.
– Главный приз победителю соревнований – почётное право развести мангал! – громко возвестила Бабаня. Максим хохотал до упаду, чуть не валяясь по траве, когда дед Никитос застыл с бутылкой в руке, разинув рот и вздёрнув от негодования брови, услышав, какой «приз» ему уготовила «старая лиса».
Ужин удался, на огонёк подтянулись мать и дочь Смирновы с соседней усадьбы, бывающие «на дачах» редко, и называющие свой запущенный участок садом в русском стиле. Бабаня хлопотала вокруг гостей, с выражением поглядывая на внука и стараясь привлечь его внимание к младшей Смирновой, Лидии, девице миловидной и томной, студентке художественного училища.
Молодые люди переглядывались, усмехаясь в кулак, чтобы Бабаня не заметила. Отношения между ними были устоявшимися дружескими, так, ходили вместе на выставки и спортивные праздники, но никаких лирических чувств между Максимом и Лидией не намечалось.
К концу вечернего застолья они заскучали и ушли в сад, досмерти напугав Бабаню, когда та решила взглянуть «чем ребята заняты» и увидела целую толпу разновозрастных людей, расположившихся среди старых деревьев. Больше всего её поразил бородатый мужик с молотком, сидящий на скале, занесённой снегом, даже больше, чем парочка с коктейлями в руках и в шезлонгах, за спинами которых зеленел океан. То, что это океан, Бабаня поняла сразу, хотя ни разу его «живьём» не видела, и грустно вздохнув («опять аватары»), ушла в дом.
Меж тем, в саду разворачивалась нешуточная дискуссия о будущем планеты, о том, как не допустить новой войны или Апокалипсиса, а также о том, что всё-таки самые вкусные беляши – на Манхэттене.
Никита
В этот раз всё было по-другому, даже больничный запах из смеси лекарств и мытых полов казался родным и приятным, успокаивал. Первая примерка биопротеза должна была состояться с минуты на минуту, волновались собравшиеся в перевязочной врачи и медсёстры, большинство из которых подтянулись из других отделений госпиталя, повинуясь профессиональному, да и простому человеческому любопытству, но сильнее всех волновался «виновник торжества».
Протез выращивали в экспериментальной лаборатории медико-технического института, и разработка эта была ещё недостаточно обкатана. Никита сразу согласился стать одним из первых испытателей новинки, надеясь обрести взамен ампутированной по плечо руки не просто протез, а работоспособную конечность.
Профессор Новиков, как всегда пунктуальный, торжественно внёс в кабинет длинный металлический чемоданчик и поставил его на заранее приготовленный стол.
– Приветствую, коллеги. Никита Олегович, Вы готовы? – без лишних церемоний светило травматологии снял повязку с плеча пациента и придирчиво осмотрел торчащие из плоти тонкие нити искусственных нервов. – Валентина Сергевна, начинаем, – дал команду профессор и открыл чемодан. Никита с удивлением увидел внутри толстую желеобразную «колбасу» и, вопросительно вскинув брови, обвёл взглядом врачей, стоявших шеренгой у стены, затем посмотрел на довольное лицо профессора и сосредоточенную Валентину Сергеевну. Все были профессионально спокойны, видимо, зная, что увидят. Желе оказалось просто «упаковкой» протеза, а сама искусственная рука была вполне приличной, похожей на руку манекена, которого собирают перед тем, как одеть и выставить в витрину модного магазина.
Первая неделя прошла в тревоге: приживётся – не приживётся. Жёстко зафиксированный протез мешал спать, постоянно чесался и зудел под повязкой, но, видимо, вёл себя правильно, так как доктор Новиков после каждого осмотра довольно ухмылялся и говорил «ну-ну». На десятый день Никита проснулся от громкого далёкого гула, окончившегося землетрясением, выбитым окном, криками и топотом множества ног в больничном коридоре. Выскочив из палаты, он влился в бегущую толпу медработников и пациентов, отовсюду слышались крики «завод!», в панике люди мешали друг другу, кто-то упал, и его сразу подхватили бегущие следом, с улицы раздался истошный вопль сирены, свет погас, а небо в окнах мелькающих мимо палат стало багрово-красным. Госпитальный парк был заполнен людьми, с ужасом гладящими в сторону города, откуда накатывала тяжелая туча цвета крови, накрывая многокилометровый лесной массив, разделяющий городские окраины и военный городок, в котором располагался госпиталь. Вдруг, над притихшими людьми пролетела команда: «Всем немедленно спуститься в цокольный этаж!». Никита где-то за гранью сознания отметил, что говорят в мегафон, что паники больше нет, все, начиная от врачей и заканчивая пациентами стали собранными, по-военному сосредоточенными, всё подчинялось единому ритму и смыслу. С верхних этажей спускали лежачих больных, медицинское оборудование и медикаменты, огромные термосы с приготовленным завтраком, матрасы и тюки с бельем. В подвале уже заработали аварийные электрогенераторы, медсестры и санитары размещали людей, успокаивали, одновременно прижимая к себе перепуганных шипящих кошек, постоянных жителей больничных подземелий, пытались по проводной связи дозвониться до МЧС и делали всё одновременно чётко и слаженно. Армейская дисциплина и фронтовой опыт давали о себе знать.
К вечеру стало известно, что завода и почти половины города нет – взрыв неимоверной силы сравнял с землей сотни гектаров территории промышленной окраины и прилегающие к ней жилые кварталы. Дежурный из штаба сообщил, что служащие гарнизона отправлены в помощь городским службам для спасения людей из-под завалов, почти все больницы сильно пострадали, первая городская и перинатальный центр разрушены полностью, поэтому просят подготовить госпиталь к приемке раненых. Осень стояла тёплая, но в помещениях с выбитыми окнами гулял ветер, а про стерильность операционных и других лечебных помещений и говорить было нечего. Этот вопрос нужно было решить первым, так как в цокольном этаже едва разместились одна операционная и три «палаты» для лежачих. Все остальные пациенты, находившиеся в госпитале на плановом обследовании или дневном стационаре, автоматически вошли в штат персонала.
Тяжелая физическая работа и постоянно занятая решением множества проблем голова не давали отчаянию сломить волю, утонуть в горе безвозвратных потерь, спиться, наконец, как это случилось с другими, не сумевшими пережить трагедию. Через два месяца Никита перестал искать Аннушку с Максимом, которые в момент взрыва должны были находиться далеко от эпицентра, в парке развлечений. Его родители, два Аннушкиных Саши, и все остальные заводчане, бывшие на смене в тот страшный день, погибли. Не выжил никто. Как и жители ближайших заводских домов, в одном из которых находились его жена с маленьким сыном и родители Аннушки, приехавшие погостить к дочери и поводиться с правнуком.
Максим
Дачная мансарда была полностью переоборудована сразу после Максимкиного распределения. Дописывать диплом пришлось в разрухе капитального ремонта, а защищать его – на фоне недокрашенных стен, что вызывало неизменную усмешку у высокой экзаменационной комиссии.
Реконструкцию внутреннего пространства мансарды затеяла Бабаня, великодушно поделив её ровно пополам, тем самым вдвое уменьшив свою «студию». Внук продолжал называть Аннушку этим именем и став взрослым.
– Давно надо было этот хлам утащить в подвал, – пыхтела она, спуская очередные «шедевры» по деревянным скрипучим ступеням вниз. Максим бережно разбирал кладовку под косой крышей, откладывая в сторону понравившиеся картины для своего будущего кабинета. Он так и не стал знаменитым художником, как мечтала Бабаня, но династия состоялась, внук входил в сотню лучших компьютерных дизайнеров страны.
Свои первые работы Максим отправил на региональный конкурс ещё в одиннадцать лет, и стал безусловным победителем, участвуя в нём наравне со взрослыми маститыми дизайнерами. Уже тогда он «заболел» интерьерами внутренних пространств и ландшафтами, мечтая преобразить разрушенные города и сёла, восстановить утраченную архитектуру древних зодчих, вернуть миру исторические здания и парки. Вот так, и не меньше. Далеко идущие планы воплотились в дипломный проект по воссозданию храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного на северной окраине родного города. После ударной волны взрыва на заводе, нетронутыми сохранились только здание женского монастыря да колокольня. Архитектором проекта была Анна, вернувшаяся в профессию по приглашению и по необходимости. При этом, конечно, не забывая о творчестве.
Растить внука-вундеркинда было непросто, но Аннушка быстро нашла, чем занять мелкого непоседу, когда они переехали из погреба обратно в дом, и мальчишка впервые попал «на чердак». Годовалый Максим восторженными глазами оглядывал мольберты и картины, в художественном беспорядке расставленные в мастерской. Крыша-окно слепила ярким солнцем, причудливо отражаясь в акварели и масле Аннушкиных «шедевров». С победным визгом он схватил банку с кисточками, шлёпнулся на попу и зашёлся басовитым смехом, радостно взирая на Аннушку. «Ну вот, кажется, одним художником в доме больше», – умилилась она.
В три года Максим уже вовсю рисовал пастелью, и, в отличие от бабки, всё-таки, отдавал предпочтение карандашам и углю, которым измазывался напрочь, видимо, планируя стать не только известным художником-графиком, но и шахтёром-передови-ком. В пять лет он добрался до прадедовой библиотеки, выучился читать, терроризируя соседских школьников, и в семь был отдан в деревенскую школу – «от греха подальше». Учить внука дистанционно Аннушка категорически отказалась, хотя, не смотря на разруху, а может именно из-за неё, большинство учебных заведений работали удалённо – интернет был восстановлен полностью через полгода после всемирной катастрофы.
Отечественные спутники связи не пострадали, и прежде бывший только в разработке «свой» интернет быстро «довели до ума». Слава Богу, научные центры страны находились вдалеке от химпроизводств, подвергшихся атаке по всему миру, из-за чего произошли повсеместные взрывы и глобальные разрушения.
Из интернета и возродившихся газет жители Деревни узнали, что ни один континент не остался в стороне от трагедии, имевшей необратимые последствия. Не раскрывая детали произошедшего, СМИ скупо сообщали о том, что по итогам расследования Международной Комиссии Катастроф, созданной в считанные дни, было выявлено, что её причиной стали действия нейросети, получившей команду взорвать один из химических заводов. Но в какой именно стране, от кого поступила команда – от террористов или спецслужб – так и не было выяснено, в силу утери первоначальных данных.
То, что искусственный интеллект сам принял решение, посчитав наиболее эффективным способом покончить с противником уничтожив все химические производства на планете, не подлежало сомнению. На момент диверсии они были оборудованы одним и тем же программным обеспечением, благодаря чему ИИ смог беспрепятственно взломать защиту каждого и замкнуть управление на себя, до предела разогнав реакторы. Осознав несовершенство контроля над искусственным интеллектом, впоследствии был создан «Всемирный центр безопасности управления нейросетями» (ВЦеБУН), штаб-квартира которого располагалась в Северной Столице. Именно в этот Центр и получил распределение Максим, в отдел индивидуального проектирования (ОтИП).
Бабаня
В голове привычно тумкало, на дворе заливался лаем Барбос, а с кухни доносились запахи свежезаваренного чая и котлет. Сладко потянувшись, Бабаня спустила ноги с дивана и погладила правое колено. «К дождю», – ничуть не сомневаясь в «барометре», вставая, отметила она. Натянув шорты и футболку, сунув ноги в спортивные тапки и пригладив рукой непокорные седые кудри, неторопливо вышла во двор. Умываться на свежем воздухе ледяной водой вошло у нее в привычку уже давно, и этим пасмурным утром Бабаня, не изменяя себе, направилась к умывальнику под грушей.
– Ба, пойдём завтракать, я котлет нажарил, – крикнул в кухонное окно Максим.
– Иду, – про себя улыбнувшись внуковой заботе, Бабаня плеснула в лицо вкусной колодезной водой.
Споласкивая и вытирая полотенцем скрипящие от чистоты тарелки, Максим подшучивал над вчерашним Бабаниным испугом в саду, икал от сытости, и прихлебывал остывший чай.
– А что был за мужик вчера? С молотком на скале? – спросила та, подавая внуку очередную тарелку.
– Это академик Завадов, бывший завкафедрой. Ну, который нас, студентов, в походы водил, помнишь? Не узнала его «в бороде»?
– Да как узнать? Он ещё и в шапке, и очки на лбу. А почему «бывший»? Он что, из института ушёл?
– Ушёл. Он сейчас работает у нас в ОтИПе. Ну что, на речку? Пока не жарко.
В свои семьдесят Бабаня продолжала лихо гонять на велосипеде летом и на лыжах – зимой. И Максим, приезжая в деревню, с радостью к ней присоединялся, игнорируя стоящий в гараже «Донат-23» на магнитно-динамической подушке – усовершенствованный потомок мотоциклов-вездеходов Прибыльского начала века. Они мчались по асфальтовым улицам разросшейся до размеров крупного села деревни, мимо садов и огородов, дурманяще пахнущих трав, тонущих в кронах деревьев разноцветных крыш, туда, к быстрой узкой реке, песчаному пляжику и долгожданному ничегонеделанию под раскидистой ивой.
После отъезда Максимки Бабаня долго сидела на скамейке у дома, перебирала спелую вишню, каждую третью отправляя в рот, улыбалась своим неторопливым мыслям и маялась предчувствием новой картины, сюжет которой сформировался сегодня на пляже, когда начался ливень. «Не подвела коленка», – удовлетворённо подумала Бабаня и обернулась на скрип калитки. Барбос привычно путался в ногах входящего Никиты, тот также привычно на него ворчал, неся в вытянутых руках здоровенный арбуз. Бабаня сдвинула на край скамейки тазик с вишней, освободив место под гостинец, неспеша вынесла из дому длинный нож на круглом подносе и пошла к беседке.
Пока Никита нарезал арбуз, Анна, задумавшись, сидела, подперев ладонью щеку.
– Новую картинку замышляешь? – прозорливо спросил старый друг.
– Не-а. Вспомнила, как Максимка после лыжного похода болел, – Бабаня выбрала самый большой «полумесяц» с подноса и стала ногтем выколупывать семечки.
– Это когда он с бревна в горную речку бултыхнулся? – уточнил Никита. – Его ещё тогда Петрович вытащил. Ну, профессор их.
Она вдруг снова пережила тот неподдающийся никакому контролю животный страх, который обуял её по дороге в больницу после звонка Никиты, служившего начальником хозчасти госпиталя.
Влажные ладони с трудом удерживали руль на поворотах, испуганно сигналили встречные автомобили, а взбесившийся спидометр загнал стрелку далеко за сотенную шкалу.
На соседних койках в палате лежали спасённый и спаситель, доставленные с Южногорья санавиацией, оба с воспалением лёгких, высоченной температурой и обмороженными пальцами ног. Никита, успокаивая, гладил Анну по плечу и шептал: «Всё хорошо, Аннушка, уже всё хорошо…».
Бабаня прослезилась, вспомнив тот день, с благодарностью глядя на постаревшего друга юности, и тут же рассмеялась, утирая кулачком глаза, увидев подле себя гору арбузных корок. И не заметила, как «сметала» пол арбуза. Для них с Никиткой уничтожить один арбузище на двоих – привычное дело. И как у него получалось вырастить в средних широтах сахарные астраханские сорта, оставалось загадкой для всей деревни, но бахча на высоком песчаном берегу приносила урожай, которым снабжались все друзья и знакомые Никиты в избытке.
Воспоминания накатывали ближе к ночи, как только Бабаня ложилась в тёплую белоснежную постель. Галерея знакомых лиц и событий вставала перед глазами явственно, будто хорошо срежиссированный фильм. Вот и сегодня картина первых лет после Взрыва мелькала отрывочными кадрами под закрытыми веками, заставляя с новой силой переживать то нелёгкое, полное горя и потерь время.
Разрушенные города требовали сил и средств на восстановление. Начавшаяся ещё до войны программа развития частного домостроения, имевшая целью не только обеспечить жильём, но и освоить большую часть пустующих территорий, получила наимощнейший толчок после трагедии. Эвакуация населения из зараженных эпицентров вначале шла в районы, не пострадавшие от взрывов, но потом остро встал вопрос расселения людей из офисных зданий, ДК, школ и спорткомплексов, где они были временно размещены. Необходимо было строить быстро, надёжно и основательно, бытовки и вагончики здесь не годились.
Вот тут и вспомнили про Анну, которая в числе других архитекторов, ранее отошедших от дел по разным причинам, оставалась «в обойме», много лет являясь куратором дипломных проектов студентов строительного института. На онлай-совещании по проблемам массового жилищного строительства, Анне предложили подключиться к её бывшему дипломнику и войти в производственную группу специалистов по строительству домов при помощи три-дэ принтеров. Технологию доводили до ума в процессе работы, и, в конце концов, всё получилось.
В момент принятия решения, Анна сосредоточенно искала выход из создавшегося положения: Максимке не было и двух лет, а работа предполагала хоть и редкие, но обязательные выезды на объекты. Как всегда, на помощь пришёл Никита.
– У нас в госпитале девчонки что-то вроде детсада организовали, там и малышня есть, пусть в обществе побудет, пока ты в командировках, а уж по хозяйству мы и без тебя разберёмся. Мужики, всё-таки, не пропадём.
